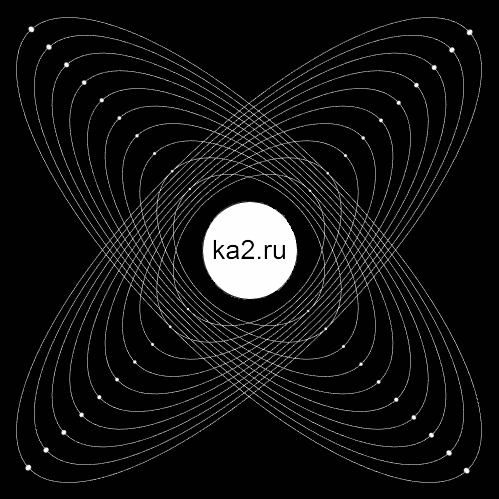Иванов Вяч.Вс.
Два образа Африки в русской литературе начала ХХ века:
африканские стихи Гумилёва и «Ка» Хлебникова
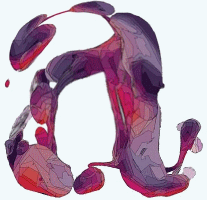
фриканская тема была завещана русским писателям далёким прошлым православия. Предыстория культурных связей восточно-христианских традиций Африки — эфиопской (в прежней русской терминологии — абиссинской) и коптской — с теми европейскими, которые, как церковнославянская, вошли в орбиту византийского влияния, уходит в средние века. Коптские истоки глаголицы предполагал Фортунатов; позднее египетско-коптско-славянские связи демонстрировал Н.А. Мещерский (в частности, в своем докладе на конференции к юбилею Шампольона в Эрмитаже, в Ленинграде в 1972 г.
1
). Коптское (а через него и более раннее египетское) воздействие на европейские литературы, замеченное проницательным Ф. Батюшковым в его основополагающих трудах,
2
подтвердилось позднейшими работами в отношении западных традиций
3
и по-новому было оценено в свете открытий коптских гностических текстов из Наг-Хаммади. Вместе с тем оказалось, что исследовавшиеся Батюшковым египетские представления о теле и душе (где последней отводится роль если не отрицательного, то сомнительного начала) через орфическое и пифагорейское учения повлияли на греческую и последующую европейскую традицию.
4
Это подтверждается и в отношении некоторых памятников, созданных в славянских странах, как старочешское прение Души с Телом. Как показал Батюшков, поддержанный Якобсоном,
5
старочешский текст отличается от многих аналогичных западноевропейских, обнаруживая в то же время черты сходства со средневековым армянским поэтическим сочинением о душе, что подтверждает ранневосточнохристианский источник этих произведений. Типологическое или, скорее всего, генетическое сходство с египетско-коптским умалением роли души обнаруживается в тех местах старочешского диспута, где душа проигрывает в споре, и Христос говорит своей матери, что душа его мучила.
6
Следы той же, скорее всего ещё общеславянской, традиции видны и в ранних текстах литературы Древней Руси: так, воздействие тех же прообразов может быть предположено в деталях ораторских композиций Кирилла Туровского, где по-новому обыгрывается архетипическая символика души и частей тела.
7
Обновление интереса к коптской традиции было частью того русского культурного и религиозного возрождения конца XIX и начала XX в., которое этой своей стороной связано, прежде всего, с многообразной историко-церковной, филологической и исторической деятельностью Б.А. Тураева. Он же был и основателем русского научного эфиоповедения, что, в конце концов, привело к Тураеву и Н.С. Гумилёва уже после первых его поездок в Африку. К концу XIX в. возрождаются религиозные и культурные связи, соединявшие Россию с единственным сохранившим раннюю веру восточнохристианским государством Африки — Абиссинией (древней и будущей Эфиопией). Начинаются — сперва вполне несерьёзно — и попытки установления политических и военных контактов. К этому времени относится авантюра искателя приключений “вольного казака” или “атамана” Николая Ивановича Ашинова, в 1883 г. посетившего Абиссинию и, обманно выдав себя за русского официального представителя, установившего связи с тогдашним негусом Иоанном. В 1889 г. вторая авантюра Ашинова, попытавшегося основать в Джибути русскую колонию, окончилась провалом из-за вмешательства французских чиновников, его арестовавших.8 Возможно, что Гумилёв слышал об этих событиях, происшедших за два десятилетия до его увлечения Африкой. Определённо он знал о замыслах полковника Л.К. Артамонова, в 1897 г. уговорившего султана Рахэйты перейти в русское подданство. По этому поводу Гумилёв, мечтавший о путешествии в эти края, писал в своем «Африканском дневнике»:
Возможно, что Гумилёв слышал об этих событиях, происшедших за два десятилетия до его увлечения Африкой. Определённо он знал о замыслах полковника Л.К. Артамонова, в 1897 г. уговорившего султана Рахэйты перейти в русское подданство. По этому поводу Гумилёв, мечтавший о путешествии в эти края, писал в своем «Африканском дневнике»:
У меня есть мечта, живучая при всей трудности её выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение р. Гаваша, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится ещё один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было — совсем было приобрёл его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало.
9
Артамонову, как прежде него Ашинову, помешали французские власти, оберегавшие своё влияние в этой части Африки и протестовавшие против артамоновской попытки заменить его российским. Гумилёв хотел было пройти по этому маршруту в своей последней экспедиции, но субсидировавшая его Академия наук нашла проект слишком дорогим. Ему, как до него Артамонову, отказали. Он вынужден был пройти не с юга на север, а только часть того же пути с севера на юг — от Харрара и Ганами до Гинира — и далее снова на север, к среднему течению Аваша.10 Но нижнее течение этой реки так и не было им изучено. Эта часть африканского рога тогда не нашла русского открывателя. Сохранилась карта экспедиции в Данакильскую пустыню, набросанная Гумилёвым.11
Но нижнее течение этой реки так и не было им изучено. Эта часть африканского рога тогда не нашла русского открывателя. Сохранилась карта экспедиции в Данакильскую пустыню, набросанная Гумилёвым.11 Возвращаясь за несколько месяцев до смерти к манившей его теме африканской охоты на леопарда, образ будущей гибели охотника от призрака убитого животного Гумилёв связывает с оружием члена этого племени, с которым скорее всего он познакомился ещё в первых своих поездках в Эфиопию:
Возвращаясь за несколько месяцев до смерти к манившей его теме африканской охоты на леопарда, образ будущей гибели охотника от призрака убитого животного Гумилёв связывает с оружием члена этого племени, с которым скорее всего он познакомился ещё в первых своих поездках в Эфиопию:
Данакиль припал за камень
С пламенеющим копьём.
В стихотворении «Африканская ночь», написанном во время его последней экспедиции, Гумилёв говорит о том же „неизвестном племени”, которое упомянуто в цитированном описании его неосуществлённого проекта. Но в стихах оно отнесено не к северной области, а к более южному течению р. Уаби (в рифме в стихах Уэби) Сидамо, о которой он пишет из Дире-Дауа в письме Штернбергу (старшему этнографу Музея антропологии и этнографии в Петербурге) 20 мая 1913 г.12 Мечты исследовать р. Аваш (у Гумилёва Гаваш) могли преломиться в упоминании „До сих пор неоткрытой реки” в начальном обращении к Африке в сборнике «Шатёр». „Белому неведомая страна” появляется в описании его путешествий в предсмертном итоговом стихотворении «Память».
Мечты исследовать р. Аваш (у Гумилёва Гаваш) могли преломиться в упоминании „До сих пор неоткрытой реки” в начальном обращении к Африке в сборнике «Шатёр». „Белому неведомая страна” появляется в описании его путешествий в предсмертном итоговом стихотворении «Память».
Возможно, что Артамонов не был единственным, в ком Гумилёв мог усматривать своего предшественника в попытке открыть эти части Африки для России. Предполагают также, что Гумилёву были известны записки хотя бы некоторых других русских путешественников и военных (А.В. Елисеева, Н.С. Леонтьева, А.К. Булатовича), в те же годы, что Артамонов, или несколько позднее на рубеже веков посетивших Абиссинию и участвовавших в утверждении власти следующего негуса — Менелика,13 позднейшая судьба которого стала предметом газетной статьи Гумилёва.
позднейшая судьба которого стала предметом газетной статьи Гумилёва.
Африка вообще14 и Абиссиния в особенности всё больше занимают воображение молодого Гумилёва, что видно и из первых литературных опытов, к ним относящихся. В них он ещё полностью зависим от литературных источников: в стихах «Жираф», «Носорог» («Видишь, мчатся обезьяны»; ср. позднюю пьесу «Охота на носорога») и «Озеро Чад» из «Романтических цветов» — от французских поэтов-парнасцев — Теофиля Готье и Леконта де Лиля; в рассказах, как «Принцесса Зара», «Лесной дьявол», «Вверх по Нилу», — от Хаггарда (во «Вверх по Нилу» упоминаемого15
и Абиссиния в особенности всё больше занимают воображение молодого Гумилёва, что видно и из первых литературных опытов, к ним относящихся. В них он ещё полностью зависим от литературных источников: в стихах «Жираф», «Носорог» («Видишь, мчатся обезьяны»; ср. позднюю пьесу «Охота на носорога») и «Озеро Чад» из «Романтических цветов» — от французских поэтов-парнасцев — Теофиля Готье и Леконта де Лиля; в рассказах, как «Принцесса Зара», «Лесной дьявол», «Вверх по Нилу», — от Хаггарда (во «Вверх по Нилу» упоминаемого15 ) и Майн Рида, тогда очень популярных; возможно, в карфагенской теме второго рассказа — и от «Саламбо» Флобера. Гумилёва ещё занимают больше всего экзотические животные, растения и ландшафты, диковинные предметы и их названия.16
) и Майн Рида, тогда очень популярных; возможно, в карфагенской теме второго рассказа — и от «Саламбо» Флобера. Гумилёва ещё занимают больше всего экзотические животные, растения и ландшафты, диковинные предметы и их названия.16 Они участвуют в совершенно искусственном (иногда, как в «Жирафе», ироническом, что сам Гумилёв подчёркивал в письме Анненскому17
Они участвуют в совершенно искусственном (иногда, как в «Жирафе», ироническом, что сам Гумилёв подчёркивал в письме Анненскому17 ) литературном построении, где эпитеты, их сопровождающие, состоят из одних клише. Стилистические перемены приходят после первых поездок.
) литературном построении, где эпитеты, их сопровождающие, состоят из одних клише. Стилистические перемены приходят после первых поездок.
Когда Гумилёв в первый раз попал в Африку, остаётся не вполне понятным. Сопоставление его маршрутов в июне–июле 1907 г. с позднейшим рассказом Берберовой (если последний был передан достаточно точно) позволяет предположить, что в это именно время по пути из Турции во Францию он заезжал в Северную Африку — скорее всего, в Александрию.18
На следующий год Гумилёв планирует большое путешествие в Африку. Он пишет Брюсову, что собирается поехать в Абиссинию на полгода. Но в тот раз в октябре 1908 г. он смог только побывать в Александрии и Каире, может быть, и в некоторых других местах Египта.19 Для тогдашней внутренней жизни Гумилёва и для позднейшего его творчества всего важнее оказалось посещение каирского сада Эзбекие. В одноименном стихотворении, завершающим сборник «Костёр» и написанном 10 лет спустя, Гумилёв припоминает поток чувств, тогда вернувших его к жизни. Сад ему представляется „подобным / Священным рощам молодого мира”. Соответственно ключевые образы, как тонкие ветви пальм, вознесённые вверх, словно руки девушек навстречу нисходящему к ним богу, носят архетипический характер (этот же образ перевёрнут в несколько более позднем «Отрывке из пьесы»: „Рукам, вперёд протянутым, как ветви”). Единорог, с которым Гумилёв сравнивает белеющий водопад в саду Эзбекие, пришёл из его первых книг, где открываются „белые, как снег, единороги”. Но в саду единорог встал на дыбы. Другие образы, как друиды, с которыми он сравнивает платаны, скорее говорят о его занятиях тех более поздних лет, когда писалось стихотворение, и он был увлечён идеей древней роли касты друидов (об этом должна была идти речь в следующих частях «Дракона», которые он не успел дописать). Картина мироздания в стихотворении особенная — если пальмы тянутся к богу, то звёзды опустились вниз:
Для тогдашней внутренней жизни Гумилёва и для позднейшего его творчества всего важнее оказалось посещение каирского сада Эзбекие. В одноименном стихотворении, завершающим сборник «Костёр» и написанном 10 лет спустя, Гумилёв припоминает поток чувств, тогда вернувших его к жизни. Сад ему представляется „подобным / Священным рощам молодого мира”. Соответственно ключевые образы, как тонкие ветви пальм, вознесённые вверх, словно руки девушек навстречу нисходящему к ним богу, носят архетипический характер (этот же образ перевёрнут в несколько более позднем «Отрывке из пьесы»: „Рукам, вперёд протянутым, как ветви”). Единорог, с которым Гумилёв сравнивает белеющий водопад в саду Эзбекие, пришёл из его первых книг, где открываются „белые, как снег, единороги”. Но в саду единорог встал на дыбы. Другие образы, как друиды, с которыми он сравнивает платаны, скорее говорят о его занятиях тех более поздних лет, когда писалось стихотворение, и он был увлечён идеей древней роли касты друидов (об этом должна была идти речь в следующих частях «Дракона», которые он не успел дописать). Картина мироздания в стихотворении особенная — если пальмы тянутся к богу, то звёзды опустились вниз:
Ночные бабочки перелетали
Среди цветов, поднявшихся высоко,
Иль между звёзд — так низко были звёзды,
Похожие на спелый барбарис.
„Звезды так низко росли” в те годы и в «Сестре моей — жизни»: это скорее черта целой поэтической эпохи, а не одного поэта. Эпохе принадлежит и внимание к звукописи, сплавляющей воедино воспоминание
о пальмах,
И о
платане
20
и о водо
паде...
«Эзбекие», как и по форме близкие «Пятистопные ямбы» из сборника «Колчан», включает ретроспективный взгляд на прошлые африканские поездки21 в духе поэтики зрелого Гумилёва. Особенно разителен контраст с теми названными выше первыми подступами к африканской теме, которые делались им ещё до первых путешествий или сразу после первого из них (египетского).
в духе поэтики зрелого Гумилёва. Особенно разителен контраст с теми названными выше первыми подступами к африканской теме, которые делались им ещё до первых путешествий или сразу после первого из них (египетского).
К следующей поездке в Африку Гумилёв начинает готовиться задолго. Весной 1909 г. он — в конечном счёте, безуспешно — уговаривает Вяч.И. Иванова отправиться вместе с ним в Абиссинию. В Каире в декабре по пути он задерживается несколько дней, а потом, так и не дождавшись Иванова, из Джибути отправляется в Харрар и Дире-Дауа. О начальной поездке в эти места можно косвенно судить по письмам и упоминаниям первых впечатлений от Джибути и Дире-Дауа, полученных за 4 или 3 года до этого, в африканском дневнике 1913 г.22 В нём о Джибути он пишет как о хорошо знакомом месте. Поскольку он участвовал тогда же в охоте на леопардов, его рассказ или очерк на эту тему, напечатанный в 1916 г., иногда относят к этой поездке,23
В нём о Джибути он пишет как о хорошо знакомом месте. Поскольку он участвовал тогда же в охоте на леопардов, его рассказ или очерк на эту тему, напечатанный в 1916 г., иногда относят к этой поездке,23 но более вероятна датировка 1913 г. (хотя в текст, законченный в это время, могли войти и впечатления от нескольких предшествующих путешествий).
но более вероятна датировка 1913 г. (хотя в текст, законченный в это время, могли войти и впечатления от нескольких предшествующих путешествий).
Осенью того же 1910 г. Гумилёв снова отправляется в Абиссинию. Поездка длилась с октября 1910 г. до февраля 1911 г., была самым продолжительным из всех его африканских путешествий и наименее поддающимся изучению по письмам и другим документам.24 На этот раз Гумилёв провёл много времени в Аддис-Абебе, познакомился с абиссинскими художниками; с одним из них — Ато-Энгедуарком — он в ту поездку подружился. Из их картин Гумилёв составил коллекцию, украшавшую его кабинет в царскосельском доме. Пять картин-икон с пояснениями Гумилёва в том же 1911 г. были воспроизведенены в «Синем журнале»; статья «Африканское искусство» осталась недописанной, но в законченном введении к ней „когда-то могучая Абиссиния” в качестве „младшей сестры Византии”, как и „древние государства северного побережья” (прежде всего Египет), выступала скорее в виде исключения по отношению к остальному континенту. Вяч.И. Иванов, вовлечённый Гумилёвым в сферу его эфиопских интересов, ссылается на образчики абиссинской живописи, повлиявшие на него, когда он писал свою газель «Роза царицы Савской».25
На этот раз Гумилёв провёл много времени в Аддис-Абебе, познакомился с абиссинскими художниками; с одним из них — Ато-Энгедуарком — он в ту поездку подружился. Из их картин Гумилёв составил коллекцию, украшавшую его кабинет в царскосельском доме. Пять картин-икон с пояснениями Гумилёва в том же 1911 г. были воспроизведенены в «Синем журнале»; статья «Африканское искусство» осталась недописанной, но в законченном введении к ней „когда-то могучая Абиссиния” в качестве „младшей сестры Византии”, как и „древние государства северного побережья” (прежде всего Египет), выступала скорее в виде исключения по отношению к остальному континенту. Вяч.И. Иванов, вовлечённый Гумилёвым в сферу его эфиопских интересов, ссылается на образчики абиссинской живописи, повлиявшие на него, когда он писал свою газель «Роза царицы Савской».25 Эти же сюжеты привезённых Гумилёвым картин он сам позднее упомянет в стихотворении «Абиссиния» в «Шатре», в той части, где речь идёт об особенно для него притягательной стороне культурной истории страны с её древней восточно-христианской традицией:
Эти же сюжеты привезённых Гумилёвым картин он сам позднее упомянет в стихотворении «Абиссиния» в «Шатре», в той части, где речь идёт об особенно для него притягательной стороне культурной истории страны с её древней восточно-христианской традицией:
Под платанами спорил о Боге ученый,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом,
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.
Мотивы абиссинской живописи вновь всплывают вместе с другими образами стихов об Эфиопии в стихотворении 1918 г. «Приглашение к путешествию».
Гумилёв подарил позднее часть своего собрания абиссинской живописи друзьям; сейчас те из картин, которые были у художницы Кругликовой, находятся в петербургском Музее этнографии (другие — в частном собрании Лукницкой). В «Пятистопных ямбах», первый вариант которых датируется 1912 г. (напечатан в «Аполлоне» в 1913 г.), Гумилёв писал:
Но проходили месяцы, обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер — мне нравились их пятна —
И то, что прежде было непонятно, —
Презренье к миру и усталость снов.
Новое отношение к жизни связывается с абиссинским опытом. Из той же поездки был привезён абиссинский складень, изображавший „Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой” (Гумилёв 1991, II: 257). В декабре 1912 г. Гумилёв подарил складень Тураеву, собиравшему коллекцию произведений абиссинского искусства и печатавшему описания вещей из своего собрания и других аналогичных.26 Первая половина складня, быть может, отозвалась много позднее в заключительных строках того обращения к Африке, которым начинается «Шатёр»:
Первая половина складня, быть может, отозвалась много позднее в заключительных строках того обращения к Африке, которым начинается «Шатёр»:
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.
Предание о том, что Дева Мария отдыхала под сикоморой (или скрывалась вместе с младенцем Христом в её стволе) отражено в апокрифических евангелиях и было широко известно в коптской и абиссинской традициях. Его связывают с древнеегипетскими представлениями о дереве — сикоморе (египет. nht>nhy) богини Нут, которые отражены в Книге Мёртвых.27 В таких случаях особенно чувствуется глубина проникновения Гумилёва в глубь архетипических корней африканских восточно-христианских традиций. Возможно, что он слышал или читал о рассказе, по которому Дева Мария скрывалась или отдыхала под сикоморой.28
В таких случаях особенно чувствуется глубина проникновения Гумилёва в глубь архетипических корней африканских восточно-христианских традиций. Возможно, что он слышал или читал о рассказе, по которому Дева Мария скрывалась или отдыхала под сикоморой.28 Об этом же мог напомнить абиссинский складень.
Об этом же мог напомнить абиссинский складень.
Во время поездки 1910–1911 гг. сблизился Гумилёв и с абиссинскими поэтами. Один из них — Ато-Иосиф — сопровождал Гумилёва, когда он ехал обратно из Аддис-Абебы в Джибути. В эту поездку, как и в следующую, Гумилёв записывает образцы абиссинской народной поэзии, переводы которых он готовил к печати. 13 апреля 1911 г. на заседании Общества ревнителей художественного слова Вяч.И. Иванов разбирает один из этих переводов после общего рассуждения о месте народной поэзии. Подборка гумилёвских переводов, включавшая 12 стихотворений, предполагалась к изданию, которое задержалось на многие десятилетия; при жизни поэт напечатал только один из переводов — в конце своей газетной статьи о Менелике.29 В предисловии к предполагавшейся полной публикации Гумилёв писал:
В предисловии к предполагавшейся полной публикации Гумилёв писал:
Песни собраны мной в течение трёх моих путешествий в Абиссинию и переданы по возможности буквально. ‹...› Свежесть чувства, неожиданность поворотов мысли и подлинность положений делает их ценными независимо от экзотичности их происхождения. Их примитивизм крайне поучителен наряду с европейскими попытками в том же роде.
Последнее замечание особенно интересно. В примитивизме эфиопских песен Гумилёв ищет подобия тех поисков новых простых форм, которыми в Европе занимались поэты его поколения, пришедшие на смену символистам.30 Некоторые из его переводов представляют собой первые опыты его собственных верлибров.31
Некоторые из его переводов представляют собой первые опыты его собственных верлибров.31 Примечательно и то, что первая песня посвящена Деве Марии, как и цитированные выше его собственные позднейшие стихи, навеянные, вероятно, легендами о том, как она скиталась в Дельте Нила и пряталась под сикоморой, а также и упомянутым складнем. Славословие Марии заканчивает и последний (книжный) вариант «Пятистопных ямбов». В его предпоследней строфе почти дословно воспроизведена славянская молитва Богородице,32
Примечательно и то, что первая песня посвящена Деве Марии, как и цитированные выше его собственные позднейшие стихи, навеянные, вероятно, легендами о том, как она скиталась в Дельте Нила и пряталась под сикоморой, а также и упомянутым складнем. Славословие Марии заканчивает и последний (книжный) вариант «Пятистопных ямбов». В его предпоследней строфе почти дословно воспроизведена славянская молитва Богородице,32 эфиопское соответствие которой представляет собой первая абиссинская песня, переведённая Гумилёвым.
эфиопское соответствие которой представляет собой первая абиссинская песня, переведённая Гумилёвым.
Кроме этих переводов в 1911 г. Гумилёв пишет и публикует цикл собственных „абиссинских песен”. Оказавшись рецензентом «Антологии», где они были впервые напечатаны (до того как на следующий год он включил их в свою книгу «Чужое небо»), Гумилёв заметил, что они „написаны независимо от настоящей поэзии абиссинцев” (Гумилёв 1991, III: 84). Все 4 стихотворения характеризуются наличием чёткой фабулы и острого сюжетного оформления — обычно с кровавым или несчастливым концом, напоминая в этом отношении «Заразу», где иногда видят отклик первой египетской поездки.33
В духе рождественских сочинений полушуточного склада написано опубликованное в 1911 г. (и более при жизни автора не переиздававшееся) стихотворение «Рождество в Абиссинии», где Христос, согласно поверьям, переданным слугой-абиссинцем, оказывается Светлым Богом и для всех зверей:
И сегодня ночью звери:
Львы, слоны и мелкота —
Все придут к небесной двери,
Будут радовать Христа.
При всей специфике облегченного жанра праздничного календарного стихотворения,34 оно кажется ещё одним напоминанием о том, что в круг положительных впечатлений Гумилёва от Абиссинии и её жителей (которых он в своей прозе противопоставляет их соседям) входило ощущение близости их всех к сфере христианской веры, что Гумилёв переносит и на особенно его занимавших зверей.
оно кажется ещё одним напоминанием о том, что в круг положительных впечатлений Гумилёва от Абиссинии и её жителей (которых он в своей прозе противопоставляет их соседям) входило ощущение близости их всех к сфере христианской веры, что Гумилёв переносит и на особенно его занимавших зверей.
После возвращения из Абиссинии в 1911 г. написан и акростих Анне Ахматовой, опубликованный посмертно. Он принадлежит к лучшему из того, на что Африка вместе с адресатом акростиха вдохновили Гумилёва:
Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьёв прозрачных,
Небесный див тебя принёс,
Алмазный, средь ущелий мрачных,
Армидин сад... Там пилигрим
Хранит обет любви неясной.
Мы все склоняемся пред ним,
А розы душны, розы красны.
Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.
Символы деревьев предвещают будущие стихи о Каире и о христианской Африке. «Сикоморы и розы» вновь появятся в стихах об Абиссинии в «Шатре». Аддис-Абеба рисуется как сад из поэмы Тассо (где Эфиопия фигурирует во многих местах), вдохновившей столько композиторов на оперы об Армиде („дремать Танкредом у Армиды” свойственно поэтам, по словам позднего стихотворения Гумилёва).
Постоянство в возвращении к африканской теме обнаруживается в это время и в шуточных и альбомных записях, стихах и рисунках Гумилёва.
К сочинениям на африканские темы, вошедшим в «Чужое небо», принадлежит и одноактная комедия в стихах «Дон-Жуан в Египте». В отличие от серьёзных или трагических вариаций на эту тему у символистов — Бодлера и Блока, — которые и он продолжил в своем сонете «Дон-Жуан» из «Жемчугов», в этой пьесе Гумилёв отделывается шуткой, которую сейчас мы могли бы назвать “постмодернистской”. Слуга Дон-Жуана Лепорелло стал известным египтологом. Он помолвлен с дочерью богатого американца. Они втроём посещают развалины древнего храма на берегу Нила. Там их встречает воскресший Дон-Жуан, побывавший в аду. Дон-Жуан бросается ухаживать за невестой Лепорелло и к концу пьесы исчезает вместе с ней. В разговорах между Лепорелло и американским миллионером Покэром упоминаются и обсуждаются египетские иероглифы, фараоны, боги и способы их изображения, которые Лепорелло знает в изученных им вариантах, относящихся к разным царствиям. Но при этом либо Лепорелло, либо сам Гумилёв, а вернее они оба, валяют дурака и разыгрывают богатого американца, а с ним и читателей и зрителей, примешивая к учёности псевдоучёность.
Среди упомянутых в этой болтовне имён фараонов обращают на себя внимание два Псамметиха. Псамметих IV, как и названные далее в том же разговоре Псамметих V и Сети III, является египтологической шуткой: известны три Псамметиха — I, II, III (в XXVI династии — в самом конце Египта) и два фараона по имени Сети — I, II (в XIX династии). Имя одного из Псамметихов оказывается в конце строки в рифме к слову жених. Через несколько лет то же имя с подобным ударением на конечном слоге появляется в рифменной позиции в пастернаковской «Теме» (из «Тем и вариаций», не позднее 1918 г.). В этом заглавном стихотворении книги Пастернака сфинкс служит как бы опознавательным знаком африканского („хамитского” или связанного с „наследием кафра”, как выражается Пастернак в духе той эпохи) происхождения Пушкина (что можно истолковать и как метафору, относящуюся к семито-хамитской крови в самом Пастернаке). Возможно, что имя не слишком существенных египетских фараонов было использовано поэтом для анаграмматической игры, имевшей в виду фамилию автора: соединение фонем слов странный и Псамметиха может построить анаграмматический образ фамилии поэта:35
самый странный, самый тихий
Играющий с эпохи Псамметиха
Углами скул пустыни детский смех.
Но это использование звуковой оболочки имени малоизвестных фараонов36 не снимает вопроса, откуда Пастернак мог его узнать. Кажется возможным, что оно могло запасть ему в память в этой именно звуковой форме, отличной от русской египтологической транскрипции с конечным к,37
не снимает вопроса, откуда Пастернак мог его узнать. Кажется возможным, что оно могло запасть ему в память в этой именно звуковой форме, отличной от русской египтологической транскрипции с конечным к,37 если он прочитал гумилёвскую пьесу в сборнике «Чужое небо». В это время Пастернак читал выходящие поэтические сборники. Интерес к Гумилёву не ослабевал у него и позднее: он хотел писать о нём в феврале 1926 г.38
если он прочитал гумилёвскую пьесу в сборнике «Чужое небо». В это время Пастернак читал выходящие поэтические сборники. Интерес к Гумилёву не ослабевал у него и позднее: он хотел писать о нём в феврале 1926 г.38 — в период, когда Пастернак, по собственному его признанию, тяготеет к акмеизму. В свою очередь, Гумилёву нравилась пастернаковская «Импровизация» („Я клавишей стаю кормил с руки”), и он с симпатией отзывался о ее авторе.39
— в период, когда Пастернак, по собственному его признанию, тяготеет к акмеизму. В свою очередь, Гумилёву нравилась пастернаковская «Импровизация» („Я клавишей стаю кормил с руки”), и он с симпатией отзывался о ее авторе.39 Некоторые бесспорные параллели в их взглядах на поэтику обсуждаются в других статьях этого тома. Поэтому каждое сопоставление деталей может оказаться более весомым. Что же касается Гумилёва, он мог видеть скульптуры высших чиновников (но не фараонов) с именем Псамметих в каирском музее.40
Некоторые бесспорные параллели в их взглядах на поэтику обсуждаются в других статьях этого тома. Поэтому каждое сопоставление деталей может оказаться более весомым. Что же касается Гумилёва, он мог видеть скульптуры высших чиновников (но не фараонов) с именем Псамметих в каирском музее.40
Не подлежит сомнению, что в пьесе «Дон-Жуан в Египте» сказались впечатления от неоднократных поездок в Египет, где, посещая древние храмы, например фараона Сети I, упомянутого в той же болтовне Лепорелло, Гумилёв мог обратить внимание и на способ передачи царских имён в иероглифике (имя Сети включает иероглиф, обозначающий имя бога Сета). В таких храмах Гумилёв, скорее всего, не мог не увидеть и туристов, их осматривавших. Более проблематичным представляется любое прямое сопоставление Лепорелло в роли ученого египтолога с русским востоковедом, например Шилейко.41 Последний, близкий к Гумилёву со времени его женитьбы на Ахматовой42
Последний, близкий к Гумилёву со времени его женитьбы на Ахматовой42 (1910 г.), образования «Цеха поэтов» и университетского «Кружка по изучению поэтов» (октябрь 1912 г.) и последующих акмеистических поэтических встреч, был одним из учеников Тураева и среди других древневосточных языков, письменностей и культур занимался также и египетским.43
(1910 г.), образования «Цеха поэтов» и университетского «Кружка по изучению поэтов» (октябрь 1912 г.) и последующих акмеистических поэтических встреч, был одним из учеников Тураева и среди других древневосточных языков, письменностей и культур занимался также и египетским.43 Сближение Гумилёва и с Шилейко, с которым они вместе работали над «Гильгамешем», и с другими учёными, „такими, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости” (Гумилёв 1991, II: 258), относится ко времени после написания им «Дон-Жуана в Египте». В мае 1915 г. Гумилёв печатает «Восьмистишие» с посвящением Шилейко, который в том же году опубликовал свои стихи с аналогичным заглавие.44
Сближение Гумилёва и с Шилейко, с которым они вместе работали над «Гильгамешем», и с другими учёными, „такими, что, подобно Бодлеру, готовы поверить в подлинную божественность маленьких идолов из дерева и слоновой кости” (Гумилёв 1991, II: 258), относится ко времени после написания им «Дон-Жуана в Египте». В мае 1915 г. Гумилёв печатает «Восьмистишие» с посвящением Шилейко, который в том же году опубликовал свои стихи с аналогичным заглавие.44 Никаких черт, прямо указывающих на Шилейко как прототип Лепорелло, нет. Помимо других биографических соображений против этого отождествления говорит то, что Лепорелло представлен в качестве учёного, сделавшего академическую карьеру и даже ставшего деканом и относящегося к науке и деловой деятельности с нескрываемым цинизмом. А Шилейко, при всей своей несомненной филологической гениальности (или именно из-за неё), и университета-то формально не кончил (не имел диплома) и до 1917 г. оставался “внештатным” сотрудником Эрмитажа и (по его словам в письме Тураеву) “частным учёным” (savant privé). Гумилёвский Лепорелло — лакей по природе, наряженный „в пурпурную мантию декана” и грызущийся из-за почестей с другими учёными, — не имеет ни малейшего сходства с Шилейко. Последний может иметь к теме «Гумилёв и Древний Египет» касательство как ученик Тураева, возможно познакомивший Гумилёва с ним и с предметами его занятий. Из более подробных египтологических рассуждений Лепорелло в пьесе замечания об особенностях изображения в разные эпохи бога Тота (в виде животного — павиана или шакала с собаковидной головой) могут привести на ум магистерскую диссертацию Тураева, детально рассмотревшего иконографию этого бога.45
Никаких черт, прямо указывающих на Шилейко как прототип Лепорелло, нет. Помимо других биографических соображений против этого отождествления говорит то, что Лепорелло представлен в качестве учёного, сделавшего академическую карьеру и даже ставшего деканом и относящегося к науке и деловой деятельности с нескрываемым цинизмом. А Шилейко, при всей своей несомненной филологической гениальности (или именно из-за неё), и университета-то формально не кончил (не имел диплома) и до 1917 г. оставался “внештатным” сотрудником Эрмитажа и (по его словам в письме Тураеву) “частным учёным” (savant privé). Гумилёвский Лепорелло — лакей по природе, наряженный „в пурпурную мантию декана” и грызущийся из-за почестей с другими учёными, — не имеет ни малейшего сходства с Шилейко. Последний может иметь к теме «Гумилёв и Древний Египет» касательство как ученик Тураева, возможно познакомивший Гумилёва с ним и с предметами его занятий. Из более подробных египтологических рассуждений Лепорелло в пьесе замечания об особенностях изображения в разные эпохи бога Тота (в виде животного — павиана или шакала с собаковидной головой) могут привести на ум магистерскую диссертацию Тураева, детально рассмотревшего иконографию этого бога.45 Его, как и последующих исследователей, Тот особенно заинтересовал потому, что играл особую роль в сложении герметической литературы (Тот мыслился как египетский Гермес) и в истории раннего христианства в Египте.46
Его, как и последующих исследователей, Тот особенно заинтересовал потому, что играл особую роль в сложении герметической литературы (Тот мыслился как египетский Гермес) и в истории раннего христианства в Египте.46
Помощь Тураева и других петербургских профессоров и академиков, о которых в своих записках сочувственно говорит Гумилёв, способствовала тому, что Академия наук поддержала последнюю его экспедицию в Абиссинию. Она состоялась в 1913 г. и подробно отражена в дневнике Гумилёва и в его путевых заметках и в основанных на них исследованиях последних нескольких лет.47 Незавершённый «Африканский дневник» подробно отражает начальные стадии путешествия. В своей лапидарной прозаической манере Гумилёв сумел дать зарисовки посещенных им городов и их обитателей. В частности, интересен портрет дэджазмача Тафари Макоинена, будущего последнего негуса Абиссинии Хайле Селассие. Из занятий первых недель поездки Гумилёв рассказывает, как он начал формировать те этнографические коллекции, которые потом передал в петербургский Музей этнографии48
Незавершённый «Африканский дневник» подробно отражает начальные стадии путешествия. В своей лапидарной прозаической манере Гумилёв сумел дать зарисовки посещенных им городов и их обитателей. В частности, интересен портрет дэджазмача Тафари Макоинена, будущего последнего негуса Абиссинии Хайле Селассие. Из занятий первых недель поездки Гумилёв рассказывает, как он начал формировать те этнографические коллекции, которые потом передал в петербургский Музей этнографии48 (о чём он пишет в одном из последних своих стихотворений, где выражена ностальгия по Африке). В начале последнего путешествия Гумилёв собирал сомалийский фольклор, поэтический перевод образца которого с весьма критичным разбором всей этой традиции он включил в «Африканский дневник». Во время путешествия было написано упоминавшееся выше стихотворение «Африканская ночь». Особенно примечательны заключительные его строки, возвращающие к дуализму африканских мифологий с их обычной цветовой символикой:
(о чём он пишет в одном из последних своих стихотворений, где выражена ностальгия по Африке). В начале последнего путешествия Гумилёв собирал сомалийский фольклор, поэтический перевод образца которого с весьма критичным разбором всей этой традиции он включил в «Африканский дневник». Во время путешествия было написано упоминавшееся выше стихотворение «Африканская ночь». Особенно примечательны заключительные его строки, возвращающие к дуализму африканских мифологий с их обычной цветовой символикой:
Мёртвый, увижу, как в бледном небе
С огненным чёрный борется бог.
Дуалистический символ „чёрного бога”, который снова возникнет в первом варианте стихотворения «Леопард» из «Огненного столпа», соотнесён с „чёрным камнем”; последний входит в необычную неточную рифму камень — узнаем, где только гласные совпадают, а носовые согласные переставлены. Как и во многих других ранних стихах Гумилёва об Африке, с автобиографическим материалом переплетён сочинённый сюжет. Колониальные мотивы стихотворения, где речь идёт о борьбе за владение этими местами, лишний раз подтверждают верность (во всяком случае, по отношению к более раннему периоду) данной В. Корниловым характеристики Гумилёва как „царскосельского Киплинга”.
В 1913 – начале 1914 г. Гумилёв пишет свою африканскую поэму «Мик». В ней наивные черты стихотворной сказки для детей примешаны к изображению быта Аддис-Абебы, где умело использованы отдельные эфиопские слова и абиссинские реалии того времени. Растянутый эпизод пребывания детей у обезьян выглядит как зарифмованное повторение части «Книги джунглей» того же Киплинга. По форме поэма продолжает традицию «Шильонского узника» и «Мцыри», существенно отличающуюся от пушкинских поэм. Гумилёв лишь несколько разнообразит традиционную строфику, в некоторых частях переходя от монотонной парной рифмовки со сплошными мужскими окончаниями к перекрёстной. Удачными остаются отдельные формулировки, например относящаяся к мифологической теме невидимости (см. о ней статью в этом томе):
Как мертвецы не видны нам,
Так мы не видны мертвецам.
Среди написанного по горячим следам последней поездки был и уже упоминавшийся выше прозаический очерк «Африканская охота».49 Этот жанр, существенный для африканских стихов и прозы Гумилёва, кажется возможным сравнить с «Зелёными холмами Африки» и с только что посмертно опубликованным романом «True at First Light» Хемингуэя.50
Этот жанр, существенный для африканских стихов и прозы Гумилёва, кажется возможным сравнить с «Зелёными холмами Африки» и с только что посмертно опубликованным романом «True at First Light» Хемингуэя.50 Записки об охоте предполагают документальную достоверность и точность подробностей, чуждую обычным описаниям экзотических мест. Интересно и то, в какой мере тип „избранника свободы, / Мореплавателя и стрелка”, встающий в африканском цикле Гумилёва, сопоставим с аналогичными чертами, привлекавшими читателя (в том числе русского), у Хемингуэя. Автор диссертации о Гумилёве предполагает, что его отношение к войне существенно не отличалось от того, как он воспринимал сафари в Африке (Rusinko 1976: 186). Скорее — в равной мере по поводу него и Хемингуэя — можно говорить о сходстве мужественной жизненной позиции, вырабатываемой по отношению к войне и охоте. И опасности африканских поездок (Хемингуэем описанные в «Зелёных холмах Африки», в посмертном романе и в замечательном автобиографическом рассказе «Снега Килиманджаро»), и опыт двух мировых войн (а также и испанской гражданской войны), выраженный в лучших романах Хемингуэя и обсуждаемый им в весьма существенном предисловии к антологии «Мужчины на войне», позволяют выковаться тому типу героя, который связывается с эпохой Хемингуэя. Сходными были жизненные установки Гумилёва, сделавшие его поэзию столь значимой для русских молодых людей 1940–1950-х годов (когда его стихи были под запретом, что лишь увеличивало их притягательность). Гумилёв в поздних своих стихах уверял, что описываемые им сильные люди не только стали его героями, но и представляют собой типичных его читателей. В эту игру взаимности героя и читателя втягиваются и обитатели Африки, скорее всего в этом случае — вымышленные. Гумилёвские верлибры «Мои читатели», входившие в последнюю предсмертную книгу «Огненный столп», начинались фантастической и благодаря чудовищности своей экзотики забавной похвальбой:
Записки об охоте предполагают документальную достоверность и точность подробностей, чуждую обычным описаниям экзотических мест. Интересно и то, в какой мере тип „избранника свободы, / Мореплавателя и стрелка”, встающий в африканском цикле Гумилёва, сопоставим с аналогичными чертами, привлекавшими читателя (в том числе русского), у Хемингуэя. Автор диссертации о Гумилёве предполагает, что его отношение к войне существенно не отличалось от того, как он воспринимал сафари в Африке (Rusinko 1976: 186). Скорее — в равной мере по поводу него и Хемингуэя — можно говорить о сходстве мужественной жизненной позиции, вырабатываемой по отношению к войне и охоте. И опасности африканских поездок (Хемингуэем описанные в «Зелёных холмах Африки», в посмертном романе и в замечательном автобиографическом рассказе «Снега Килиманджаро»), и опыт двух мировых войн (а также и испанской гражданской войны), выраженный в лучших романах Хемингуэя и обсуждаемый им в весьма существенном предисловии к антологии «Мужчины на войне», позволяют выковаться тому типу героя, который связывается с эпохой Хемингуэя. Сходными были жизненные установки Гумилёва, сделавшие его поэзию столь значимой для русских молодых людей 1940–1950-х годов (когда его стихи были под запретом, что лишь увеличивало их притягательность). Гумилёв в поздних своих стихах уверял, что описываемые им сильные люди не только стали его героями, но и представляют собой типичных его читателей. В эту игру взаимности героя и читателя втягиваются и обитатели Африки, скорее всего в этом случае — вымышленные. Гумилёвские верлибры «Мои читатели», входившие в последнюю предсмертную книгу «Огненный столп», начинались фантастической и благодаря чудовищности своей экзотики забавной похвальбой:
Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне чёрного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Сопоставляя охоту на слонов и войну, Гумилёв продолжает своё перечисление предполагаемых читателей его стихов — ницшеанских сверхлюдей, исследователей пальмовых лесов и пустынь Африки и других континентов, искателей приключений:
Много их, сильных, злых и весёлых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Из трёх поэтов, помещённых в походную сумку героя Багрицкого — откровенного последователя Гумилёва, Тихонов был явно его заменой. Это возвеличивание сильного человека как главного героя и основного читателя продолжалось и у певцов господствовавшей идеологии, и у её противников. У Гумилёва (как и у Хемингуэя, о чём тот пишет и в упомянутом предисловии к антологии) поступок, в другой терминологии — героический, и прямое его называние противопоставлены высокопарной риторике (“словам с большой буквы”) романтики прошлого века и символизма начала нынешнего:
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой.
Не надоедаю многозначительными намёками
На содержание выеденного яйца.
Африканский опыт, судя по автобиографическим признаниям Гумилёва и другим данным, был (вместе с испытаниями первой мировой войны) среди главных факторов, которые помогли Гумилёву окончательно закалить и выразить тот образ личности и связанную с ней жизненную установку, которые сказались в его поздних стихах и определили их значимость для позднейшей литературы. Ницшеанские нотки, звучащие в приведённых верлибрах, могут показаться преувеличенными. Но Гумилёв проявил решительность и отвагу в выполнении замысла истинно мужественной жизни и создания стихов, её отображающих и ей учащих.
Помимо фрагментарных упоминаний африканских поездок в автобиографических стихах (прежде всего в «Памяти») и отдельных стихотворениях, с этими путешествиями связанных, в поздних сборниках (как цитированный выше «Леопард» в «Огненном столпе»), целиком Африке (далеко не только тем её местам, где Гумилёв успел побывать) была посвящена его книга «Шатёр». Она была частью неосуществлённого замысла “географии в стихах”.51 Книга была написана в основном в 1918 г. Она открывается обращением к Африке, содержащим отсылки к мечтам о путешествии с целью открытия неизвестного племени и неведомой реки. Здесь же возникает рассмотренный выше образ Девы Марии с младенцем, отдыхающей под сикоморой. Столь же личный характер носит конец стихотворения «Абиссиния», где речь идёт о петербургском Музее этнографии, куда Гумилёв приходит смотреть на вещи, привезённые им из экспедиции. Отклики и отзвуки путешествий, в особенности двух последних, видны в стихах «Галла» и «Сомалийский полуостров». Морской путь в Африку, по которому столько раз проходил Гумилёв, запечатлен в стихах «Красное море» и «Суэцкий канал». Впечатления от многократных поездок в Египет и занятий его историей и древней религией подытожены в стихотворении об этой стране. В нём Киплинг уступает место наблюдательному путешественнику, которому по сердцу коренное население Египта, а не завоеватели. Сравнение подробного прозаического описания охоты на акулу со словосочетанием акулья уха из вполне раскованного стихотворения «Красное море» удостоверяет, как далеко зашёл Гумилёв в выработке нового стиля,52
Книга была написана в основном в 1918 г. Она открывается обращением к Африке, содержащим отсылки к мечтам о путешествии с целью открытия неизвестного племени и неведомой реки. Здесь же возникает рассмотренный выше образ Девы Марии с младенцем, отдыхающей под сикоморой. Столь же личный характер носит конец стихотворения «Абиссиния», где речь идёт о петербургском Музее этнографии, куда Гумилёв приходит смотреть на вещи, привезённые им из экспедиции. Отклики и отзвуки путешествий, в особенности двух последних, видны в стихах «Галла» и «Сомалийский полуостров». Морской путь в Африку, по которому столько раз проходил Гумилёв, запечатлен в стихах «Красное море» и «Суэцкий канал». Впечатления от многократных поездок в Египет и занятий его историей и древней религией подытожены в стихотворении об этой стране. В нём Киплинг уступает место наблюдательному путешественнику, которому по сердцу коренное население Египта, а не завоеватели. Сравнение подробного прозаического описания охоты на акулу со словосочетанием акулья уха из вполне раскованного стихотворения «Красное море» удостоверяет, как далеко зашёл Гумилёв в выработке нового стиля,52 даже отдалённо не напоминающего былую чопорность ученика Брюсова. В таких стихотворениях из «Шатра», как «Сахара», «Судан», «Экваториальный лес» речь идёт о тех частях Африки, с восточной оконечностью которых Гумилёв столкнулся в своих поездках. В стихах о Западной и Южной Африке («Либерия», «Дагомея», «Нигер», «Замбези», «Мадагаскар», «Дамара») из «Шатра» и в примыкающем к этой книге стихотворении «Алжир и Тунис» Гумилёв опирался на свои чтения и воображение. Он создавал (отчасти по заказу, что отмечала в своих записках Ахматова) новый „поэтический атлас” Африки (Dombre-Potocki 1971: 25). Для понимания возможностей, заложенных в поздних его вещах, но так до конца и не реализовавшихся, особенно интересны те стихи из «Шатра», где с охватом географическим соединяется и безбрежная временнáя перспектива, как в «Сахаре», пророчащей о превращении всей Земли в одну гигантскую пустыню. Дальнейшее развитие подобный пространственно-временной сюрреализм, соединяющий вместе великие реки Западной Европы, России и Африки, получает в «Заблудившемся трамвае»:
даже отдалённо не напоминающего былую чопорность ученика Брюсова. В таких стихотворениях из «Шатра», как «Сахара», «Судан», «Экваториальный лес» речь идёт о тех частях Африки, с восточной оконечностью которых Гумилёв столкнулся в своих поездках. В стихах о Западной и Южной Африке («Либерия», «Дагомея», «Нигер», «Замбези», «Мадагаскар», «Дамара») из «Шатра» и в примыкающем к этой книге стихотворении «Алжир и Тунис» Гумилёв опирался на свои чтения и воображение. Он создавал (отчасти по заказу, что отмечала в своих записках Ахматова) новый „поэтический атлас” Африки (Dombre-Potocki 1971: 25). Для понимания возможностей, заложенных в поздних его вещах, но так до конца и не реализовавшихся, особенно интересны те стихи из «Шатра», где с охватом географическим соединяется и безбрежная временнáя перспектива, как в «Сахаре», пророчащей о превращении всей Земли в одну гигантскую пустыню. Дальнейшее развитие подобный пространственно-временной сюрреализм, соединяющий вместе великие реки Западной Европы, России и Африки, получает в «Заблудившемся трамвае»:
Через Неву, через Нил
53
и Сену
Мы прогремели по трём мостам.
В этом стихотворении, представляющем вершину его творчества, наступающая насильственная смерть символизируется образом собственной головы, которую „срезал палач”. Если в сравнении головы с капустой усматривают мотив сказки Гауфа «Карлик Нос»,54 то разглядывание собственной головы, отрезанной палачом, пришло из сна, которым кончается «Африканская охота». Там причиной казни было участие Гумилёва в абиссинском дворцовом перевороте — как бы прообразе дела Таганцева.
то разглядывание собственной головы, отрезанной палачом, пришло из сна, которым кончается «Африканская охота». Там причиной казни было участие Гумилёва в абиссинском дворцовом перевороте — как бы прообразе дела Таганцева.
Гумилёва с его тяготением к Африке нередко сравнивали с Рембо.55 Однако в их биографиях место Африки и африканской Золотой Двери, о которой пишет Ахматова в заметке о Гумилёве и Африке, прямо противоположно. Рембо ушёл в Африку от Европы, как его «Пьяный корабль», и от иссякнувшего поэтического творчества (есть об этом стихи Одена). Для Гумилёва до конца Африка оставалась источником вдохновения. Гумилёва, привозившего собрания африканских вещей в Музей этнографии, можно было бы сопоставить и с молодым Мальро времени, когда тот пытался раздобыть произведения искусства Юго-Восточной Азии (что отражено и в первом его романе, более насыщенном автобиографическими деталями, чем «Антимемуары»). Но и здесь различий между Мальро — искателем приключений и Гумилёвым, выполняющим задания Академии наук, больше, чем сходств.
Однако в их биографиях место Африки и африканской Золотой Двери, о которой пишет Ахматова в заметке о Гумилёве и Африке, прямо противоположно. Рембо ушёл в Африку от Европы, как его «Пьяный корабль», и от иссякнувшего поэтического творчества (есть об этом стихи Одена). Для Гумилёва до конца Африка оставалась источником вдохновения. Гумилёва, привозившего собрания африканских вещей в Музей этнографии, можно было бы сопоставить и с молодым Мальро времени, когда тот пытался раздобыть произведения искусства Юго-Восточной Азии (что отражено и в первом его романе, более насыщенном автобиографическими деталями, чем «Антимемуары»). Но и здесь различий между Мальро — искателем приключений и Гумилёвым, выполняющим задания Академии наук, больше, чем сходств.
В русской литературе напрашивается сближение с Хлебниковым. Высказывалось предположение, что сюжет раннего рассказа Гумилёва на африканскую тему «Лесной дьявол» (впервые напечатан в 1908 г.) мог повлиять на отчасти сходные мотивы у Хлебникова:56 в частности, они оба занимались карфагенским мореплавателем Ганноном. Более определённо можно говорить о гротескном портрете Гумилёва, включающем и ссылку на стихи о «Жирафе», в хлебниковском «Передо мной варился вар...».57
в частности, они оба занимались карфагенским мореплавателем Ганноном. Более определённо можно говорить о гротескном портрете Гумилёва, включающем и ссылку на стихи о «Жирафе», в хлебниковском «Передо мной варился вар...».57 Но несомненен параллелизм их увлечения Африкой в целом и Египтом и Абиссинией в отдельности.
Но несомненен параллелизм их увлечения Африкой в целом и Египтом и Абиссинией в отдельности.
В статье «Закон поколений» (1914 г.) Хлебников говорит об уходе от будней жизни Леонтьева туда, в чёрную Абиссинию к чёрным (Хлебников 1986: 651). Речь идёт об уже называвшемся выше (среди предшественников Гумилёва, возможно, ему известных) Н.С. Леонтьеве, в котором видят одного из первооткрывателей Эфиопии для России нового времени. Как изложено в статье «Хлебников и наука», Хлебникова особенно занимало движение Египта, а за ним всей Африки, к независимости. В нынешней терминологии Хлебников был уже писателем постколониальным — в отличие от Гумилёва (если говорить о большинстве его сочинений за вычетом таких, как стихотворение «Египет», где и он приближался к взглядам более современного свойства).
Хлебников не только с юности был увлечён новой историей Египта. Древний Египет и даты его истории (большинство из них в свете недавних исследований неверные) то и дело появляются в его хронологических таблицах и уравнениях, которые должны были дать математическую схему всемирной истории. В брошюре «Время мера мира» (1916 г.) он говорит о религиозной реформе Аменофиса IV (Амен-хотпа, Эхнатена, или Эхнейотина) и его жрецов. Для Хлебникова этот египетский реформатор, по его словам заменивший почитание Амона почитанием Атэна, представлялся предшественником великих религиозных пророков Востока и тех, кто ввёл поклонение верховному разуму в Европе нового времени. Интерес к египетской религиозной реформе Амарнской эпохи и к её родоначальнику был присущ всему тому периоду интеллектуальной жизни Европы. Брестед в своих работах о Древнем Египте говорит об Аменофисе IV как о „первой личности во всемирной истории”.58 Незадолго до написания повести о нём Хлебникова наследник реформатора, установившего единобожие, стал героем романа Мережковского. Аменофис IV был героем хлебниковской сверхповести «Ка», написанной за год до его только что цитированного эссе — в 1915 г. В предисловии к предполагавшемуся изданию его сочинений в 1919 г. Хлебников писал:
Незадолго до написания повести о нём Хлебникова наследник реформатора, установившего единобожие, стал героем романа Мережковского. Аменофис IV был героем хлебниковской сверхповести «Ка», написанной за год до его только что цитированного эссе — в 1915 г. В предисловии к предполагавшемуся изданию его сочинений в 1919 г. Хлебников писал:
В «Ка» я дал созвучие «Египетским ночам», тяготение метели севера к Нилу и его зною. Грань Египта взята — 1378 г. до н.э., когда Египет сломал свои верования ‹...›
Хлебников 1986: 3659
Говоря о Ка, Хлебников обнаруживает глубокое знание древнеегипетских идей по поводу основных частей человеческой души и интуитивное проникновение в суть этого мира понятий. Новейшие разыскания подтвердили точку зрения, согласно которой в древнейших египетских Текстах Пирамид описывается Ка — двойник фараона. Повесть Хлебникова заканчивается описанием встречи четырёх Ка: автора, древнеиндоарийского мифологического царя Виджаи, учредителя сингальской общины на Цейлоне, древнеиндийского царя Асоки (Ашоки) и Аменофиса, который только что перед тем по ходу повести был застрелен (когда он уже в современной Африке в новом своём воплощении принял облик обезьяны). Поэтому его поцелуй отдаёт порохом:
Ка от имени друзей передал мне поцелуй Аменофиса и поцеловал запахом пороха. Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились Я, Лейли и четыре Ка: моё, Виджаи, Асоки, Аменофиса.
(536)60
В этом эпизоде, как и в других аналогичных (в 7 главе, в описании такой же встречи четырёх Ка вместо Виджаи назван Акбар — правитель Индии), Хлебников помещает себя рядом с крупными фигурами истории мировой культуры. Опять можно заметить сходство с Гумилёвым, спрашивавшим Ахматову, сопоставим ли он с Буддой или Магометом. Не нужно думать, что эпоха или её видные представители страдали манией величия или только преувеличениями в духе ницшеанского понимания сверхчеловека (в случае Гумилёва несомненными). Речь шла о высвобождении энергии человека, до того замыкавшейся в нём самом и не имевшей столь широких возможностей воплощения, как те, которые, казалось, открылись в начале XX в. (до того как государство попыталось если не подавить их, то физически истребить всех, кому удалось встать на путь подобной полной реализации себя). Как и у египетского фараона и у древнеиндийских великих царей, у Хлебникова было своё Ка. Оно помогало ему двигаться во времени. Так, во второй главе повести Ка Хлебникова представляет его учёному 2222 года (524). Оно же даёт возможность близко узнать Аменофиса IV и его эпоху.
Главное действующее лицо повести — Ка, двойник, — понимается Хлебниковым сообразно с представлениями раннего Египта. Вместе с тем, этот персонаж повести связан с идеей времени, столь важной для миропонимания самого Хлебникова:61 для Ка нет застав во времени, он движется поперёк времени. Особенности композиции этой повести, как и других больших вещей Хлебникова, в значительной степени определяются тем, что в них он выражает и свои философские, общенаучные, и исторические взгляды.62
для Ка нет застав во времени, он движется поперёк времени. Особенности композиции этой повести, как и других больших вещей Хлебникова, в значительной степени определяются тем, что в них он выражает и свои философские, общенаучные, и исторические взгляды.62 Кажущаяся мозаичность повести мотивируется и определяется прежде всего именно блужданиями Ка Хлебникова по разным странам и эпохам.63
Кажущаяся мозаичность повести мотивируется и определяется прежде всего именно блужданиями Ка Хлебникова по разным странам и эпохам.63 С точки зрения структуры повествования, Ка — персонаж, позволяющий с ним вместе передвигаться во времени. Он представляет собой аналог особого устройства вроде популярной в те годы машины времени. Но хлебниковские путешествия во времени, в отличие от описанных Жарри, Уэллсом и их подражателями, были связаны с той философией времени, которую сам Хлебников считал центральной для своего творчества.64
С точки зрения структуры повествования, Ка — персонаж, позволяющий с ним вместе передвигаться во времени. Он представляет собой аналог особого устройства вроде популярной в те годы машины времени. Но хлебниковские путешествия во времени, в отличие от описанных Жарри, Уэллсом и их подражателями, были связаны с той философией времени, которую сам Хлебников считал центральной для своего творчества.64 В этом повествовании Ка и осуществляемые с его помощью передвижения во времени играют роль, сопоставимую с задачами, которые Хлебников пытался решить в своих исторических “стихах из чисел” и уравнениях истории, где он хотел победить время, найдя математические законы, определяющие даты событий.
В этом повествовании Ка и осуществляемые с его помощью передвижения во времени играют роль, сопоставимую с задачами, которые Хлебников пытался решить в своих исторических “стихах из чисел” и уравнениях истории, где он хотел победить время, найдя математические законы, определяющие даты событий.
В третьей главе повести «Ка» Хлебников вместе со своим Ка посещает Древний Египет амарнского времени, когда царствует Аменофис (Эхнейотин). Рядом с ним, как и в эссе Хлебникова, назван Аи (Айа) — важнейший его вельможа,65 родственник и/или свойственник (дядя и тесть — “отец богов” jtntr, т.е. “священный отец”) Аменофиса, в будущем фараон, в чьей гробнице сохранился большой гимн Атону (Йоту, или Йотину). Аменофис, называющий себя своим традиционным именем Нефер-Хепру-Ра (“явление Солнца — добрый, прекрасный”),66
родственник и/или свойственник (дядя и тесть — “отец богов” jtntr, т.е. “священный отец”) Аменофиса, в будущем фараон, в чьей гробнице сохранился большой гимн Атону (Йоту, или Йотину). Аменофис, называющий себя своим традиционным именем Нефер-Хепру-Ра (“явление Солнца — добрый, прекрасный”),66 произносит монолог о своём несогласии с религией прежнего времени. В его речи использованы обороты, напоминающие тексты гимнов Атону, которые Хлебников мог знать в переводе. В частности, деление богов на “порхающих”, “плавающих” и “ползающих” сходно с аналогичным описанием живых существ в большом и малом гимнах. Их часто сопоставляют с такими библейскими текстами, как псалмы 103–104.67
произносит монолог о своём несогласии с религией прежнего времени. В его речи использованы обороты, напоминающие тексты гимнов Атону, которые Хлебников мог знать в переводе. В частности, деление богов на “порхающих”, “плавающих” и “ползающих” сходно с аналогичным описанием живых существ в большом и малом гимнах. Их часто сопоставляют с такими библейскими текстами, как псалмы 103–104.67 Но если Хлебников и исходил из словоупотребления переводов Ветхого Завета (скажем, книг Левит, II, и Второзакония, 1), то всё равно поразительно, что он выбрал те именно обозначения, которые близки к терминологии амарнских гимнов Атону. В качестве примеров богов-животных, соотнесенных в старой религии, им отменённой, с разными стихиями, Аменофис у Хлебникова приводит Суха-крокодила, Мневиса-быка и Бенну-цаплю (феникса). В соответствии со старой египетской традицией68
Но если Хлебников и исходил из словоупотребления переводов Ветхого Завета (скажем, книг Левит, II, и Второзакония, 1), то всё равно поразительно, что он выбрал те именно обозначения, которые близки к терминологии амарнских гимнов Атону. В качестве примеров богов-животных, соотнесенных в старой религии, им отменённой, с разными стихиями, Аменофис у Хлебникова приводит Суха-крокодила, Мневиса-быка и Бенну-цаплю (феникса). В соответствии со старой египетской традицией68 он называет подчинённые фараонами чужеземные страны девятью луками, обращаясь к ним. Далее в его речи упомянута подпорка неба — Шеш (Хех):69
он называет подчинённые фараонами чужеземные страны девятью луками, обращаясь к ним. Далее в его речи упомянута подпорка неба — Шеш (Хех):69 И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь её рука? Разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня (525). Имеется в виду, что подпорка неба поддерживает тень,70
И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь её рука? Разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня (525). Имеется в виду, что подпорка неба поддерживает тень,70 или двойника, фараона на небе, откуда его Ка огнём озаряет голубой Нил. Описание внешности Аменофиса в этой главе повести соответствует облику фараона, известному по иконографии Амарнского периода.
или двойника, фараона на небе, откуда его Ка огнём озаряет голубой Нил. Описание внешности Аменофиса в этой главе повести соответствует облику фараона, известному по иконографии Амарнского периода.
В конце седьмой главы герои встречаются у водопада в истоках голубого Нила. Ка и его спутники попадают в общество обезьян. Одна из них, почтенный старик-самец, с тоской вспоминая прошлое, жалеет, что миновало время борьбы с карфагенским мореплавателем Ганноном (о нём говорилось выше по поводу предлагавшихся раньше сравнений Хлебникова с Гумилёвым). Египтяне Гатчепсут (правительницы Египта, чьё царствование ознаменовалось экспедицией в страну Пунт71 ) открывают собой список движений с востока на запад (понимаемый не в узко географическом смысле). Этот список представлен на нижней части слонового бивня, который в этой главе — одновременно и часть музыкального инструмента, и наглядное воплощение хлебниковских уравнений истории. Собравшиеся обнаруживают отсутствие Аменофиса. В ответ на расспросы Ка Хлебникова (который в этой главе не знает, что происходило в предшествующих, потому что время повести нелинейно) ему объясняют, что Аменофис — сын Теи.72
) открывают собой список движений с востока на запад (понимаемый не в узко географическом смысле). Этот список представлен на нижней части слонового бивня, который в этой главе — одновременно и часть музыкального инструмента, и наглядное воплощение хлебниковских уравнений истории. Собравшиеся обнаруживают отсутствие Аменофиса. В ответ на расспросы Ка Хлебникова (который в этой главе не знает, что происходило в предшествующих, потому что время повести нелинейно) ему объясняют, что Аменофис — сын Теи.72 Присутствующие думают, что он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити (533). Хлебникова, как и других его современников, проникавших в суть египетской истории, в частности Тураева,73
Присутствующие думают, что он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити (533). Хлебникова, как и других его современников, проникавших в суть египетской истории, в частности Тураева,73 волновали отношения фараона и Нефертити, он их упоминает в цитированной брошюре. Описание реальной (третьей по счёту в повести) смерти Аменофиса кончается тем, что он, умирая, дважды повторяет имя своей жены. В дальнейшем повествовании Аменофис, слагая стихи, призывает Нефертити на помощь.
волновали отношения фараона и Нефертити, он их упоминает в цитированной брошюре. Описание реальной (третьей по счёту в повести) смерти Аменофиса кончается тем, что он, умирая, дважды повторяет имя своей жены. В дальнейшем повествовании Аменофис, слагая стихи, призывает Нефертити на помощь.
В эпизоде у водопада снова называются вельможи из окружения Аменофиса: кроме уже фигурировавших в третьей главе (как и в эссе Хлебникова) Аи и Шурура, стража меча, здесь помянуты Азири и Туту.74 Посредством приёма несобственно прямой речи вводится их точка зрения, одновременно свидетельствующая о том, что действие сцены у водопада надо отнести к загробному существованию: Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был повелителем на Хапи мутном (т.е. в низовьях Нила, 533). В следующем предложении осуществляется переход к предполагаемым воспоминаниям, или грёзам, покойного фараона, которому представляется, как его дочь Анхс-эм-п-йотин (Ankhesenpayatin “Живущая-Ради-Йота”)75
Посредством приёма несобственно прямой речи вводится их точка зрения, одновременно свидетельствующая о том, что действие сцены у водопада надо отнести к загробному существованию: Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был повелителем на Хапи мутном (т.е. в низовьях Нила, 533). В следующем предложении осуществляется переход к предполагаемым воспоминаниям, или грёзам, покойного фараона, которому представляется, как его дочь Анхс-эм-п-йотин (Ankhesenpayatin “Живущая-Ради-Йота”)75 проходит к Нилу через “дворец Йота (Атона)” (Hut-Aten), который был укреплённым храмом и подобием часовни царского дворца:76
проходит к Нилу через “дворец Йота (Атона)” (Hut-Aten), который был укреплённым храмом и подобием часовни царского дворца:76 И Анх сенпа Атен идёт сквозь Хут Атен на Хапи за цветами (533). Когда Аменофис присоединяется к другим Ка, они вчетвером (вместе с Ка Хлебникова и двух индийских царей) начинают беседовать про себя. Причина того, что они шушукаются, заключается в новаторском характере обсуждаемых мыслей: Слово “сверхгосударство” мелькало чаще чем следует (533). В то время, под влиянием своих занятий законами истории и опыта переживавшейся им как тяжёлое испытание первой мировой войны, Хлебников приходит к идее надправительства, что вскоре привело к составленным им манифестам председателей Земного шара. Эта идея лежит в основе сближения разных культур и богов и героев как их воплощения, что объясняет и композицию сверхповестей и «Ка». По мысли Хлебникова,
И Анх сенпа Атен идёт сквозь Хут Атен на Хапи за цветами (533). Когда Аменофис присоединяется к другим Ка, они вчетвером (вместе с Ка Хлебникова и двух индийских царей) начинают беседовать про себя. Причина того, что они шушукаются, заключается в новаторском характере обсуждаемых мыслей: Слово “сверхгосударство” мелькало чаще чем следует (533). В то время, под влиянием своих занятий законами истории и опыта переживавшейся им как тяжёлое испытание первой мировой войны, Хлебников приходит к идее надправительства, что вскоре привело к составленным им манифестам председателей Земного шара. Эта идея лежит в основе сближения разных культур и богов и героев как их воплощения, что объясняет и композицию сверхповестей и «Ка». По мысли Хлебникова,
государство-молния давно соединило всё человечество, сплетя в одну косу волосы всех людей. Можно вообразить себе такого наблюдателя с соседней звезды, который бы хорошо видел людей, но не заметил ни народов, ни государств.
77
Планетарный взгляд на земной шар в целом характерен для эпохи русского космизма, в литературе и философии опережавшего время межпланетных путешествий и его (в трудах Циолковского) готовившего. Те черты гумилёвского «Заблудившегося трамвая», которые сродни одновременно писавшимся вещам Хлебникова, принадлежат одновременно и каждому из них, и духу их времени. Он же сказался, например, и в диалоге западных и восточных философов о реальности окружающего мира, заканчивающем «Буддийскую логику» Щербатского.
Мысль о сверхгосударстве, объединяющем всё человечество во времени, Хлебников оправданно считал опасной. Убийство Аменофиса в сцене у водопада связывается с судьбой самого Хлебникова. В «Письме двум японцам», в следующем за созданием «Ка» году, Хлебников напишет: Ведь мы — современный Египет, поскольку можно говорить о переселении душ (Хлебников 1986: 605; идея переселения душ у Хлебникова связывалась с индийской и, шире, буддийской традицией, что отчасти объясняет и выбор других Ка в повести). Умирая, Аменофис отдает распоряжение, выполнением которого повесть заканчивается:
— Иди и дух мой передай достойнейшему! — сказал Эхнатен, закрывая глаза своему Ка. — Дай ему мой поцелуй.
Поцелуй, пахнущий порохом, был отдан Хлебникову, как видно из приведённых цитат. В Хлебникове был дух Аменофиса. Как тот погиб, потому что жрецы не могли принять отменявшую их деятельность новую идею Божественного Солнца (Атона-Йота), неантропоморфного и не похожего на зверей, воплощавших прежних богов, так и Хлебников чувствовал неприемлемость своих мыслей для правящего сословия, в том числе и для официальных учёных. В до сих пор не изданной части «Досок судьбы», подготовленной им к печати перед смертью, содержится просьба их опубликовать, но не делать предметом академического обсуждения: от него он не ждал ничего для себя утешительного.
Самоотождествление Хлебникова и Аменофиса составляет тему его стихотворения:
Я, Хлебников, 1885
За (365+1)3 до меня
Шанкарья Ачарья творец Вед
В 788 году,
В 1400 Аменхотеп IV,
Вот почему я велик,
Я, бегающий по дереву чисел,
Делаясь то морем, то божеством,
То стеблем травы в устах мыши,
Аменхотеп IV — Евклид — Ачарья — Хлебников.
78
Как замечает Р. Кук, в чьей книге опубликован этот текст и его английский перевод,
это — восхитительный пример хлебниковского нумерологического стихотворения. Родословная, которую Хлебников для себя устанавливает, основана на его собственных расчётах относительно законов, которые, как он считал, определяют время рождения выдающихся людей. Здесь он видит себя в качестве продолжателя традиций индийского философа Шанкары, египетского фараона Аменхотепа IV и древнего математика Евклида»
79
(причина, почему Аменофис оказывается в одном ряду с Хлебниковым и Евклидом, проясняется из других эссе: можно думать, что поклонение египетского фараона Солнцу Хлебников расценивал и как выражение рационального натурфилософского или даже астрономического подхода, для которого важны числа). Можно предположить, что по времени написания стихотворение близко к «Ка», потому что в нём отражён более ранний этап работы Хлебникова над числовыми уравнениями истории и биографии (в том числе и его собственной).
То, что Хлебников отождествлял себя с Аменофисом, позволяет понять одно из возможных значений повести «Ка». В ней героями служат одновременно Аменофис и Хлебников, а темой — связь между ними, символизируемая поцелуем, который Ка Аменофиса передаёт Хлебникову. Эта передача эстафеты делает сюжет повести особенно увлекательным. Двойник (Ка) введён для того, чтобы утвердить преемственность Хлебникова по отношению к Аменофису. Эта личная нота делает повесть Хлебникова совершенно отличной от романа Мережковского, сделавшего фараона героем одной из книг своей серии романов об идеологической истории человечества.
Смерть Аменофиса описана в повести три раза. Первое описание заканчивает сцену у водопада. После выстрела, ранившего и убившего Аменофиса, четыре духа (Ка) спасаются бегством по чёрно-пепельному и грозовому небу (533; в начале шестой главы этот пепельно-серый, почти чёрный цвет описан как присущий платью японской богини Изанаги). Бегство было удачно: их никто не видел (533).
В начале следующей (восьмой, и предпоследней) главы то же убийство описывается в двух разных временных плоскостях: Аменофис одновременно — сын Тэи, фараон Амарнского периода, им созданного, и чёрная обезьяна в современной Африке. В качестве фараона, сына Тэи, он обращается к Аи, называя того титулом отец богов, который был важнейшим из почётных званий этого вельможи.80 По словам Аменофиса, ромету (египетское rmt “человек, люди, человечество”, коптское RΩME,81
По словам Аменофиса, ромету (египетское rmt “человек, люди, человечество”, коптское RΩME,81 подтверждающее верность огласовки, использованной Хлебниковым) называют его “богом богов”, что можно сопоставить с некоторыми титулами, встречающимися в памятниках конца Амарнского периода.82
подтверждающее верность огласовки, использованной Хлебниковым) называют его “богом богов”, что можно сопоставить с некоторыми титулами, встречающимися в памятниках конца Амарнского периода.82 Аменофис спрашивает, не дадут ли ему ушебти (у Хлебникова ушепти) — скульптурные фигуры царских прислужников, которые должны были на него работать в загробном существовании.83
Аменофис спрашивает, не дадут ли ему ушебти (у Хлебникова ушепти) — скульптурные фигуры царских прислужников, которые должны были на него работать в загробном существовании.83 Звуковая структура этого египетского термина обыгрывается в анаграмме шёпотом в стихотворной части монолога Аменофиса:
Звуковая структура этого египетского термина обыгрывается в анаграмме шёпотом в стихотворной части монолога Аменофиса:
И с шёпотом тихим Ушепти
Повторит за мною: ты прав!
Этот монолог можно сравнить с гимнами Аменофиса, для которых в последнее время предположена четкая метрическая структура.84 Иначе говоря, можно предположить, что реформатор излагал свои идеи не только в поэтических образах, но и в стихотворной форме. Эта последняя в первом стихотворном монологе фараона в повести Хлебникова более проста, чем в амарнских гимнах. У Хлебникова фараон, начиная сочинять стихи, обращается к своему вельможе Аи: “Давай, Аи, лепить слова,85
Иначе говоря, можно предположить, что реформатор излагал свои идеи не только в поэтических образах, но и в стихотворной форме. Эта последняя в первом стихотворном монологе фараона в повести Хлебникова более проста, чем в амарнских гимнах. У Хлебникова фараон, начиная сочинять стихи, обращается к своему вельможе Аи: “Давай, Аи, лепить слова,85 понятные для пахаря” (533). Принимая (исторически оправданную86
понятные для пахаря” (533). Принимая (исторически оправданную86 ) гипотезу о том, что реформа Аменофиса была на пользу простым людям (а не жрецам), Хлебников полагал, что солнцепоклонник мог думать о бедняке, которому некому возносить молитвы (525), потому что многочисленные боги ссорятся между собой. Обращаясь к “людям”, или “человечеству”, он говорит:
) гипотезу о том, что реформа Аменофиса была на пользу простым людям (а не жрецам), Хлебников полагал, что солнцепоклонник мог думать о бедняке, которому некому возносить молитвы (525), потому что многочисленные боги ссорятся между собой. Обращаясь к “людям”, или “человечеству”, он говорит:
„Я к солнцу, вас, ромету, вывел” (533).
Пользуясь современными аналогиями, можно было бы напомнить, что Аполлон Григорьев одного из немногих сопоставимых с Аменофисом персонажей назвал „демагогом”. Поэтому хлебниковский Аменофис сочиняет простые и понятные стихи. В одной из строк сказано, что он — кум Солнца (533). Это позволяет сблизить стихи Аменофиса с достаточно загадочным87  стихотворением «Чёрный царь плясал перед народом...», где есть строка: Оно, о солнце-старче, кум ‹...›. Образец более сложных стихов, напоминающих ту древнеегипетскую лирику, которая уже была к тому времени известна в России по переложениям в книге Бальмонта «Край Осириса», представляет второе стихотворение, произносимое в «Ка» Аменофисом. В нём фигурируют те древние боги, которых Аменофис отменяет. В их перечислении в прозаической речи Аменофиса на втором месте та самая богиня Хатхор, представлявшаяся в образе коровы или женщины с коровьими рогами, которая описана во втором стихотворении. В нём содержится и фрагмент мифа о поверженном боге Горе, которому помогает Хатхор.
стихотворением «Чёрный царь плясал перед народом...», где есть строка: Оно, о солнце-старче, кум ‹...›. Образец более сложных стихов, напоминающих ту древнеегипетскую лирику, которая уже была к тому времени известна в России по переложениям в книге Бальмонта «Край Осириса», представляет второе стихотворение, произносимое в «Ка» Аменофисом. В нём фигурируют те древние боги, которых Аменофис отменяет. В их перечислении в прозаической речи Аменофиса на втором месте та самая богиня Хатхор, представлявшаяся в образе коровы или женщины с коровьими рогами, которая описана во втором стихотворении. В нём содержится и фрагмент мифа о поверженном боге Горе, которому помогает Хатхор.
Между двумя этими стихотворениями находится эпизод, где убивают Аменофиса, на этот раз перевоплотившегося в чёрную обезьяну. По законам обратного движения времени в сюжете этой повести, напоминающей этой особенностью своего строения хлебниковский перевертень (палиндром), чучело этой убитой обезьяны появляется раньше, в конце главы. Хлебников возвращается в Петербург, где, как и в первой главе «Ка», на улицах пасутся стада тонкорунных людей (524, последние 3 слова повторены на с. 529). Следовательно, метафора толпы как стада (подобно началу чаплинского фильма) проходит через повесть, оттеняя другую метафору из мира животных — одинокий новатор как обезьяна. В город прибыла выставка редкостей, и там я увидел чучело обезьяны с пеной на чёрных восковых губах; чёрный шов был ясно заметен на груди; в руках её была восковая женщина. Я ушёл (529). Этот сюжетный ход, соединяющий Аменофиса-обезьяну с обезьяньим чучелом, на которое с отвращением в Петербурге смотрел автор, напоминает сочинение (сценарий), где Хлебников соединяет мифологического слона, сплетенного телами женщин, со слоном, которого герой кормит булкой в зверинце.88 Подобно этому в современный Петербург приезжает древнерусская княжна Людмила в поэме «Внучка Малуши»; конфликт эпох приводит к катастрофе.89
Подобно этому в современный Петербург приезжает древнерусская княжна Людмила в поэме «Внучка Малуши»; конфликт эпох приводит к катастрофе.89 Во всех этих построениях существенно соединение вместе разных хронотопов при обязательности того, который присущ автору.
Во всех этих построениях существенно соединение вместе разных хронотопов при обязательности того, который присущ автору.
На выставке в Петербурге оказалось чучело обезьяны, заказанное до того русскому торговцу. О том, как он его добыл, повествуется (с той же обратной последовательностью палиндрома) значительно позднее — в предпоследней (восьмой) главе «Ка».90 Там описана русская хижина в лесу, около Нила. Среди вещей, напоминающих о современности, как ружьё, которое выстрелит, согласно Чехову, есть и попугай, твердящий коллаж из строчек Пушкина. В избе слоновые бивни и слонёнок с железной цепью на ноге. Если вернуться к сопоставлению с Рембо, который, забросив поэтические занятия своего отрочества и юности, стал торговать в Африке, то у Хлебникова-поэта торговец вызывает отрицательные чувства. В этой избе русский купец — торговец зверями излагает заказ: обезьяна, большой самец. Понимаешь? Нельзя живьём, только мёртвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам (534). Последняя ремарка означает, что чучело убитой по заказу купца обезьяны будут возить по городам, а в руки положат изображение женщины (Лейлы, или Белой), которую в обмороке на руках уносили Ка в предшествующем эпизоде убийства Аменофиса у водопада: ‹...› долго бежали четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая (533). Эта женщина описывается как свидетельница и в сцене убийства обезьяны, обращаясь к которой она говорит: ‹...› я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн (534). Сопоставление с рассказом Гумилёва «Лесной дьявол»,91
Там описана русская хижина в лесу, около Нила. Среди вещей, напоминающих о современности, как ружьё, которое выстрелит, согласно Чехову, есть и попугай, твердящий коллаж из строчек Пушкина. В избе слоновые бивни и слонёнок с железной цепью на ноге. Если вернуться к сопоставлению с Рембо, который, забросив поэтические занятия своего отрочества и юности, стал торговать в Африке, то у Хлебникова-поэта торговец вызывает отрицательные чувства. В этой избе русский купец — торговец зверями излагает заказ: обезьяна, большой самец. Понимаешь? Нельзя живьём, только мёртвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам (534). Последняя ремарка означает, что чучело убитой по заказу купца обезьяны будут возить по городам, а в руки положат изображение женщины (Лейлы, или Белой), которую в обмороке на руках уносили Ка в предшествующем эпизоде убийства Аменофиса у водопада: ‹...› долго бежали четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая (533). Эта женщина описывается как свидетельница и в сцене убийства обезьяны, обращаясь к которой она говорит: ‹...› я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн (534). Сопоставление с рассказом Гумилёва «Лесной дьявол»,91 где в конце героиня целует в губы голову убитого павиана, пытавшегося её изнасиловать, возможно в том смысле, что и у Хлебникова присутствует двойственность ощущений женщины, говорящей обезьяне перед её убийством: Мой милый и мой страшный обожатель! (534). Но ни Аменофис, который скрыт в обезьяне, ни сложность образа Белой-Лейлы не находят параллелей у Гумилёва.
где в конце героиня целует в губы голову убитого павиана, пытавшегося её изнасиловать, возможно в том смысле, что и у Хлебникова присутствует двойственность ощущений женщины, говорящей обезьяне перед её убийством: Мой милый и мой страшный обожатель! (534). Но ни Аменофис, который скрыт в обезьяне, ни сложность образа Белой-Лейлы не находят параллелей у Гумилёва.
В этой сцене убийства обезьяна говорит на хлебниковском заумном языке богов. В ранней своей работе Якобсон считал, что мотивировкой употребления зауми служит обезьяний язык.92 Продолжая свои занятия заумью Хлебникова в более широком сопоставительном ключе, Якобсон много лет спустя пришёл к наблюдению об особой значимости для неё, как и для типологически сходных явлений глоссолалии в самых разных традициях, сочетаний предназализации с последующим смычным, у Хлебникова — в особенности комбинации носового согласного н с аффрикатой ч.93
Продолжая свои занятия заумью Хлебникова в более широком сопоставительном ключе, Якобсон много лет спустя пришёл к наблюдению об особой значимости для неё, как и для типологически сходных явлений глоссолалии в самых разных традициях, сочетаний предназализации с последующим смычным, у Хлебникова — в особенности комбинации носового согласного н с аффрикатой ч.93 Так получило разъяснение и восклицание умирающего Аменофиса — слова манч, манч, манч, которые, по отзыву Хлебникова, у него самого вызывали почти боль: он не мог их читать, видя молнию между собой и ими (Хлебников 1986: 37). Иначе говоря, самоотождествление касалось и сцены убийства обезьяны-Аменофиса, и словесного его выражения. То, что последнее осуществлено на языке богов, типологически являющемся аналогом общения с богом (говорения языками) посредством глоссолалии, связано с тем, что обезьяна — одновременно Аменофис, “бог богов”. В этом эпизоде заумное восклицание из трёх повторяющихся слов, завораживавших самого Хлебникова, выступает дважды: сперва его произносит раненный выстрелом Эхнатэн — черная обезьяна, а потом — Аменофис, уже окружённый духами, которые схватывают Лейли и уносят её (534). В этом двойном представлении убиваемого фараона, как и в других хлебниковских интуитивных прозрениях, касающихся Древнего Египта, есть оттенок непонятного источника знания, за который могли бы ухватиться любители парапсихологии. Можно ли думать, будто Хлебников мог читать о том, что в Древнем Египте „дрессированные обезьяны участвовали в различных религиозно-драматических представлениях и что, с другой стороны, в таких представлениях участвовали и жрецы, одетые обезьянами и исполнявшие соответствующие мифологические роли”?94
Так получило разъяснение и восклицание умирающего Аменофиса — слова манч, манч, манч, которые, по отзыву Хлебникова, у него самого вызывали почти боль: он не мог их читать, видя молнию между собой и ими (Хлебников 1986: 37). Иначе говоря, самоотождествление касалось и сцены убийства обезьяны-Аменофиса, и словесного его выражения. То, что последнее осуществлено на языке богов, типологически являющемся аналогом общения с богом (говорения языками) посредством глоссолалии, связано с тем, что обезьяна — одновременно Аменофис, “бог богов”. В этом эпизоде заумное восклицание из трёх повторяющихся слов, завораживавших самого Хлебникова, выступает дважды: сперва его произносит раненный выстрелом Эхнатэн — черная обезьяна, а потом — Аменофис, уже окружённый духами, которые схватывают Лейли и уносят её (534). В этом двойном представлении убиваемого фараона, как и в других хлебниковских интуитивных прозрениях, касающихся Древнего Египта, есть оттенок непонятного источника знания, за который могли бы ухватиться любители парапсихологии. Можно ли думать, будто Хлебников мог читать о том, что в Древнем Египте „дрессированные обезьяны участвовали в различных религиозно-драматических представлениях и что, с другой стороны, в таких представлениях участвовали и жрецы, одетые обезьянами и исполнявшие соответствующие мифологические роли”?94 В то же время, представление о превращении фараона-мыслителя в обезьяну („несуразное воплощение”, если воспользоваться выражением Набокова) важно для хлебниковского понимания перевоплощения в буддийском духе.
В то же время, представление о превращении фараона-мыслителя в обезьяну („несуразное воплощение”, если воспользоваться выражением Набокова) важно для хлебниковского понимания перевоплощения в буддийском духе.
В отождествлении фараона с обезьяной есть и налёт футуристической карнавальной игры, доведённой до чистого гротеска в гумилёвском стихотворении «Либерия» из «Шатра», где обезьяна выступает в качестве президента. Этот карнавальный момент делает хлебниковское изложение менее торжественным, чем, скажем, изображение Тутанхамона у Мережковского или Рамзеса в блоковских драматических сценах, замышлявшихся для «Всемирной литературы» в послереволюционное время.
Третье описание того же убийства в «Ка» отнесено к Древнему Египту — в отличие от первого, увиденного из загробного существования, и второго, происходящего в современной Африке. Убийству предшествует воспроизведение разговоров жрецов, возмущающихся реформами Аменофиса, и чтение им второго стихотворения.
В последней, девятой, главе Египет назван в качестве одной из семи стоп времени, о которых думал Хлебников. Перед заключительным эпизодом прихода Ка с известием о смерти Эхнатэна Хлебников излагает своё писание повести на языке египетских сравнений: На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса, лотос из устья Волги, или Ра (536). Хлебников постоянно обыгрывал созвучие древнего имени Волги — Ра и египетского имени Солнца и бога Солнца — Ра. В то же самое время ему казалось, что устье Волги (знакомой ему с детства, проведённого в Астрахани и возле неё) напоминает дельту Нила. Об этом говорится в нескольких строках длинной автобиографической поэмы «Хаджи-Тархан» (Хлебников 1986: 246, 247, 249; Lönnqvist 1986: 304–305).
По его словам, в этих краях смотрит Африкой Россия. В этой поэме и в других рукописях Хлебников соединяет Осириса с Солнцем — Ра. Упоминания замороженного Озириса кажутся автобиографическими (там же, с. 305–306), как и большинство других мест в его сочинениях, связанных с Древним Египтом. Задуманная им большая вещь «Озирис XX века» должна была по стилю и композиции продолжить ту манеру, в которой была написана «Ка» (Cooke 1987: 170, 223).
Если гумилёвское путешествие в Африку совершалось в пространстве, то хлебниковское погружение в Египет осуществлялось во времени. Ему удалось достичь при этом многого.
————————
Примечания  1
1 О месте коптского среди языков восточно-средиземноморского цикла, к северо-западной окраине которых относился древнеславянский, ср. Мещерский 1995: 13–19, 24.
 2
2 Батюшков 1890–1891; Batiouchkoff 1891.
 3
3 Dudley 1911; Osmond 1990.
 4
4 Лурье 1962; 1970: 560–567 (посмертная публикация); Luria 1961; одновременно с Лурье связь орфического учения с египетской религиозной традицией на отчасти другом материале доказал Моренц: Morenz 1950.
 5
5 Батюшков 1891: 415–430; Jakobson 1985: 600–609 (по ошибке переводчика статьи в её английском посмертном издании дана неверная датировка армянского текста). Сопоставленный со старочешским текстом Батюшковым, а вслед за ним Якобсоном, провансальско-каталанский, в котором есть в финале и борьба за душу умершего между дьяволом и ангелом, представляет интерес и с точки зрения до сих пор не решённого вопроса о возможном (старофранцузском или провансальском? ср. Якубович 1935; Иезуитова 1974 с дальнейшей библиографией) источнике пушкинской «Легенды», в конце которой Мария-Дева заступается за душу умершего, как в старочешском сочинении.
 6
6 Havránck, Hrábak 1957: 226; Veltruský 1985: 186; Jakobson 1985: 636,1. 560.
 7
7 Ср. о его ораторском искусстве: Ерёмин 1925; 1987: 92–94, 223–234 (с дальнейшей литературой вопроса). О претворении той же символики у Гумилёва (прежде всего ориентированного на известное стихотворение Вийона) ср. Богомолов 1992: 48; Eshelman 1987; Driver 1991: 293 (встающий в свете этих и других подобных интертекстуальных исследований вопрос о границах возможной реальной начитанности самого поэта достаточно сложен в случае Гумилёва не только потому, что он много читал и располагал большой библиотекой, но и ввиду количества у него друзей с безмерно широким кругом чтения, как у Шилейко).
 8
8 Constantin 1891. В новейшей литературе о Гумилёве и Африке эта авантюра не упоминается. Между тем, в Джибути, через которое он, как и большинство путешественников, попадал в Абиссинию, Гумилёв скорее всего должен был слышать о нашумевшей истории русского казака.
 9
9 Гумилёв 1991, II: 258, 437; ср. Артамонов 1979.
 10
10 Крейд 1988: 126; Давидсон 1988; Вольпе 1989; Бронгулеев 1995: 321–341.
 11
11 Бронгулеев: 340.
 12
12 Там же: 310.
 13
13 Там же: 184–196, 350, примеч. 155–158. Кроме указанной там же литературы см.: Елец 1898.
 14
14 В последнее время ставшая преобладающей тенденция найти преимущественно оккультные ключи к гумилёвскому творчеству коснулась и его отношения к Африке: Богомолов 1992: 46–47. Наиболее серьёзное основание для этого даёт ранний рассказ «Вверх по Нилу», ср. о нём: Кравцова 1992: 56, примеч. 13. Не все доводы, приводимые Н.А. Богомоловым из ставшей в недавние годы популярной литературы на эту тему, подтверждаются текстами самого Гумилёва: в частности, Смирна для него была не городом для посвящённых (Богомолов 1992: 46), а „маленьким юрким червячком” „на разлагающемся трупе Востока” (Гумилёв 1991, II: 259).
 15
15 В биографии Хаггарда можно найти черты сходства с гумилёвской: он собирал коллекцию египетских древностей: Blackman 1917; Переп лкин 1969: 128–129; 1979: 119–120.
 16
16 Dombre-Potocki 1971: 19–42; Rusinko 1976: 129; Бронгулеев 1995: 66–68, 71,77–78, 92, 111–112.
 17
17 Ср. Тименчик 1987: 276 и сл.; Клинг 1995: 110–111, 117.
 18
18 Гумилёв 1991, II: 430 (примеч. Е.Е. Степанова); Степанов 1991: 353; осторожнее высказывается Бронгулеев (1995: 60, 69–70); ср. о “тайной” поездке 1907 г.: Зобнин, Петрановский, Станюкович 1991: 226.
 19
19 Бронгулеев 1995: 104–112, 114; Степанов 1991: 358; Зобнин, Петрановский, Станькович 1991: 30 и 226, примеч. 7 и 15.
 20
20 „Раскидистые пальмы и платаны” в контексте других экзотических африканских образов встречаются и в значительно более раннем стихотворении – акростихе В.А. Кривичу, которое Гумилёв написал на своих «Романтических цветах», см. Гумилёв 1991, I: 439; факсимильное воспроизведение: Бронгулеев 1995: 103.
 21
21 Dombre-Potocki 1971: 222; Гумилёв 1991, I: 528–529 (примечания Н.А. Богомолова, сближающего стихотворение с письмом 1909 г. о каирском саде, где дословно со стихами совпадает только описание луны, ср. Бронгулеев 1995: 156). „Рощи пальм” встречаются во многих стихах Гумилёва, поэтому соотнесение стихотворения, начинающегося этим сочетанием, с каирским садом (Бронгулеев 1995: 113) не кажется обязательным. О слове ‘сад’ у Гумилёва ср.: Клинг 1995.
 22
22 Гумилёв 1991, II: 264, 270.
 23
23 Бронгулеев 1995: 157–159. См. о датировке ниже.
 24
24 Давидсон 1988; Вольпе 1989; Лукницкая 1990: 122; Степанов 1991: 368– 369; Лаппо-Данилевский 1992; Бронгулеев 1995: 181–204.
 25
25 Лаппо-Данилевский 1992: 102. „Лев, ангел Абиссинии” и позднее встречается у Иванова (в «Человеке»).
 26
26 Тураев, Айналов 1913; Тураев 1914. Доктор Кохановский, собрание картин которого описывал Тураев, встречался с Гумилёвым в Аддис-Абебе.
 27
27 Budge 1969, vol. 2: 103,109; 1967: 104, 315; Kees 1956: 84–85. О египетском и коптском названии
Ficus Sycomorus: Černý 1976: 116.
 28
28 Ср. о возможном сопоставлении со строкой о бегстве под „царственную сикомору” в альбомном варианте стихотворения 1917 г. «Позор»: Гумилёв 1991, I: 561 (примеч. Н.А. Богомолова).
 29
29 Гумилёв 1991, II: 287. См. весь цикл: Гумилёв 1988: 478–484; отдельные песни: Бронгулеев 1995: 202–203, рис.
 30
30 Ср. также замечания в статье: Греем 1992: 25–26 и сл.
 31
31 О верлибрах Гумилёва ср.: Баевский 1992: 67–74.
 32
32 Гумилёв 1991, I: 516 (примеч. Н.А. Богомолова).
 33
33 Бронгулеев 1995: 70.
 34
34 См. о многочисленных образцах рождественских рассказов и стихов: Баран 1993: 284–347; о соответствующем прозаическом жанре: Душечкина, Баран 1993. Поэтическая рождественская традиция, после фольклорных её форм представленная «Светланой» Жуковского, в начале века засвидетельствована большим числом позднейших святочных стихотворных текстов (в том числе блоковских), см.: Баран 1993: 306–310. Ср. гипотезу о преломлении традиций календарной поэзии в сочинениях других жанров у того же Блока: Гаспаров 1994; о Маяковском в соотнесении с календарной поэзией см. Baran 1995. В большой литературе о «Поэме без героя» обсуждалась возможность соотнесения её с поэзией святочных гаданий. В более широком плане к этой традиции примыкает цикл стихов о ёлке Пастернака, его же «Рождественская звезда» и стихи Бродского, написанные в разные годы в рождественские дни и тематически с ними связанные.
 35
35 В духе пастернаковской поэтики тех лет, ориентирующейся на сугубо неточные рифмы, кажется вероятным, что кроме фонем фамилии порта в анаграмме участвуют и такие звуковые единицы, которые отстоят от них на один различительный признак:
м-
а,
х-
к. Отождествление самого поэта с Пушкиным, видное в глубинной семантической структуре цикла, подтверждается портретом, в те годы сделанным Пастернаком-отцом.
 36
36 Не совсем ясно, намеренно ли Пастернак употребил здесь имя одного из самых поздних фараонов. По смыслу строки речь идёт о том, что улыбка сфинкса очень древняя. А этому противоречит реальная поздняя хронология всех трёх Псамметихов.
 37 Псамметих
37 Псамметих: Тураев 1920: 212. У Гумилёва и (вслед за ним?) Пастернака используется западноевропейская транслитерация имени типа англ. Psammctichus. Египетское (возможно первоначально иноязычное, скорее всего ливийское, Meieunacre 1951: 16–21) имя фараона Psm
tk многократно обсуждалось в новейшей египтологической литературе с точки зрения клинописной его передачи и карийских соответствий, ср.: Kammerzell 1993: 11, 224, 225; Schürr 1992: 150; Ray 1990: 59,75, 79.
 38
38 Barnes 1989: 370, 409. В «Охранной грамоте» (в то время, когда о Гумилёве уже не принято было упоминать) говорится о „Гумилёвском “шестом чувстве”. Мне Пастернак говорил о перечитывании бывшей у него дома книги (или книжек) Гумилёва уже в 1950-х годах. Тяжеловесность пятистопных ямбов ему не нравилась, как и у него самого. Но другими стихами, их напором он восхищался: „Это как будто армия наступает”.
 39
39 Зобнин, Петрановский, Станюкович 1991: 121.
 40
40 Terrace, Fischer 1970: 165–176, о наличии статуй в первоначальной коллекции музея ср.: там же: 10–11. Замечание о сходстве Псамметихов с Сети, хотя оно и даётся в ходе болтовни несерьёзного свойства, не лишено у Гумилёва смысла при огромности различия во времени, потому что скульптуры эпохи „саисского возрождения” или „реставрации”, как вся культура той поры, ориентированы на подражание классическим образцам раннего периода (там же: 165 и сл.; Тураев 1920: 208 и сл.).
 41
41 Со ссылкой на мнение Л.Н. Гумилёва (который родился в том году, когда была издана пьеса, и поэтому мог только строить гипотезы по поводу её фабулы), высказанное в беседе с М.Д. Эльзоном, это отождествление обсуждает Д.И. Золотницкий; Гумилёв 1990: 374–375.
 42
42 Зобнин, Петрановский, Станюкович 1991: 34.
 43
43 Шилейко 1918, ср.: Иванов 1987: 130, 147–151, см. об отношении Ахматовой к Шилейко там же: 145–146. Самым невероятным предположением в ретроспективной гипотезе Л.Н. Гумилёва представляется фантастическая и ни на чём не основанная идея, по которой в образе молодой американки — невесты Лелорелло его отец изобразил А.А. Ахматову. Н.С. Гумилёв даже и после женитьбы Ахматовой на Шилейко не мог поверить в то, что её выбор пал именно на него (Зобнин, Петрановский, Станюкович 1991: 223). Предположить, что Гумилёв представил себе в виде фарса этот тогда не существовавший роман, нельзя. Для понимания того, как могла возникнуть гипотеза Л.Н. Гумилёва, пришлось бы касаться его напряжённых отношений с матерью в последний период.
 44
44 Акмеистическая традиция восьмистиший, начатая этими стихами Гумилёва и Шилейко, была продолжена (в других метрах) Мандельштамом в воронежский период.
 45
45 Тураев 1898. Работа сохраняет свою ценность несмотря на наличие нескольких последующих книг и монографических статей об этом боге, ср. Thausing 1955, Wessetzky 1958 (с библиографией, учитывающей труд Тураева).
 46
46 Тураев 1898; 1920: 9–10, 258, 264, 267–268, 272; Матье 1956: 165.
 47
47 Давидсон 1988; Вольпе 1989; Бронгулеев 1995: 288–345; Эльзон 1992: 104.
 48
48 Давидсон 1988: 678–683; Бронгулеев 1995: 338–391.
 49
49 Бронгулеев 1995: 157–159; рассказ был передан Ахматовой в редакцию «Нивы» летом 1914 г., после того, как Гумилёв его правил в Слепневе: Гумилёв 1991, II: 432 (примеч. Е.Е. Степанова); Степанов 1991: 387. Об усматриваемом в недавно найденной записи Ахматовой в этом рассказе влиянии «Сказки Извилистых Гор» Эдгара По ср.: Кравцова 1992: 51 и сл.
 50
50 Ср. Hemingway 1999.
 51
51 Гумилёв 1991, I: 532 (примеч. Н.А. Богомолова).
 52
52 Ср. Rusinko 1977: 73.
 53
53 Сравнение или сопоставление Нила с Невой есть в стихах о Музее этнографии и в других строках Гумилёва. В русской поэзии оно встречается уже в политических стихах Тютчева.
 54
54 Полякова 1992; Кроль 1990: 216; Тименчик 1987а: 139. Для трансформации образа у Гумилёва кажется существенным и то, что во время гражданской войны овощи исчезли из зеленных лавок, а число казнённых людей было огромным.
 55
55 Matlow 1975; Богомолов 1992: 47.
 56
56 Баран 1993: 177, примеч. 28.
 57
57 Клинг 1995: 108–109.
 58
58 Breasted 1924: 109; Weigall 1922. Ср. по этому поводу скептические замечания Кеса (Kees 1956: 372), для которого Аменофис IV остается явлением, чуждым Египту (там же: 375), и не создателем религии (там же: 373): случай, когда в середине XX в. на него смотрят глазами архаических раннеегипетских божеств и ультрасовременных этнических предрассудков! Относительно возможной связи Аменофиса и Моисея, предположенной ещё Фрейдом, ср. теперь также: Assmann 1997; Santner 1999. О разных оценках реформатора см.: Ray 1993; Tyldesley 1999: 3–4, 85–91.
 59
59 Современные исследователи определяют период Амен-Хотпа IV – Эхнейотина (Akhanayatin) – как 1350–1333 гг. до н.э. Поскольку «Ка» описывает время непосредственно перед смертью фараона, действие повести относится к последней дате. См. о хронологии, царских именах и других аспектах этого периода: Перепёлкин 1967–1984; 1969; 1979; Grandet 1995; Aldred 1988; Redford 1984; Assmann 1983; 1984; 1997.
 60
60 Здесь и далее в скобках в основном тексте и в примечаниях указываются страницы «Ка» по изданию: Хлебников 1986.
 61
61 Бёмиг 1992: 190, там же литература.
 62
62 См.: Дуганов 1990: 316–325; Lanne 1995; Соливетти, Рыжик-Набокина 1997; ср. о пьесах Хлебникова: Сигов 1988. Анализ структуры повести «Ка» с точки зрения понимания Хлебниковым двойника: Vroon 1986: 258–261. О роли мнимых чисел в повести ср.: Григорьев 1983: 127.
 63
63 Baran 1980; Simmons 1987; Баран 1993: 163 и сл., 259.
 64
64 Goldt 1987: 118–122; Cooke 1987: 104–160; Lanne 1983: 39–50; Baran 1984.
 65
65 Ср. об этом вельможе и его титулах: Перепелкин 1969: 44; Grandet 1995: 54–55, 137–138.
 66
66 Ср. об этом имени и его составных частях и употреблении во время Эхнейотина: Перепёлкин 1967: 153 и сл., 157–164; кн. III и IV: 4; 1979: 165–168; Grandet: 22.
 67
67 Blackman 1926.
 68
68 Budge, vol. 2: 356; Kees 1956: 158.
 69
69 Хлебников в этом случае пользуется транскрипцией, основанной на позднем фонетическом изменении h>š (ср. у него же имя
Шурур). О
хех в разных вариантах египетской космологии см.: Антес 1977: 56–57, 98–99; Budge 1969, I: 289 (Heb); Kees 1956: 171,226. Комментарий к этому месту «Ка» в издании Хлебников (1986: 700), ошибочен.
 70
70 Ср. упоминание
теневых, но всё же прекрасных колен и
теневого локтя Ка в одной из следующих глав (530).
 71
71 Тураев (1920: 110) считал пунтскую галерею Хатшепсут в Дейр-эль- Бахри, изображающую эту экспедицию и отношения между Египтом и тропической Африкой, одним „из самых важных культурно-исторических памятников человечества”. Любопытно, что, согласно новейшим исследованиям, с эпохи Хатшепсут начинается то движение египетской религиозно-философской мысли, которое привело к реформе Эхнейотина: Assmann 1983: 96; 1984: 221; Grandet 1995: 25, 30.
 72
72 Об упоминаниях матери Аменофиса Тэйи (Тии) в надписях ср.: Перепёлкин 1967, III, IV: 3–13, 35–36, 39–40.
 73
73 Ср. его замечание по поводу пожелания долголетия Нефертити в надписи Эхнейотина: Тураев 1920: 115.
 74
74 Вопреки неточному комментарию в издании: Хлебников 1986: 701, — эта форма, приведённая Хлебниковым, правильна, см. об этом вельможе и его гробнице, в которой сохранился один из 5 до нас дошедших вариантов гимна Атону: Перепёлкин 1967, I–II: 63, 121, 173, 190–191; кн. III–IV: 24, 31, 34, 72, 80, 135, 155, 182, 195, 197, 207, 222, 240–241, 251; Grandet 1995: 50–51,73.
 75
75 Перепёлкин 1969: 108–109, 132; 1979: 66–67, 131, 135–153; Grandet 1995: 53, 56.
 76
76 Grandet 1995: 46. Комментарий в издании: Хлебников 1986: 701, — ошибочен. Женщина с цветами в саду изображена на замечательной фреске из Амарны.
 77
77 Хлебников 1996: 38.
 78
78 РГАЛИ, ф. 527, on. 1, ед. хр. 89, л. 1 об.; Lönnqvist 1979: 34; Baran 1983: 82; Cooke 1987: 43, 200.
 79
79 Cooke 1987: 43.
 80
80 Перепёлкин 1969: 44; Grandet 1995: 55. В брошюре «Время мера мира» Хлебников толкует этот титул как
верховный жрец, что, вообще говоря, возможно: Перепёлкин 1967, ч. 1, кн. III, IV: 213, но ср. там же: 214, о применении термина по отношению к Аи как „нареченному “отцу” фараона”.
 81
81 Černý 1976: 136; Blažek 1994.
 82
82 Перепёлкин 1967, ч. 1, кн. III–IV: 229–231.
 83
83 О понимании этих изображений см.: Берлев 1972: 39; 1978: 33–34.
 84
84 Grandet 1995: 75 (с библиографией новых работ по древнеегипетской метрике, в частности, выявивших роль семичастных структур с членением 7 = 4 + 3, которая прослеживается и в амарнских гимнах Атону-Йоту).
 85
85 На первый взгляд разительное совпадение со строчкой из «Сестры моей – жизни» –
Давай ронять слова ‹...› (написано через два года после «Ка») – скорее всего объясняется тем, что Хлебников и Пастернак, стремясь к обмирщению (термин Мандельштама, применённый им к ним обоим) стихотворного языка, вводили в него одинаковые разговорные речения. Но Пастернак мог знать (находившуюся ещё в рукописи) повесть Хлебникова, которого боготворили в кружке Маяковского, куда он в те годы был вхож. Несмотря на недавние возражения (Fleishman 1990: 64) влияние Хлебникова и даже прямое заимствование из его ещё не напечатанных стихов определённо видно в таких архаизирующих неологизмах, как
жародей-Жог в стихотворении 1914 г. (Пастернак 1989, I: 506), ср. у Хлебникова:
Мира славный Жародей, – в качестве эпитета
Жарбога в стихотворении об этом боге, придуманном Хлебниковым, которое он написал в 1908 г. Пастернак мог знать более позднее длинное стихотворение 1911–1912 гг., куда в качестве составной части вошло это более раннее стихотворение (см. факсимильное воспроизведение с комментариями: Дуганов 1990: 173–174, рис. 16; о других вариантах стихотворения: Хлебников 1986: 44, 663, 680).
 86
86 Ср., например, Матье 1958: 131.
 87
87 О разных опытах его истолкования см.: Левинтон 1993. Если принять предлагаемое сравнение, то место действия стихотворения надо отнести к Африке, что подтверждают
чёрные жены, как и
чёрный царь, да и
жрецы, которые
ударили в там-там. Самовар в «Ка» присутствует в сцене встречи трёх Ка.
 88
88 Ср. об этой рукописи: Баран 1993: 51, примеч. 1.
 89
89 Ср.: Баран 1993: 70; Tenas 1998: 230. Об отчасти сходном мотиве в позднейшем сценарии Эйзенштейна «МММ» ср. 1 т. наст, изд.: 177.
 90
90 Баран 1993: 164.
 91
91 Там же: 177, примеч. 28. Излагаемое здесь соображение о связи с Пушкиным интересно для сопоставления с приведённым выше текстом о перевоплощении. Одной из версий перевоплощения самого себя у Хлебникова была пушкинская.
 92
92 Якобсон 1987: 313.
 93
93 Там же: 321–323; Jakobson, Waugh 1979: 212–215.
 94
94 Матье 1956: 164; Лурье 1939: 83–87.
Литература Антес Р. 1977. Мифология в Древнем Египте // Мифология древнего мира.
М.: Наука. Гл. ред. вост, лит: 55–121.
Артамонов Л.К. 1979. Через Эфиопию к берегам Белого Нила.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Баевский В.С. 1992. „У каждого метра есть своя душа”. (Метрика Н. Гумилёва) // Кравцова, Эльзон 1992: 67–74.
Баран X. 1993. Поэтика русской литературы начала XX века / Пер. с англ.
М.: изд. группа «Прогресс».
Батюшков Ф.Д. 1890–1891. Сказания о споре души с телом в средневековой литературе // Журнал Министерства народного просвещения, т. 271– 276.
Бёмиг М. 1996. Время в пространстве: Хлебников и “философия гиперпространства” // Вестник Общества Велимира Хлебникова. Вып. 1.
М.: Гилея: 179–194.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Берлев О.Д. 1972. Трудовое население Египта в эпоху Среднего Царства.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Берлев О.Д. 1978. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего Царства. Социальный слой “царских hmww”.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Богомолов Н.А. 1992. Оккультные мотивы в творчестве Гумилёва // De Visu, о;’: 46– 51; ср. сокращенный вариант в кн.: Кравцова, Эльзон 1992: 47– 50.
Бронгулеев В.В. 1995. Посредине странствия земного. Документальная повесть о жизни и творчестве Николая Гумилёва. Годы: 1886–1913.
М.: Мысль.
Вольпе М.Л. 1989. Африканские путешествия Николая Степановича Гумилёва // Народы Азии и Африки, № 1.
Гаспаров Б.М. 1994. Тема святочного карнавала в поэме А. Блока «Двенадцать» // Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века.
М.: Наука. Гл. ред. вост, лит.: 4–27.
Греем Ш. 1992. Гумилёв и примитив // Кравцова, Эльзон 1992: 25–31.
Григорьев В.П. 1983. Грамматика идиостиля. В. Хлебников.
М.: Наука.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Гумилёв H.С. 1988. Стихотворения и поэмы. (Библиотека поэта. Большая серия).
Л.: Сов. писатель.
Гумилёв H.С. 1990. Драматические произведения. Переводы. Статьи / Примечания Д.И. Золотницкого и М.Д. Эльзона.
Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние.
Гумилёв H.С. 1991. Сочинения: В 3 т.
М.: Худож. лит. Т. 1–3.
Давидсон А.Б. 1988. Муза Дальних Странствий // Африка. Лит. альманах. Вып. 9.
М.: Худож. лит.: 642–716.
Дуганов Р.В. 1990. Велимир Хлебников. Природа творчества.
М.: Сов. писатель.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Душечкина Е„ Баран X. (сост.). 1993. Чудо рождественской ночи. Святочные рассказы.
СПб.: Худ. лит. СПб. отд-ние.
Елец Ю. 1898. Император Менелик и война его с Италией (по документам и походным дневникам Н.С. Леонтьева).
СПб.
Еремин И.П. 1925. Притча о слепце и хромце в древнерусской письменности // Изв. Отд. рус. языка и словесности, т. 30: 323–352.
Еремин И.П. 1987. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. 2-е изд.
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та.
Зобнин Ю.В., Петрановский В.П., Станюкович А.К. (сост., коммент.). 1991. Жизнь Николая Гумилёва. Воспоминания современников.
Л.: Изд-во Междунар. фонда истории науки.
Иванов Вяч.Вс. 1987. Одетый одеждою крыльев // Всходы вечности. Ассиро-вавилонская поэзия в переводах В.К. Шилейко.
М.: Книга: 129–158.
Иезуитова Р.В. 1974. «Легенда» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. История создания и идейно-художественная проблематика.
Л.: Наука. Ленингр. отд-ние: 139–176.
Клинг О.А. 1995. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилёв и символизм // Вопросы литературы, вып. V: 101–125.
Кравцова И.Г. 1992. Н. Гумилёв и Эдгар По // Кравцова, Эльзон 1992: 51–57.
Кравцова И.Г., Эльзон М.Д. (состав.). 1992. Н. Гумилёв и русский Парнас. Материалы науч. конф. 17–19 сентября 1991 г.
СПб.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.
Крейд В. 1988. Дни и труды Н.С. Гумилёва. [Приложение]. Н.С. Гумилёв. Библиография.
Orange, Connecticut: Antiquary: 113–141.
Кроль Ю.Л. 1990. Об одном необычном трамвайном маршруте // Рус. лит., № 1.
Лаппо-Данилевский К.Ю. 1992. Новонайденный конспект выступления Н.С. Гумилёва в редакции журнала «Аполлон» 5 апреля 1911 г. // Кравцова, Эльзон 1992: 101–103.
Левинтон Г.А. 1993. Заметки о Хлебникове // Русский авангард в кругу европейской культуры. Междунар, конф., Москва, 4–7 января 1993 г.
М.: Науч. совет по истории мировой культуры РАН: 125–137.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Лукницкая В. 1990. Н. Гумилёв: Жизнь поэта по материалам домашнего архива Лукницких.
Л.
Лурье И.М. 1939. Элементы животного эпоса в древнеегипетских изображениях // Тр. Отд. Востока Эрмитажа, т. 1.
Лурье С.Я. 1962. «Разговор тела с духом» в греческой литературе // Древний мир. Академику В.В. Струве.
М: Изд-во вост, лит.: 587–594.
Лурье С.Я. 1970. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования.
Л.: Наука.
Матье М.Э. 1956. Древнеегипетские мифы.
М.-Л.: Изд-во АН СССР.
Матье М.Э. 1958. Искусство Древнего Египта.
М.: Искусство.
Мещерский Я.А. 1995. Избранные статьи.
СПб.: Санкт-Петербургский ун-тет.
Пастернак Б.Л. 1989. Собрание сочинений: В 5 т. Т. I.
М.: Худож. лит.
Перепёлкин Ю.Я. 1967–1984. Переворот Амен-Хотпа IV. Ч. I. Кн. I и II, III и IV (два тома с разной пагинацией под одним переплётом); Ч. II.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Перепёлкин Ю.Я. 1969. Тайна золотого гроба.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Перепёлкин Ю.Я. 1979. Кэйе и Семнех-Ке-Рэ. К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте.
М.: Наука. Гл. ред. вост. лит.
Полякова С.В. 1992. Источник одного образа из «Заблудившегося трамвая» Гумилёва // Кравцова, Эльзон 1992: 98.
Сигов С.В. 1988. О драматургии Велимира Хлебникова // Русский театр и драматургия 1907–1917 годов. Сб. науч, трудов.
Л.: Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии: 94–111.
Соливетти К., Рыжик-Набокина Э. 1997. Истоки „сверхпрозы” Хлебникова: затекстовые и полижанровые „плоскости” // Russian Literature, XLII: 379–412.
Степанов Е.Е. 1991. Николай Гумилёв. Хроника // Гумилёв 1991, т. 3: 344–429.
Тименчик Р.Д. 1987. Иннокентий Анненский и Николай Гумилёв // Вопросы литературы, № 2: 271–279.
Тименчик Р.Д.1987а. К символике трамвая в русской поэзии // Тр. по знаковым системам, 21, Тарту.
Тураев Б.А. 1898. Бог Тот. Опыт исследования в области древнеегипетской культуры.
Лейпциг.
Тураев Б.А. 1914. Абиссинская политическая лубочная картина моего собрания // Христианский Восток.
СПб., т. 3, вып. 2: 195–196.
Тураев Б.А. 1920. Египетская литература. Т. 1: Исторический очерк древнеегипетской литературы.
М.: изд-во М. и С. Сабашниковых.
Тураев Б.А., Айналов Д.В. 1913. Произведения абиссинской живописи, собранные д-ром Кохановским // Христианский Восток.
СПб., т. 2, вып. 2: 199–209 (с рис.).
Харджиев Н.И. 1970. Маяковский и Хлебников // Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура Маяковского.
М.: Искусство: 96–127.
Хлебников В. 1986. Творения.
М.: Сов. писатель.
Хлебников В. 1996. Колесо рождений // Вестник Общества Велимира Хлебникова. Вып. 1.
М.: Гилея: 37–43.
Шилейко В.К. 1918. Фрагмент из Богазкёя в собрании Лихачёва // Записки Восточного отделения Русского археологического общества.
Пг., т. 25: 77–82.
Эльзон М.Д. 1992. Новонайденные тексты Н.С. Гумилёва. I. К истории текста стихотворения «Какая странная нега...» // Кравцова, Эльзон 1992: 104–105.
Якобсон Р.О. 1987. Работы по поэтике.
М: Прогресс.
Якубович Д.П. 1937. Пушкинская «Легенда» о рыцаре бедном // Западный сборник. 1.
М.-Л.: 227–256.
Aldred N. 1988. Akhcnaten, King of Egypt.
L.: Thames and Hudson.
Assmann J. 1983. Re und Amun. Die Krise der polytheistischen Weitbilds im Ägypten der 18– 20. Dynastie (Orbis Biblicus et orientalis 51).
Fribourg; Göttingen.
Assmann J. 1984. Ägypten, Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur (Urban-Taschenbücher, Bd. 366). Stuttgart; Berlin; Köln; Mainz.
Assmann J. 1997. Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in Western Monotheism.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Baran H. 1980. On the Poetics of a Xlebnikov Tale: Problems and patterns in «Ka» // Structural Analysis of Narrative Texts: Conference Papers / Ed. by M. Conolly, A. Kodyak, K. Pomorska.
Columbus, Ohio: N.Y. University Slavic Papers.
Baran H. 1983. Temporal Myth in Xlebnikov: From «Deti Vydry» to «Zangcsi» // Myth in Literature, New York University Slavic Papers, vol. V / Ed. A. Kodjak et al.,
Columbus, Ohio: Slavica, p. 63–88.
Baran H. 1995. Majakovski’s Holiday Poems in a Literary-Cultural Context // Studies in Poetics. Commemorative Volume Krystyna Pomorska (1928–1986) / Ed. E. Semeka-Pankratov.
Columbus, Ohio: Slavica Publishers, p. 161–190.
Barnes Ch. 1989. Boris Pasternak. A Literary Biography. Vol. 1. 1890–1928.
Cambridge: Cambridge University Press.
Batiouchkof Th. 1891. Le debat de l’Ame ct du Corps // Romania, 20, p. 1–55; 513–578.
Blackman A.M. 1917. The Nugent and Haggard Collection of Egyptian Antiquities // The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 4.
Blackman A.M. 1926. The Psalms in the Light of Egyptian Research // The Psalmists / Ed. William K. Simpsons.
Oxford: Oxford University Press.
Blažek V. 1994. Toward the Etymology of Egyptian rm
t // 6
th International Hamito-Semitic Congress (preprint).
Breastead J. H. 1924. Ikhnaton, The Religious Revolutionary // The Cambridge Ancient History.
Cambridge University Press.
Budge E.A. Wallis. 1967. The Egyptian Book of the Dead (the Papyrus of Ani in the British Museum) Egyptian Text Transliteration and Translation.
N.Y.: Dover Publications, Inc. (reprint of the 1895 ed.).
Budge E.A. Wallis. 1969. The Gods of the Egyptians or the Studies in Egyptian Mythology. Vol. 2.
N.Y.: Dover Publications, Inc. (reprint of the 1904 ed.).
Constantin. 1891. L’archimandrite Päisi et l’ataman Achinoff. P.
Cooke R. 1987. Velimir Chlebnikov: A Critical Study.
Cambridge: Cambridge University Press.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Černý J. 1976. Coptic Etymological Dictionary.
Cambridge: Cambridge University Press.
Dombre-Potocki N. 1971. L’exotique et le merveilleux dans la poésie Goumilev. Thèse de doctoral. Université de Paris-Manterre. Faculté des Lettres et Sciences humaines.
Paris.
Drivers. N. 1991. [Рец. на] Graham 1987 // Slavic and East European Journal, vol. 35, N 2, Summer, p. 292–294.
Eshelman R. 1987. «Duša i telo» as a paradigm of Gumilev’s mystical poetry // Graham 1987, p. 119–121.
Fleishman L. 1990. Boris Pasternak. The Poet and His Politics.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Goldt R. 1987 . Sprache und Mythos bei V. Chlebnikov (Mainzer Slavistische Veröffentlichungen, Slavica Moguntiaca / Hrsg, von W. Girke, E. Reissner, Bd. 10).
Mainz: Liber Verlag.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Graham Sh. D. (ed.). 1987. Nikolaj Gumilev (1886–1986). Papers from the Gumilev Centenary Symposium.
Oakland: Berkeley Slavic Specialities.
Grandet P. (trad.). 1995. Hymnes de la religion d’Aton / Éd. du Seuil.
Havránek B., Hrábak J. (изд.). 1957. Výbor z česke literatury od počátků po dobu Husovu. Praha: Českoslovcnská Akagemie Věd.
Hemingway E. 1999. Miss Marry’s Sorrow // New Yorker, May 24, p. 74–79.
Jakobson R. 1985. Two Old Czech poems on Death: Spor Duše s tělem – O nebezpečném času smrti // Selected Writings, VI. Early Slavic Paths and Crossroads, B.;
N.Y.: Mouton Publishers, p. 588–658 (первая часть работы представляет собой сделанный без авторизации английский перевод чешской книги, изданной в 1927 г.).
Jakobson R. & Waugh L. 1979. The Sound Shape of Language.
Bloomington; L.: Indiana University Press.
Kammerzell F. 1993. Studien zu Sprache und Geschichte der Karer in Ägypten.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Kees H. 1956. Der Götterglaube im Alten Ägypten.
B.: Akademie-Verlag.
Lanne J.-C. 1983. Velimir Khlebnikov. Poète futurien.
Paris: Institut des études slaves.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Lanne J.-C. 1995. Les particularités de la prose poétique chez les futuristes russes // Le dialogue de la prose et et de la poésie dans la littérature russe du début du XX
e siècle / Ed. J.-C. Lanne et C. Bourg. Revue des études slaves, t. VXVII, N 4.
Lönnqvist B. 1979. Chlebnikov and Carnival; An Analysis of the Poem «Poet».
Stockholm: Almqvist & Wicksell International.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru Lönnqvist B. 1986 Chlebnikov’s Double Speech // Westsejn 1986, p. 291–315.
Luria S. 1961. Demokrit, Orphiker und Ägypten // Eos, vol. 51, N 1, p. 21–38.
Matlaw R.E. 1975. Gumilev, Rimbaud, and Africa: Acmeism and the Exotic // Actes du VI Congrès de l’Association Internationale de Littérature comparée.
Stuttgart V: Erich Bieber, p. 653–659.
Meuleneure H. de. 1951. Herodotos over de 26
ie Dynastie.
Leuven.
Morenz S. 1950. Ägypten und Altorphische Kosmogonie // Aus Antike und Orient. Festschrift Wilhelm Schubart zum 75. Geburtstag / Hrsg, von S. Morenz.
Leipzig: Otto Barrassowitz, S. 64–111.
Ray J.D. 1990. An Outline of Carian Grammar // Kadmos, vol. 32, Heft 2, p. 54–83.
Ray J.D. 1993. Akhenaten. Ancient Egypt’s Prodigal Son? // Western Civilization, vol. I.
Guilford, CT: The Dushkin bublishird Group, p. 19–22.
Redford D.B. 1984. Akhenaten, The Heretic Kong.
Princeton.
Rusinko N.E. 1976. Gumilev’s Akmeism: Theory and Practice. Ph. D. Dissertation.
Brown University.
Santner E.L. 1999. Freud’s Moses and the Ethics of Nomotropic Desire // October, 88, Spring, p. 3–41.
Schürr D. 1992. Zur Bestimmung der Lautwerte der Karischen Alphabets 1971–1991 /1 Kadmos, vol. 31, p. 127–156.
Simmons C. 1987. Determining Textual Incoherence in Chlebnikov’s «Ka» // Slavic and East European Journal, N 3, p. 334–355.
Terrace E.L.B.. Fischer H.G. 1970. Treasures of Egyptian Art from the Cairo Museum.
L.: Thames and Hudson Limited.
Terras V. 1998. Poetry of the Silver Age. The Various Voices of Russian Modernism.
Dresden: Dresden University Press.
Thausing G. 1955. Thot als Mittler im altägyptischen Pantheon H Zeitschrift für Philosophie, Psychologie und Pedagogik, Bd. V, Heft 3.
Wien.
Tyldesley J. 1999. Nefertiti. Egypt’s Sun Queen.
N.Y.: Viking.
Veltrusky J.F. 1985. A Sacred Farce from Medieval Bohemia. Michigan Studies in Humanities, 6.
Ann Arbor: Horace H. Rackham School of Graduate Studies, The University of Michigan.
Vroon R. 1986. Metabiosis, Mirror images and negative Integers: Velimir Chlebnikov and his Doubles // Weststejn 1986, p. 243–290.
Weigall A. 1922. The life and Times of Akhenaton.
L.
Wessetzky W. 1958. Zur Problematik des
d – Präfixes und der Name des Thot // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. 82, Heft 2, S. 152–154.
Weststejn W. 1986. Velimir Chlebnikov (1885–1922). Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov / Ed.
Amsterdam: Rodopi.
Постскриптум Статья возникла на основе доклада, прочитанного на конференции о Пути и путешествии в русской литературе в октябре 1988 г. в Йейльском университете, где я в это время был приглашённым профессором. Позднее по материалам доклада была написана статья, напечатанная по-английски (Two Images of Africa in Russian Literature of the Beginning of the Twentieth Century:
Ka by Chlebnikov and Gumilev’s African Poems) в журнале «Russian Literature», 1991, vol. 29, p. 409–426 (Амстердам). Для настоящего издания статья была коренным образом переработана и расширена. В качестве её возможного продолжения намечалось сравнение поездок Андрея Белого и Рильке – двух религиозно-философски мысливших писателей, в годы перед первой мировой войной посетивших храмовый комплекс Карнака в Египте, который произвёл на них неизгладимое впечатление и повлиял на перемены в их мировоззрении. В недавнее время X. Баран вернулся к сближению африканских текстов Гумилёва и Хлебникова, обратив внимание и на записи Хлебникова, в письмах упоминавшего африканские поездки Гумилёва в 1909 г. Баран привёл также любопытный иллюстративный материал, показывающий распространенность сюжета, изображающего антропоида и женщину в скульптуре и живописи второй половины прошлого и начала ХХ-го века. Особый интерес представляет впервые напечатанная в его новой статье драматическая сцена, отнесённая Хлебниковым к Абиссинии и включающая в качестве действующих лиц
обезьяньего царя Ахиллеса и купца из России (
Baran Н. On Some Visual Sources of Velimir Chlebnikov’s Texts // Поэтика. История литературы. Лингвистика. Сб. К 70-летию Вяч.Вс. Иванова.
М.: ОГИ, 1999: 248–249). Некоторые подробности речи купца (форма
дюша в обращении) тождественны речи аналогичного персонажа в «Ка».
Воспроизведено по:
Вяч.Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории культуры.
Том II. Статьи о русской культуре. М.: Языки русской культуры. 2000. С. 287–325.
Изображение заимствовано:
Ivan Večenaj Tišlarov (1920–2013). Božić. Ulje na staklu. 1976.


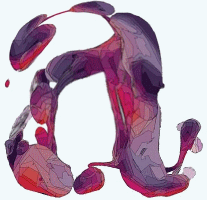 фриканская тема была завещана русским писателям далёким прошлым православия. Предыстория культурных связей восточно-христианских традиций Африки — эфиопской (в прежней русской терминологии — абиссинской) и коптской — с теми европейскими, которые, как церковнославянская, вошли в орбиту византийского влияния, уходит в средние века. Коптские истоки глаголицы предполагал Фортунатов; позднее египетско-коптско-славянские связи демонстрировал Н.А. Мещерский (в частности, в своем докладе на конференции к юбилею Шампольона в Эрмитаже, в Ленинграде в 1972 г.1
фриканская тема была завещана русским писателям далёким прошлым православия. Предыстория культурных связей восточно-христианских традиций Африки — эфиопской (в прежней русской терминологии — абиссинской) и коптской — с теми европейскими, которые, как церковнославянская, вошли в орбиту византийского влияния, уходит в средние века. Коптские истоки глаголицы предполагал Фортунатов; позднее египетско-коптско-славянские связи демонстрировал Н.А. Мещерский (в частности, в своем докладе на конференции к юбилею Шампольона в Эрмитаже, в Ленинграде в 1972 г.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()