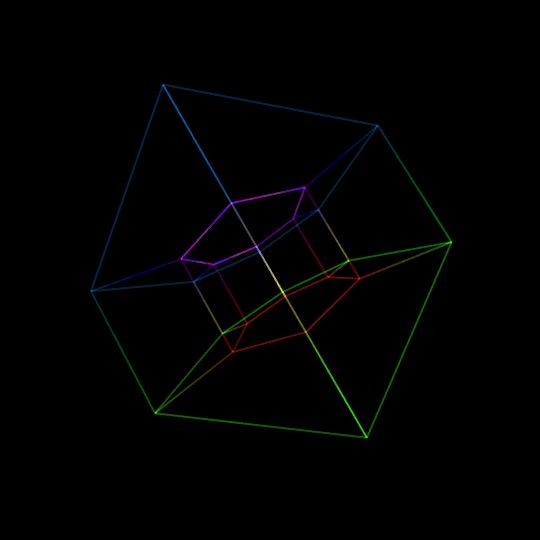Василий Петрович Никитин (1885–1960)

Русский дервиш
Сопроводительная записка В. Молотилова 
Эта статья написана господином Василием Никитиным, который после революции в России
поселился во Франции. Среди его исследований о нашей стране наиболее известны две работы:
«Социальное и экономическое устройство Ирана» (на французском языке) и «Иран, каким я его знаю»
(«Ирани ке ман шенахте ам», переведена на персидский язык и издана в Тегеране).
Кроме того, его перу принадлежат «Очерки о новой персидской прозе как социальном явлении»
(на французском языке) и множество исследований подобного рода. Помимо французского,
он владеет персидским, арабским и турецким языками.
Долгое время живя в Иране, он полюбил нашу страну,
и до сих пор с увлечением занимается её языком, историей и литературой.
Учёные, подобные ему, — наши единомышленники. Да благословит их Бог.
* * *
Статью, которую господин Никитин прислал мне, я с удовольствием перевёл
и представляю вниманию читателя. Автор, которому перевалило за семьдесят, полон любви к Ирану,
его языку и культуре. Он искренне желает, чтобы народ России ближе познакомился с нашей страной,
а народ Ирана, в свою очередь, лучше узнал о духовном наследии русского мира,
воистину драгоценном для человечества.
Разумеется, и мы горячо стремимся дружить со всеми народами,
и да не будет между ними ни тени вражды и ненависти.
Сейид Мохаммед Али Джамал-Заде
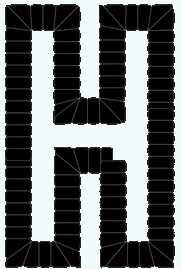
есколько лет назад я опубликовал в журнале «Восточная Европа» очерк о так называемом странничестве, типе религиозного поведения русских. Показаны глубоко верующие личности, которые, как правило, замечательны только тем, что постоянно перемещаются с места на место; духовной опыт, который они приобретают как в своих скитаниях, так и при отправлении религиозных обрядов, весьма любопытен.
Согласно моим наблюдениям, такие люди встречаются и среди мусульман; более того, я пришёл к выводу, что мы, русские, — особенно в вопросах морали — ближе к восточным народам, чем к западным. Я подробно изложил эти мысли в статье на русском языке «Иран, Туран и Россия», где попытался доказать, что эта особенность моих соотечественников — итог вполне определённых житейских обстоятельств и подлинного стремления к истине и Богу.
Руми не только достиг высшей степени совершенства и обогатил сокровищницу мировой поэзии драгоценными жемчужинами, но и создал школу суфизма. С другой стороны, великие русские писатели Пушкин, Толстой, Достоевский, Гоголь и Лермонтов, известные искренностью и глубиной своих высказываний, постоянно поднимали вопросы веры и нравственности.
Этот перечень я бы дополнил крайне любопытным явлением современной русской поэзии — Велимиром Хлебниковым.
Хлебников родился в 1885-м и умер в 1922 году. Он научился читать в четыре года и с редким для ребёнка усердием познавал окружающий мир; живопись и книги были главными его увлечениями. Окончив гимназию, он поступил в Казанский университет. В 1903 году за участие в студенческих волнениях он вместе с товарищами, такими же молодыми бунтарями, был заключён в тюрьму, где впал в угнетённое, вплоть до нежелания посещать занятия, состояние. В 1905 году он был направлен в научную экспедицию на Урал, по итогам которой опубликовал статью о местной флоре. Его отец был профессиональным орнитологом. Изыскания Хлебникова в области математики и естественных наук уже тогда заслуживали внимания. В 1908 году он продолжил обучение на факультете истории и славянских языков Петербургского университета. Первые его литературные опыты свидетельствуют об увлечении акмеизмом1 и символизмом; позже он примкнул к футуристам.2
и символизмом; позже он примкнул к футуристам.2 В 1910 году отчислен из университета.
В 1910 году отчислен из университета.
Более чем равнодушный к бытовой стороне жизни, Хлебников презирал приобретателей. Он постоянно путешествовал, исключая зимние месяцы. В его комнате, кроме узкой кровати, стола, заваленного рукописями, и единственного стула, ничего не было. Участие в сборнике «Садок судей» (1912) показывает его сторонником направления, в 1913–1915 годах более других озабоченного обновлением русского языка. Судя по произведению, напечатанному в еженедельнике «Весна» (1913), Хлебников ратовал за язык на основе общеславянского словаря.
В одном из его писем 1912 года читаем:
Человек материка выше человека лукоморья и больше видит. Вот почему в росте науки предвидится пласт — Азийский, слабо намеченный сейчас. Было бы желательно, чтобы часть ударов молота в этой кузне Нового века принадлежала русским.
В другом заявлено:
Вообще, не пора ли броситься на уструги Разина?3 Всё готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара.
Всё готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара.
Относительно Мы поясняется:
А вообще, мы — ребята добродушные: вероисповеданье для нас не больше, чем воротнички (отложные, прямые, острозагнутые, косые).
Или с рогами или без poг родился звереныш: с рогами — козлёнок, без poг — телёнок, а всё годится — пущай себе живет (не замай).
Сословия мы признаём только два: сословие “мы” и наши проклятые враги ‹...›
Мы — новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы.
Неудивительно, что природа нашего поэта, свободного и непокорного, решительно противилась навязываемым извне правилам и установкам. Началась Первая мировая война, его призвали в армию, отчего неприятие внешнего давления только усилилось. Солдатчина Хлебникова длилась недолго, отчасти стараниями влиятельных друзей; в казарме он написал несколько антивоенных стихотворений, чудом уцелевших. В дальнейшем, не имея иного изголовья для сна, он укладывал голову на мешок с рукописями, и такого рода подушки терял в непрерывных странствиях. Он приветствовал Октябрьскую революцию, хотя в его глазах она была только первым шагом к справедливому переустройству; подлинный же переворот заключался в открытии законов времени, которые обеспечат благоденствие всего человечества.
Когда советская власть была установлена и на Кавказе, поэт не преминул с ней сотрудничать; в Баку он числился при отделе образования и культуры Политпросвета. Высокий, длинноволосый, одетый во что попало, он слагал стихи о революции, а ночами спал на том же столе, за которым работал днём.
Моя цель — не обстоятельное жизнеописание этого удивительного поэта, а лишь краткое изложение некоторых сведений о его пребывании в Иране, куда в качестве лектора политотдела Персармии он прибыл весной 1921 года. Его задачей была пропаганда среди военнослужащих, под предлогом помощи повстанцам направленных для установления советской власти в Иране. В письме к сестре он описывает своё прибытие на южный берег Каспия следующим образом:
‹...›
на «Курске» при тихой погоде, похожей на улыбку неба, обращённую ко всему человечеству, плыл на юг к синим берегам Персии.
Покрытые снежным серебром вершин горы походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божьих глаз, на строгие глаза величавой думы. Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шёлком красно-жёлтых волн, напоминая об очах судьбы другого мира. ‹...›
Энзели встретило меня чудным полуднем Италии. Серебряные видения гор голубым призраком стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы. Чёрные морские вороны с горбатыми шеями чёрной цепью подымались с моря. Здесь смешались речная и морская струя, и вода зёлено-жёлтого цвета. ‹...›
Я бросился к морю слушать его священный говор, я пел, смущая персов, и после 1½ часа боролся и барахтался с водяными братьями, пока звон зубов не напомнил, что пора одеваться и надеть оболочку человека — эту темницу, где человек заперт от солнца, ветра и моря.
Книга Кропоткина4 «Хлеб и Воля» была моим спутником во время плавания.
«Хлеб и Воля» была моим спутником во время плавания.
В предисловии к «Очеркам о Гиляне» (1954, Тегеран) Манучехр Сотуде пишет:
Виды Каспийского побережья, чайные сады Лахиджана, зелень и свежесть деревьев и полевых цветов, черепичные крыши городских домов и тысячи удивительных красот — от них не оторвать глаз...
Хлебников перед отплытием продал свою одежду, поэтому ступил на землю Ирана подобно нищему — с непокрытой головой и босым. На нём были только бязевые подштанники и накидка из мешковины. Длинные волосы и борода дополняли этот довольно странный для воина вид. Хотя пребывание поэта в Иране было недолгим — с 16 апреля по конец июля 1921 года — оно придаёт особую значимость азийской направленности некоторых его высказываний. Безоговорочно признавая превосходство восточной культуры над западной, приобретательской, именно Персию Хлебников называл колыбелью человечества.
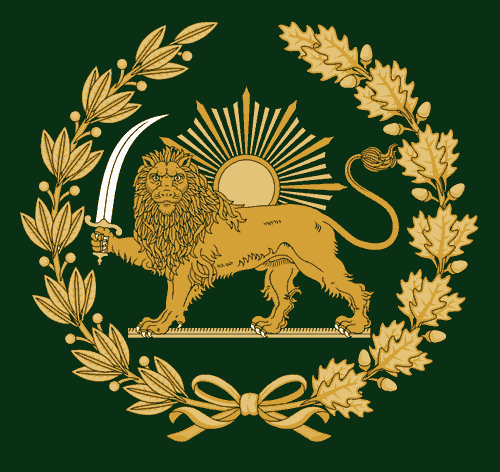 На излёте погрузившей Россию в хаос гражданской войны поход в Иран мог показаться увеселительной прогулкой. В действительности обстановка подчас таила смертельную опасность, и поэт стоял плечом к плечу с иранскими фидаинами и красноармейцами. При этом, поскольку он числился сотрудником газеты «Красный Иран»,5
На излёте погрузившей Россию в хаос гражданской войны поход в Иран мог показаться увеселительной прогулкой. В действительности обстановка подчас таила смертельную опасность, и поэт стоял плечом к плечу с иранскими фидаинами и красноармейцами. При этом, поскольку он числился сотрудником газеты «Красный Иран»,5 ему удавалось вполне себе принадлежать, манкируя воинским уставом.
ему удавалось вполне себе принадлежать, манкируя воинским уставом.
Ниже мы убедимся, что Хлебников жил о ту пору в точности так, как полагается священнику цветов, герою поэмы «Труба Гуль-муллы». Наш поэт с июня по начало августа вместе с частями Персармии во главе с Эсхануллой6 участвовал в походе на Тегеран. Встретив упорное сопротивление, войска были вынуждены остановиться; охрана штаба, к которому был приписан Хлебников, заняла селение Шахсевар. Здесь поэт гулял по окрестностям, купался, сочинял стихи и записывал их на клочках бумаги. Помимо изящной словесности, он имел громадный опыт работы с числами, даже называл себя числяром, и это, судя по напечатанным изысканиям, справедливо. Он занимался сложными расчётами и рассматривал исторические события с точки зрения жёсткой причинно-следственной связи, полагая, что смена эпох и само время подчинены строгой закономерности.
участвовал в походе на Тегеран. Встретив упорное сопротивление, войска были вынуждены остановиться; охрана штаба, к которому был приписан Хлебников, заняла селение Шахсевар. Здесь поэт гулял по окрестностям, купался, сочинял стихи и записывал их на клочках бумаги. Помимо изящной словесности, он имел громадный опыт работы с числами, даже называл себя числяром, и это, судя по напечатанным изысканиям, справедливо. Он занимался сложными расчётами и рассматривал исторические события с точки зрения жёсткой причинно-следственной связи, полагая, что смена эпох и само время подчинены строгой закономерности.
Стоит отметить, что наш поэт во время затянувшегося привала в Шахсаваре прилежно изучал местные нравы, даже нанялся учителем к богатому землевладельцу. После измены комбрига Саад-эд-Доулэ7 остаткам армии Эсхануллы пришлось пробиваться в Энзели; при этом, увлекшись рассматриванием вороны с белым крылом, поэт отстал и заблудился. Только через день ему удалось догнать своих.
остаткам армии Эсхануллы пришлось пробиваться в Энзели; при этом, увлекшись рассматриванием вороны с белым крылом, поэт отстал и заблудился. Только через день ему удалось догнать своих.
Я не в состоянии изложить эту историю так, как мне хотелось бы, и вынужден ограничиться отрывками из упомянутой выше поэмы. В ней дважды возглашается Ок! Ок! Вероятно, это суфийское “Хак!” („Истина!”), весьма уместное в приподнятом до самозабвения состоянии.
Труба Гуль-муллы
Яростным буйволом пронёсся священник цветов,
В овчине суровой, голые руки, голые ноги.
Горный пастух его бы счёл за своего.
Дикий буйвол ему бы промолвил: мой брат.
Он, божий ветер, вдруг налетел, прилетел
В людные улицы, с гор снеговых,
Дикий священник цветов,
Белой пушинкой зачем-то грозя.
Чох пуль! Чох шай!8 Стал нестерпимым прибой!
Стал нестерпимым прибой!
Слишком поднялся потоп торга и рынка.
Чёрные волосы падали буйно, как водопад,
На тёмные руки пророка.
* * *
Ок!
Ок!
Это пророки
Сбежалися с снежных гор,
Сбежалися с гор
Встречать чадо Хлебникова,
Ему радуясь!
* * *
Полётом разбойничьим
Белые крылья сломав,
Я с окровавленным мозгом
С высот соколов
Упал к белым снегам
И алым садам
‹...›
Алые сады — моя кровь,
Белые горы — крылья.
— Садись, Гуль-мулла,
Давай перевезу.
* * *
И в звёздной охоте
Я звёздный скакун.
Я — Разин напротив.
Я — Разин навыворот.
* * *
За охоту за пошлым
Судьбы ласкают меня
После опалы
И снова трепещут крылом
За плечами.
* * *
„Мы, обветренные Каспием,
Великаны алокожие,
За свободу в этот час поем,
Славя волю и безбожие.
Пусть замолкнет тот, кто нанят,
Чья присяга морю лжива,
И морская песня грянет,
На устах молчит нажива”.
Ветер, ну?
* * *
Ветер — пастух божьих очей.
Гурриэт-эль-Айн,
Тахирэ, сама
Затянула на себе концы верёвок,
Спросив палачей, повернув голову:
„Больше ничего?”
* * *
Падают боги камней
Игрою размеров.
Из улицы тёмной: „Русски не знаем.
Зидарастуй, табарича”.9
* * *
Калека-мальчик руки-нити
Тянул к прохожим по-паучьи у мечети.
Вином запечатанным
С белой головкой над чёрным стеклом
Жёны чёрные шли.
Кто отпечатает
Лениво?
Я кресало для огнива
Животно-испуганных глаз, глупо прелестных.
* * *
Страна, где все люди Адамы,‹...›
В белом белье ходят ханы
Тянуть лососей
Длинною сеткою на шесте.
И всё на “ша”: “шах”, “шай”, “шира”.
Где молчаливому месяцу
Дано самое звонкое имя —
Ай, —
В этой стране я!10
* * *
Весна морю даёт
Ожерелье из мёртвых сомов.
Трупами устлан весь берег.
Собакам, провидцам, пророкам
И мне
Морем предложен обед
Рыбы уснувшей
На скатерти берега.‹...›
Три мешочка икры
Я нашёл и испёк11 И сыт!
И сыт!‹...›
„Упокой, Господи” и „Вечную память”
Пело море
Тухлым собакам.
* * *
Косматый лев с глазами вашего знакомого
Кривым мечом
Кому-то угрожал, заката сторож, покоя часовой,12 И солнце перезревшей девой
И солнце перезревшей девой
(Любит варенье)
Сладко закатилось на львиное плечо
Среди зелёных изразцов,
Среди зелёных изразцов!
* * *
Хан в чистом белье
Нюхал алый цветок, сладко втягивая в ноздри запах цветка,
Ноздри раздув, сладко вдыхал запах цветка,
Тёмной рукой за ветку держа,
Жадно глазами даль созерцая.
„Русски не знай, плёхо.
Шалтай-балтай13 не надо, зачем? плёхо!
не надо, зачем? плёхо!
Учитель, давай, —
Столько пальцев и столько (50 лет), —
Азия русская.
Россия первая, учитель, харяшо.
Толстой большой человек, да, да, русский дервиш.
А! Зардешт, а! харяшо!”.
И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок,
Белый и босой,
И смотрел на синие дальние горы.‹...›
По саду ханы ходят беспечно в белье
Или копают заступом мирно
Огород капусты.
* * *
Здесь я спал изнемогший.
Белые кони паслися на лужайке оседланы
(Лебеди снега и спеси).
„Ты наше дитю! вот тебе ужин, ешь и садись!” —
Мне крикнул военный, с русской службы бежавший.
Чай, вишни и рис.
Целых два дня я питался лесной ежевикой
‹...›
“Пуль” в эти дни не имел, шёл пеший.
„Беботеу вевять” славка поёт!
* * *
Проснулся, смотрю, кругом надо мною
На корточках дюжина воинов.
Курят, молчат, размышляют. „По-русски не знай”.
Что-то думают.
Покрытые роскошью будущих выстрелов
За плечами винтовки,
Груди в широкой броне из зарядов.
„Пойдём”. Повели. Накормили, дали курить голодному рту.
И чудо — утром вернули ружьё. Отпустили.
Ломоть сыра давал мне кардаш,
Жалко смотря на меня.
* * *
— Садись, Гуль-мулла. —
Чёрный горячий кипяток брызнул мне в лицо?
Чёрной воды? — Нет, — посмотрел Али-Магомет, засмеялся.
— Я знаю, ты кто.
— Кто?
— Гуль-мулла.
— Священник цветов?
— Да-да-да.
Смеётся, гребёт. Мы несёмся в зеркальном заливе
Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным,
С надписями «Троцкий» и «Роза Люксембург».
* * *
В первый день месяца Ай
Крикнуть, балуя: „Ай!”
Бледному месяцу Ай,
Справа увидев,
Лету крови своей отпустить,
А весне золотых волос.
Я каждый день лежу на песке,
Засыпая на нём.
(Конец поэмы)
Уже сказано, что «Труба Гуль-муллы» — рассказ очевидца о походе на Тегеран и последующем отступлении Персармии, во время которого поэт два дня блуждал по песчаному безлюдью и попал в плен к правительственным войскам (красноречивая подробность: отпустили, вернув ружьё). В зачине поэмы о Гуль-мулле говорится в третьем лице, далее священник цветов и рассказчик неразличимы.
Разделяя мнение о «Трубе Гуль-муллы» как лучшем произведении Хлебникова о Востоке, отметим его короткие стихотворения той же направленности: «Азия», «Навруз труда», «Кавэ-кузнец», «Иранская песня» и «Дуб Персии». «Азия» написана в 1920 году, «Навруз труда», «Кавэ-кузнец» и «Дуб Персии» — в Гиляне; «Иранская песня» впервые напечатанная в газете «Красный Иран», переиздана в России (1923).
Ислам — чуждая русским религия, однако в поэме «Хаджи-Тархан»14 (1913) Хлебников на удивление веротерпим:
(1913) Хлебников на удивление веротерпим:
Ах, мусульмане те же русские,
И русским может быть Ислам.
Милы глаза, немного узкие,
Как чуть открытый ставень рам.
Из высказываний священника цветов прямо следует, что поэт безоговорочно признаёт своё духовное родство с иранцами, вторя их великому соотечественнику Хайяму, отнюдь не благоволившему размежеванию человечества. Известно, что на просьбу дать определение поэзии он ответил: это путешествие туда, где никто ещё не был.
Словно во исполнение этого завета, Хлебников при первой возможности отправился в страну, где не ступала нога русского поэта (Грибоедов прибыл в Персию отнюдь не по зову сердца). Известно, что ещё Фирдоуси и Низами упоминали русских, но исключительно как воинов; надеюсь, отношения между двумя странами не ограничатся только политикой и торговлей, а охватят, развиваясь и углубляясь, область искусства и точных знаний.
В посыле очерка сказано, что духовные искания иранцев и русских искони шли в одном направлении. Моя цель в том, чтобы — по мере своих возможностей и вопреки печальным воспоминаниям — сблизить эти два народа.
Существуют определённые условия и пути, на которых доверительные отношения Ирана и России вполне возможны; увы, до сих пор ни с той, ни с другой стороны подвижек не наблюдается. Более того, русские считают себя вправе посматривать на Иран свысока.
Это недоразумение полагаю не проявлением алчности и жестокости, но пагубным наследием прошлого. Нельзя забывать мрачную истину: с переменой формы правления политика в отношении соседей остаётся прежней. Очевидно, в наши дни Иран и Россия проходят тест на непреложность этой закономерности.
На моей памяти свежи преступления России во времена правления Мохаммеда Али-шаха Каджара: обстрел Меджлиса и осквернение мавзолея имама Резы в Мешхеде. Последующую оккупацию Северного Ирана (1911, 1916), военные действия в Реште и Тебризе, с их разгулом насилия вплоть до расправ над мирным населением, оправдать невозможно.
При этом не следует забывать, что Россия в Закавказье веками давала жёсткий отпор проникновению Англии и притязаниям Турции; эти государства несут немалую ответственность за страдания иранского народа. Важно отметить, что Россия всегда поддерживала связь с христианами Востока, включая армян. Покровительство единоверцам — основа её ближневосточной политики. Брезжит, впрочем, надежда, что правило “разделяй и властвуй” перестанет довлеть если не всему и вся, то, по крайней мере, русско-иранским отношениям. Мне пишут, что просвещённые иранцы в большинстве своём относятся к русским терпимо, а у власти в России стоят здравомыслящие люди, не склонные унижать соседей. Мои соотечественники мечтают о дне, когда призыв Фирдоуси „Не будь волочащим зерно муравьём” станет руководством к действию. Исповедуя подлинную человечность, люди доброй воли в России стремятся дружить с народом Ирана, и я надеюсь, их чаяния сбудутся.
————————
Примечания 1
1 От греческого акмэ, высшая степень совершенства.
 2
2 Среди футуристов наиболее известны Маяковский, Кручёных и Бурлюк.
 3
3 Разин (Стенька Разин) — один из героев русских народных преданий, имя которого у всех на устах; о Разине поют песни и пишут книги. Можно справиться о нём в статье «Царская Россия и Иран» Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде, опубликованной в журнале «Каве». В поэтическом языке Хлебникова
Разин равнозначен революции.
 4
4 Кропоткин — известный русский писатель и революционер.
 5
5 Для получения дополнительных сведений о событиях в Гилане того времени см. историческую повесть Бех-Азина «Дочь крестьянина» (октябрь 1951 года, Тегеран). Достойны внимания воспоминания генерала Лайонеля Чарльза Данстервилля «The Adventures of Dunsterforce» (
London: E. Arnold. 1920).
Книга «Иран, каким я его знаю» написана господином В. Никитиным и издана в Тегеране в 1329 году по иранскому календарю (1951).
 6
6 Автор этих строк встречался с Эхсануллой в Энзели. После поражения дженгелийцев Эхсанулла бежал в Россию.
 7
7 Измена Саад-эд-Доулэ обеспечила разгром Персармии правительственными войсками во главе с Реза-Ханом, будущим шахом Реза Пехлеви. Отступающий отряд, включая Хлебникова, сумел пробиться к Энзели.
 8
8 Поэт не знал персидского языка. Здесь искажённое: „Чох юл? Чох шахи?”
 9
9 „Привет, друг!”
 10
10 Имеется в виду фаза Луны — полумесяц, символ ислама.
 11
11 В Гиляне сомовья икра идёт в пищу, из неё готовят особое блюдо.
 12
12 Описание персидского герба времён Каджаров «Лев и Солнце» (шир-о хоршид).
 13
13 На русском языке
шалтай-болтай — разговор ни о чём, праздная болтовня.
 14
14 Рассказ об одном из городов бывшего Казанского ханства.
Воспроизведено по:
В.П. Никитин. Русский дервиш (на фарси) // Йегма, месяц Мехр, 1334 (1955). Тегеран. С. 292–305.
Перевод В. Молотилова
Благодарим проф. Н.Ю. Чалисову за предоставление первоисточника
 Persian PDF
Persian PDF
————————
Дарвиш-э руси
памяти М.С. Киктева
По персидской линии хочется написать о “русском дервише”, поэте В. Хлебникове,
который был в Гиляне в 1920–21 гг., и его поэма, написанная там, «Труба Гуль-Муллы»,
по словам критики — лучшее, что написано по-русски о Востоке.
Её нужно, следовательно, перевести на персидский язык.
В.П. Никитин. Из письма Г.В. Вернадскому от 4 апреля 1955 г.

то благопожелание снимает, на мой взгляд, все недоумения относительно текста (рукописного), перевод которого предложен выше: «Русский дервиш» Василия Никитина, на добрую треть состоящий из отрывков знаменитой поэмы Велимира Хлебникова, написан по-французски и препоручен переводчику. Имя его в рукописи читается плохо, и я предположил таковым Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде. Возражения принимаются.
Попутно замечу, что Никитин вводит Вернадского в заблуждение: критика, полагающая «Трубу Гуль-Муллы» лучшим, что написано по-русски о Востоке, представлена единственным человеком.
Clay St.
Monterey, Calif.
‹Сентябрь–ноябрь 1953›
Многоуважаемый Роман Осипович!
Я закончил довольно большую полемическую статью о Хл. ‹...›
Думаю, что я там пишу и глупости, которые Вам будут сразу заметны — но и эти глупости вызваны моей любовью к Хл. и честной борьбой с ним. Так что, думаю, мне они на том свете простятся. ‹...›
Хотел ещё задать вам праздный вопрос: что у Вас самое любимое среди хлебниковских вещей? У меня, пожалуй, «Труба Гул-муллы».
Уважающий Вас
В. Марков
Робкий новичок, заискивающий перед великим уже тогда Романом Якобсоном, оперился и взорлил, см.: Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. University of Califonnia publications in modern philology. Volume LXII. Berkley and Los Angeles: University of California Press. 1962.
В главе VIII («Поздние поэмы») читаем:
Хлебников начал «Трубу Гуль-муллы» в июле 1921 года, ещё находясь в Персии, а закончил в Пятигорске месяца через два. Этот поэтический дневник службы в Красной армии — одна из самых оригинальных и наиболее удачных его поэм. Едва ли в русской поэзии найдутся ей соперницы по непосредственности поэтического ви́дения. ‹...›
Профессор В. Никитин, писавший о Хлебникове, находит сходство между персидскими богоискателями и русскими странниками, полагая Хлебникова именно таковым.*
————
* В.П. Никитин. Русский дервиш (на фарси) // Ягма, месяц Мехр, 1334 (1955). Тегеран. С. 15.Владимир Фёдорович Марков. Поэмы Велимира Хлебникова / Перевод В. Молотилова
Судя по неверной пагинации, Марков ссылается на полученный от Никитина текст с указанием листажа (c. 292–305) иранского издания. От одного из сподвижников Владимира Фёдоровича (Salomon Mirsky. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikov. München: Verlag Otto Sagner. 1975) узнаём подробности:
‹...›
Персам я сказал, что я русский пророк. Это эксцентричное высказывание Хлебникова свидетельствует о его убеждённости в том, что Персия — земля, где пророчество ещё “у себя дома” и, следовательно, называющий себя пророком имеет авторитет. Такая концепция Персии проливает свет на тему пророчествования, лейтмотив которой проходит едва ли не через все произведения персидского цикла. Отметим, прежде всего, поэму «Труба Гуль-муллы», начатую в персидском походе и завершённую по возвращении, в Пятигорске. Уже начальные строки представляют появление поэта в Персии как прибытие пророка:
Ок!
Ок!
Это горный пророк
Любопытную интерпретацию этого возгласа предложил иранист Василий Никитин,* который в письме В. Маркову** от 19.1.1956 высказал мнение, что
Ок! Ок! может оказаться вариантом произношения „Хак! Хак!” — „обычного восклицания персидских дервишей”, означающего ‘Истина’ или ‘Бог’.
—————
* В.П. Никитин, автор ряда востоковедческих работ, долгое время жил в Персии. Он опубликовал статью о «Трубе Гуль-муллы» в журнале «Йегма», который издается в Тегеране на персидском языке, см. обзор Францишека Махалски на польском языке в журнале Przegląd Orientalistyczny, IV (1956), с. 15. Парнис также ссылается на персидскую статью В. Никитина. В моём распоряжении была неопубликованная работа Никитина об историко-политической подоплёке поездки Хлебникова в Персию: В.П. Никитин. Русский дервиш (персидский период в жизни В. Хлебникова).
** Неопубликованные письма покойного В.П. Никитина были любезно предоставлены мне проф. Владимиром Марковым из Университета Лос-Анджелес в Калифорнии, я рад возможности поблагодарить его и за письма, и за стимулирующие пояснения к ним, и за труднодоступную статью Никитина о Хлебникове.Саломон Мирский. Восток Велимира Хлебникова / Перевод В. Молотилова
Итак, я полагаю Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде переводчиком «Русского дервиша», включая выдержки из «Трубы Гуль-муллы». Более того — приписываю ему примечания к тексту. Обосновать?
 6
6 Автор этих строк встречался с Эхсануллой в Энзели. После поражения дженгелийцев Эхсанулла бежал в Россию.
Имперский вице-консул в Урмии Василий Никитин действительно посещал Гилян (возможно, и порт Энзели), как то следует из отчёта о поездке:
Персидский Египет — Гилян, плодородная и богатая область на берегу Каспия, столь выгодно отличающаяся от остальных персидских провинций обилием лесов и рек и радующая глаз случайного путника природными своими прелестями, в отношении исторических памятников как бы обижен судьбой. Кажется, будто многовековая история Ирана, если и затронула эту древнюю Гирканию, то только мимоходом, и напрасны будут труды исследователя, желающего найти какие-либо прочные следы „давно минувших дней”. Способствовало ли этому разрушительное влияние сырого климата или же то обстоятельство, что область эта извечно хорошо защищена была как горным хребтом, так и своими непроходимыми трясинами и лесными дебрями, — решать не берёмся ‹...›
Обычный летний гилянский пейзаж не чужд привлекательности: особенно хороши тянущиеся вдоль дороги рисовые поля с их свежей изумрудной зеленью, на которой резкими цветными пятнами вырисовываются фигуры занятых выпалыванием сорных трав гилячек. Сплошь и рядом в этой части области попадаются и табачные плантации, тщательно огороженные от нескромных покушений домашней скотины. То там, то сям на огородах, приютившихся у избушки селянина, виднеются черепа коров или лошадей, а то просто несколько яичных скорлуп, прилаженных на жерди. Не думайте, что это только огородные пугала для устрашения вороватых воробушек; нет, суеверный шлях таким путем думает отвлечь “дурной глаз” от своих посевов, ибо, естественно, ваш взгляд, удивлённый, прежде всего, падает именно на эти черепа и скорлупу, оставляя посев в покое. ‹...›
Дорога до Джума-базара протекает без особых приключений; только несносная пыль забивается всюду, превращая нас в какие-то серые привидения, да приходится несколько раз слезать из-за недоверия к животрепещущим мостикам. Благодарение Аллаху, что можно проехать вообще, так как в осеннюю распутицу никакие силы не вытащат колёсного экипажа из образующегося моря липкой грязи. Бездорожье — одна из тёмных сторон жизни провинции, сильно затрудняющая правильные эксплуатации природных богатств и товарообмен. ‹...› Склоняющееся к закату солнце не так уж беспощадно, как раньше, да и сама дорога идет по берегу реки, а скоро нас охватывает приветливая чаща леса, где дышится легче в тенистой прохладе. Вы видите тут изредка могучие дубы, которых число увеличивается с приближением к горам, а пока преобладает ольха, бук, лапина, клён и др. лиственные породы. Тропинка прихотливо вьётся среди зарослей и нередко приходится сильно нагибаться к луке седла, чтобы проехать под нависшими ветвями. ‹...›
Солнце уже близко к закату, на огненном фоне которого красиво вырезываются подошедшие ближе горные вершины, покрытые лесом, когда мы, свернув с дороги и поднявшись на высокий холм, подъезжаем к дому, где назначена ночёвка. С террасы дома открывается широкий вид на речную долину и на темнеющие уже горные ущелья: здесь, благодаря сравнительной высоте, нам не так будет докучать назойливые комары, и мы вскоре засыпаем, наскоро закусив, чтобы набраться новых сил. ‹...›
В.П. Никитин. Кала-рудхан / М.Ю. Сорокина. Basile Nikitine: „эмир” из „страны голубых антилоп”.
Неизвестные страницы отечественного востоковедения. Вып. 5. М.: Наука, 2014.
Однако сам Никитин свидетельствует: „14 апреля 1918 закрыл вице-консульство и выехал через Тавриз в Тегеран, где исполнял обязанности 2-го драгомана Миссии до 23 мая 1919, когда выехал в отпуск во Францию”. Отпуск оказался бессрочным; при этом назначенный главкомом вооружённых сил Гилянской республики Эхсанулла прибыл в Решт годом позже. Таким образом, „автор этих строк” (примечаний к статье) и Василий Никитин — разные люди.
Однако справедлив ли мой выбор переводчиком «Русского дервиша» Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде (1892–1997)? Едва ли.
С началом Первой мировой войны переехал в Германию, присоединился здесь к обществу персидских националистов, основав в 1915 году его газету в Багдаде; также сотрудничал в берлинском журнале «Каве», издававшемся на персидском языке. Затем на протяжении почти пятнадцати лет перебивался случайными заработками, некоторое время работал в персидском посольстве в Берлине, сотрудничал в ряде периодических изданий, изучал персидскую филологию.
А жаль!
Джамалзаде свободно говорил на французском, немецком и арабском языках и был талантливым переводчиком. Его переводы Бернардена де Сен-Пьера, Мольера, Ибсена и Шиллера публиковались в различных персидских периодических изданиях на протяжении всей его карьеры. Для персоязычной публики он писал статьи о европейских интеллектуалах и писателях — Максиме Горьком, Фридрихе Ницше, Джеймсе Джойсе и Анатоле Франсе.
И вообще, препоручение В.П. Никитиным Велимира Хлебникова кому-либо перестало мне нравиться. Расскажу-ка лучше, как взялся за гуж, ни аза не смысля в сбруе.
* * *
Итак, на поиски «Дарвиш-э руси» меня подвигло самое медленное, какое только можно представить у книжника, чтение: перевод научного труда, в нашем случае — двух, В.Ф. Маркова и С. Мирского. От последнего узнаём, что статью Никитина он подержал и вернул. Поленился переснять подлинник или запретили — не сказано, и не у кого спросить. Известно другое: отзывчивость проф. Роналда Вроона. Да, отвечает Роналд Вроон, о «Русском дервише» знаю, но архив Маркова в частных руках, не подступиться.
Итак, Западное полушарие отпадает. Goodbye, latin font.
Долго ли, коротко — натыкаюсь разом на три работы о Хлебникове Фереште Машхадирафи. Плодовитый новобранец, кто бы это. Мадьяр? Но при чём тогда Закавказье и Зороастр.
Дальнейшее скорее обнадёжило, чем огорчило: Fereshteh Mashhadirafi, University of Tehran, Center for Central Eurasia Studies.
Закидываю невод в University of Tehran. Не золотая рыбка, но и травою морской не назовёшь:
Elaheh Koolaee, Fereshteh Mashhadirafi. The Reflection of the Events of the Gilan Revolution in the Works of Velimir Khlebnikov.
Позывные Элахе Кулаи (Department of Regional Studies) в открытом доступе. Вот кто приземлит «Русского дервиша» на Хлебникова поле. Разрешите обратиться. Очень приятно, рада знакомству.
Разгонистое письмо с просьбой. Молчок. Фереште Машхадирафи тоже, кстати говоря, отозвалась, а потом ни гу-гу. Пугающий напор, надо полагать.
Стало быть, сиди у моря и не рыпайся.
Ветер баловень — а-хá-ха! —
Дал пощёчину с размаха,
Судно село кукорачь,
Скинув парус, мчится вскачь.
Волны скачут лата-тах!
Волны скачут а-ца-ца!
Точно дочери отца.
За морцом летит морцо.
Море бешеное взыы!
Море, море, но-но-но!
Эти пади, эти кручи
И зелёная крутель.
Тёмный волн кумоворот,
В тучах облако и мра
Белым баловнем плывут.
Моря катится охава,
А на небе виснет зга.
Эта дзыга синей хляби,
Кубари весёлых волн,
Море вертится юлой,
Море грезит и морrует
И могилами торгует.
Почернел суровый юг,
Занялась ночная темень.
Это нам пришёл каюк,
Это нам приходит неман.
Судну ва-ва, море бяка,
Море сделало бо-бо.
Волны, синие борзые,
Скачут возле господина,
Заяц тучи на руке.
И волнисто-белой грудью
Грозят люду и безлюдью,
Полны злости, полны скуки.
В небе чёном серый кукиш,
Небо тучам кажет шиш.
Эй ты, палуба лихая,
Что задумалась, молчишь?
Ветер лапою медвежьей
Нас голубит, гладит, нежит.
Будет небо голубо,
А пока же нам бо-бо.
Буря носится волчком,
По-морскому бога хая.
А пока же, охохонюшки,
Ветру молимся тихонечко.
Но вот и примирительный елей: натыкаюсь на оглавление сборника Арабист. Хлебниковед. Человек. М.С. Киктев (1943–2005). М.: Гуманитарий. 2007. Удача наотмашь: у Максима Сергеевича Киктева есть памятливый на добро ученик подкупающей наружности. Ещё того краше изнутри: дарит мне книжку на счёт раз-два. Наглею по нарастающей:
Удача наотмашь: у Максима Сергеевича Киктева есть памятливый на добро ученик подкупающей наружности. Ещё того краше изнутри: дарит мне книжку на счёт раз-два. Наглею по нарастающей:
— Мне кажется порою, что Киктев наизнанку вывернулся бы, а статью Никитина о Хлебникове раздобыл. Ну-тка?
— Знаю, — отвечает Павел Викторович Башарин, — кто вам поможет: Наталья Юрьевна Чалисова.
И как в воду глядел: на другой день «Русский дервиш» падает мне в руки. Обыкновенное чудо, если не знать, что Наталья Юрьевна — профессор Института восточных культур и античности.
Дело за малым: условиться с драгоманом. Переговоры опускаю: дорого и котам в мешке я не потатчик. Пришлось, как видите, пыхтеть самому.
Первое преткновение: отечественный FineReader фарси не распознаёт. Остаётся догадываться, кто на небеси мне пособляет: обнаруживаю более продвинутый i2pdf (image to pdf). Готово, приступаем к переводу. Google и Yandex охотно заглатывают фарси, но выдают такую невразумень, что хоть плачь. Робко надеясь, что с небеси помогут вдругорядь, отправляюсь на поиски более подкованного толмача. Есть! Называется wordcount.com, всячески советую.
Знаете, кто написал „Мне кажется порою, что солдаты / С кровавых не пришедшие полей, / Не в землю нашу полегли когда-то, / А превратились в белых журавлей...”?
Лес рук: Расул Гамзатов.
Востоковеды при этом благоразумно помалкивают: изящной словесности аварцев концевое сопряжение строк неведомо, а ритм и напевность — о разном. Вот и я промолчу, запахнувшись в подстрочник.
* * *
Перехожу к недочётам и шероховатостям «Дарвиш-э руси».
Разумеется, юношеское увлечение Хлебникова акмеизмом — досадный ляп. О становлении Хлебникова-будетлянина читаем:
“Пробы пера” Хлебникова отмечены восторженно принятым им наставничеством двух ведущих представителей “символистского” эклектизма и абстракционизма, Вяч. Иванова и М. Кузмина, и отзываются внимательным чтением Ф. Сологуба и А.Н. Толстого. Всё это предполагает ученическое подражание, но устрашающая надуманность такого подозрения снимается правильной постановкой вопроса. Слова ‘влияние’ и ‘подражание’ скрадывают в высшей степени плодотворное недоумение: где и каким образом от материнской поэтической системы отделяется дочерняя? Отследить такие “роды” — значит вникнуть в сложное явление литературной пародии, исследованной Ю. Тыняновым на примере зависимости молодого Достоевского от гоголевской модели. Разочарование Хлебникова в “символизме” видно не столько в прокламациях и манифестах поры его “гилейской” воинственности, сколько в том, кáк в своих первых опытах (использованных
будетлянами в качестве полемических аргументов, хотя то же «Заклятие смехом» сочинено, когда русского футуризма не было и в помине...), он оттачивал свою
ведаву, следуя одним заветам “символизма” и отвергая другие: само значение термина пародия охватывает два, казалось бы, противоположных подхода. Разумеется, то, что Хлебников обвинял своих учителей в западничестве, в забвении народа, для которого должен писать поэт, и в наплевательском отношении к вековому опыту отечественной словесности, показывает разницу в менталитете “символистов” и “футуристов”, чем не следует пренебрегать в оценке
будетлянской “идеологии”. Но сам этот факт никоим образом не проясняет смысла литературной борьбы, которая шла в том же, разумеется, направлении, но своими путями. Ими-то и следует заняться, дабы понять, ради чего узаконенный поэтический дискурс — пользуясь выражением Р. Якобсона, исходный дискурс — Хлебников “разъял” и затем сложил пазл новой системы, которую впоследствии, увы, назвали “футуристской”.
Жан-Клод Ланн. Велимир Хлебников: поэт-будетлянин / Перевод В. Молотилова
Так и быть, сочту неверную датировку «Весны» опечаткой. В действительности хлебниковская «Мучоба во взорах» («Искушение грешника») увидела свет 17 ноября 1908. Это, между прочим, доказывает примыкание кубофутуризма («Садок судей» — первый крик младенца) к Хлебникову, а не наоборот. Ещё она “весенняя” подробность опровергает залихватское, в ущерб Грибоедову, заявление, будто дарвиш-э руси первым из русских поэтов ступил на землю Ирана: соредактор «Весны» Василий Васильевич Каменский (1884–1961) сделал это пятнадцатью годами раньше.
Снова майское безмятежное море, ленивые под горячим солнцем чайки, играющие дельфины, высокий воздух, ялики с парусами.
Снова на камнях, у самой воды, сижу — набираюсь сил, вдыхаю здоровье горизонтов.
Ещё слаб, но ремонт идёт полным ходом, и я тут как пароход в доке.
А кругом — будто ничего не случилось: та же внешняя тишина; так же трамваи бегают; люди бродят по приморскому бульвару; громыхают в порту, дымят пароходы, разносчики продают с лотков персики. Магазины торгуют. Белеются кители морских офицеров. А восстанье на «Потемкине»? Лейтенант Шмидт? Эскадра? Матросы? Революция?
Полное спокойствие, и от этой тишины — сверлящая боль досады, обиды: как это “они” могли взять верх, когда “их” жалкая кучка, а нас миллионы.
Всё просто: марсельеза без баррикад ничего не стоит. Прохожу мимо дома Наташи — там пусто, уехали совсем, живут другие.
И всё стало чужое, одинокое, холодное. Мой капитан с сыном в Одессе.
Но мне везёт: случайно познакомился и сразу сдружился с бывшим лейтенантом Кусковым, другом лейтенанта Шмидта. Кусков — под надзором жандармерии, накануне ссылки в Сибирь.
Он посвятил меня во все севастопольские события, и он же устроил мне беспаспортную поездку в Константинополь, ибо я жил теперь по чужому паспорту.
И достал мне денег от подпольной флотской организации.
Новый капитан моего парохода — приятель Кускова и прежнего капитана, с которым ездили в Турцию.
Пароход шёл прямо на Босфор.
Оказалось, что этот капитан прекрасно знает Персию и не менее — русскую поэзию.
Всю дорогу я читал стихи; он восхищался моим умением читать, сочинять и посоветовал воспеть Персию, куда обещал устроить при оказии.
И вот снова Константинополь!
Едем с капитаном на Галату, пьём душистый кофе, какого нигде больше нет в мире, читаем стихи, слушаем бродячих музыкантов, напеваем турецкие народные песни, осматриваем Стамбул, глотаем солнце и персики.
На главном базаре встретили группу чернокожих; они были одеты в растения, а у девочки на открытой груди — пустой кокосовый орех, и там живет змея.
На пятый день капитан познакомил меня с турецким торговцем, своим приятелем; и мы отправились в торговую поездку в Тегеран, за шёлком и коврами.
Торговец Мохамед немного, как и я, знал по-французски; и нам было этого вполне достаточно, чтобы из бурдюка пить янтарное вино айюрташ и радоваться “тре-жоли” вокруг, и кричать встречным караванам верблюдов с товарами: „Вив ля ви!“
Мохамед спрашивал, зачем еду в Тегеран, что мне там надо.
Я отвечал, отмахиваясь:
— Рьен. Абсолюмо.
Мохамед приходил в детский восторг от моей скромности, сдвигал феску на глаза от смеха и повторял:
— Жюст. Жюст. Яхши!
Мохамед говорил, что, раз я занимаюсь поэзией, мне ничего не надо, кроме хорошей погоды.
И опять от смеха сдвигал феску на глаза.
Весёлый Мохамед рассказывал, что его брат учится в Париже и посылает ему стихи, а он шлёт деньги.
— И что из этого выйдет, неизвестно, — ухмылялся мой шёлковый спутник.
Меж тем мы проезжали турецкие каменные плоско-крышие горные деревни.
Переехали, наконец, персидскую границу и скоро увидели громадное солёное озеро Урмию и вбегающие в него реки Джагатучай, Татау, Аджичай.
Здесь, на остановке, на берегу Аджичая, мы ели дикого кабана; и старый перс-охотник, с крашенными хной ногтями и бородой, принёс продавать свежую тигровую шкуру за четыре золотых тумана.
Мохамед купил и подарил мне:
— Увези тигра в Россию и скажи народу, что Мохамед самый тре жоли охотник на тигров.
На другой день прибыли в Тавриз. Тут главное производство шёлковых изделий, шалей.
Мохамед закупал товары, а я бродил по базару, сидел в кофейнях, чай-ханэ, слушал персидскую музыку и удивительные песни, в которых высокими вибрирующими голосами изливалась неизъяснимая боль далёких веков, будто это был жалобный, раздирающий душу плач.
И мне это очень нравилось, как, впрочем, и всё, что видел, слушал, ел, пил.
Капитан был прав в восторгах от Персии.
Я жил среди тысячи и одной ночи; и отсюда николаевская тюрьма казалась кошмарным, убийственным сном.
И после, когда поехали за коврами в Тегеран, когда увидел столицу Персии, очарованью не было пределов.
Даже захотелось быть персом и петь в чай-ханэ стихи Гафиза, Шемс-Эддина или Фаррухи, Абагуль-сан-Али-ибн-Джулу.
Об этих знаменитых поэтах мне много говорил персидский художник Аббас-Ферюза из Хамадана, который, кстати, дивно их читал и переводил по-русски, так как учился в бакинской гимназии.
Странное дело: мне до такой степени нравился персидский язык, что, не изучая отдельных слов, я как-то вдруг стал понимать их смысловое значение и интуитивно точно угадывал слова.
И чувствовал: проживи я в Персии ещё неделю-другую, заговорил бы.
И запел бы. Ого! Я и так многому научился, обладая песенным слухом и восточным вкусом.
Между прочим, Аббас-Ферюза показал в Тегеране место, где был растерзан Грибоедов.
Я торопился в Петербург.
Дружески попрощавшись с Мохамедом в изумительном ковровом караван-сарае, я отправился в дилижансе по тегеранскому шоссе в Решт.
Оттуда каспийским пароходом — в Баку, где удивлённые глаза застряли в чёрном лесу нефтяных вышек; и восхитил сам великолепный город, проводив в петербургский путь слегка утомлённого путешественника.
* * *
Сначала мне послышались чьи-то неуверенные шаги по каменной лестнице.
Я вышел на площадку — шаги исчезли.
Снова взялся за работу.
И опять шаги.
Вышел — опять исчезли.
Я тихонько спустился этажом ниже и увидел: к стене прижался студент в университетском пальто и испуганно смотрел голубыми глазами на меня.
Зная по опыту, как робко приходят в редакцию начинающие писатели, я спросил нежно:
— Вы, коллега, в редакцию? Пожалуйста.
Студент произнёс что-то невнятное.
Я повторил приглашение:
— Пожалуйста, не стесняйтесь. Я такой же студент, как вы, хотя и редактор. Но главного редактора нет, и я сижу один.
Моя простота победила — студент тихо, задумчиво поднялся за мной и вошёл в прихожую.
— Хотите раздеться?
Я потянулся помочь снять пальто с позднего посетителя, но студент вдруг попятился и наскочил затылком на вешалку, бормоча неизвестно что.
— Ну, коллега, идите в кабинет в пальто. Садитесь. И давайте поговорим.
Студент сел на краешек стула, снял фуражку, потёр высокий лоб, взбудоражил светлые волосы, слегка по-детски открыл рот и уставился на меня небесными глазами.
Так мы с ним молча смотрели друг на друга и улыбались.
Мне он столь понравился, что я готов был обнять это невиданное существо.
— Вы что-нибудь принесли?
Студент достал из кармана синюю тетрадку, нервно завинтил её винтом и подал мне, как свечку:
— Вот тут что-то... вообще...
И больше ни слова.
Я расправил тетрадь: на первой странице, будто написанные волосом, еле виднелись какие-то вычисления, цифры; на второй — вкось и вкривь начальные строки стихов; на третьей — написано крупно «Мучоба во взорах», и это зачеркнуто, и написано по-другому: «Искушенье грешника».
Василий Каменский. Путь энтузиаста
И последняя придирка. Подозреваю, что сведения Василия Никитина о персидской поэзии не столь обширны, как о персидской прозе, и ценил он по-настоящему только Руми. С чего я это взял? Приписывает Фирдоуси чужие строки о муравье. И принадлежат они всё тому же Руми.
Бедняжка муравей одно зерно
Из кучи тащит, где зерна полно.
И труд его столь тяжек и упорен,
Что остальных он и не видит зёрен.
Хозяин тока, опытный мудрец,
На вора глядя, думает: „Слепец!
Ты, прилепясь душою к пустяку,
Не зришь обилия на моём току”.
Так многие из нас в плену обмана
Постичь не могут мудрость Солеймана,
Пылинкой малою ослеплены,
Не видим мы ни солнца, ни луны.
Меж тем любая тварь — всего лишь глаз,
Чтоб видеть Истину в счастливый час.
Перевод Наума Гребнева
* * *
А теперь поговорим о том, чего, собственно, ради убелённый сединами востоковед взялся за перо. Сам он перевёл «Трубу Гуль-муллы» или препоручил кому-то — дело десятое. Важно, когда он решился возвысить голос: 1955 год.
Истуканы вождя покамест целёхоньки, убиенных не обеляют, узников не освобождают, но Илья Эренбург уже напечатал «Оттепель» (1954), и не садят за частушки про товарища Маленкова и Берию, который вышел из доверия.
Это я читаю между строк писем Никитину той поры. С чего-то же он взял, что Никита Сергеевич мухи не обидит, а писатель Бех-Азин (Махмуд Этемад-Заде, 1915–2006) не тужит о руке, оторванной осколком советского снаряда.
Надежды питают не только юношей, и в отношении Никиты Сергеевича отчасти не обманули: злодеяния разоблачены, убиенным вернули честное имя, узникам — гражданские права.
А вот слов осуждения захвата Гиляна, Мазендерана и Астрабада (1941–1946) что-то не слыхать. И заткнуть писателю Бех-Азину рот, буде возмутится этим, проще простого. Читаем:
Договор
между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Персией
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики с одной стороны и Правительство Персии с другой стороны, воодушевляемые стремлением установить на будущее время прочные добрососедские и братские отношения между персидским и русским народами, решили вступить с этой целью в переговоры, для чего назначили своими уполномоченными:
Правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики Георгия Васильевича Чичерина и Льва Михайловича Карахана и Правительство Персии Али-Гули-Хана Мошавероль-Мемалек.
Означенные уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, признанных составленными в надлежащей форме и должном порядке, согласились о нижеследующем:
Статья I.
Российское Советское Правительство, в соответствии с декларациями своими, изложенными в нотах от 14 января 1918 года и 26 июня 1919 года, об основах политики России в отношении персидского народа, еще раз торжественно заявляет о бесповоротном отказе России от насильнической в отношении Персии политики империалистических правительств России, свергнутых волею ее рабочих и крестьян.
Согласно сему и желая видеть персидский народ независимым, процветающим и свободно распоряжающимся всем своим достоянием, Российской Советское Правительство объявляет все трактаты, договоры, конвенции и соглашения, заключенные бывшим Царским Правительством с Персией и приводившие к умалению прав персидского народа, отмененными и потерявшими всяческую силу.
Статья II.
Российское Советское Правительство клеймит политику правительств царской России, которые без согласия народов Азии и под видом обеспечения независимости этих народов заключали с другими государствами Европы относительно Востока договоры, имевшие конечною целью его постепенный захват. Российское Советское Правительство безоговорочно отвергает эту преступную политику не только нарушавшую суверенитет государств Азии, но и ведшую к организованному грубому насилию европейских хищников над живым телом народов Востока.
В соответствии с сим и согласно принципам, изложенным в ст. ст. I и IV настоящего Договора, Российское Советское Правительство заявляет о своем отказе от участия в каких бы то ни было мероприятиях, клонящихся к ослаблению и нарушению суверенитета Персии, и объявляет отмененными и потерявшими всяческую силу все конвенции и соглашения, заключенные бывшим Правительством России с третьими державами во вред Персии и относительно ее.‹...›
Статья IV.
Признавая право каждого народа на свободное и беспрепятственное разрешение своих политических судеб, каждая из Высоких Договаривающихся Сторон отказывается и будет строго воздерживаться от вмешательства во внутренние дела другой Стороны.
Статья V.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны обязываются:
1) Не допускать на своей территории образования или пребывания организаций или групп, как бы они ни именовались, или отдельных лиц, ставящих своей целью борьбу против Персии и России, а также против союзных с последней государств, а равным образом не допускать на своей территории вербовку или мобилизацию личного состава в ряды армии или вооруженных сил таковых организаций;
2) воспретить тем государствам или организациям, как бы последние ни именовались, которые ставят своей целью борьбу с другой Высокой Договаривающейся Стороной, ввозить на территорию каждой из Высоких Договаривающихся Сторон или провозить через таковую все, что может быть использовано против другой Высокой Договаривающейся Стороны;
3) не допускать всеми доступными им способами пребывание на их территории войск или вооруженных сил какого-либо третьего государства, пребывание которых создавало бы угрозу границам, интересам или безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья VI.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что в случае, если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, если при этом будет угрожать опасность границам Российской Социалистической Федеративной Советской Республики или союзных ей держав и если Персидское Правительство после предупреждения со стороны Российского Советского Правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское Советское Правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. По устранении данной опасности Российское Советское Правительство обязуется немедленно вывести свои войска из пределов Персии.‹...›
Статья VIII.
Российское Советское Правительство заявляет о своем полном отказе от той финансовой политики, которую вело на Востоке Царское Правительство России, снабжавшее Персидское Правительство денежными средствами не ради содействия хозяйственному развитию и процветанию персидского народа, а в видах политического закабаления Персии. Российское Советское Правительство отказывается поэтому от всяких прав на займы, предоставленные Персии Царским Правительством, и объявляет таковые займы недействительными и не подлежащими оплате. Оно отказывается от всех требований на пользование теми государственными доходами Персии, коими гарантировались сказанные займы.‹...›
Статья XII.
Российское Советское Правительство, торжественно отказавшись от пользования экономическими привилегиями, основанными на военном преобладании, объявляет недействительными также и все прочие кроме перечисленных в ст. ст. IX и X концессий, вынужденные у Правительства Персии бывшим Царским Правительством для себя и для своих подданных. Оно с момента подписания настоящего Договора возвращает персидскому народу в лице Правительства Персии все сказанные концессии, как приведенные в исполнение, так и не приведенные, и земельные участки, полученные на основании этих концессий. Из земель и имуществ, принадлежавших в Персии бывшему Царскому Правительству, остаются во владении России участки, занимаемые Российской Миссией в Тегеране и в Зергендэ, со всеми зданиями и находящимся в них имуществом, а также участки, здания и имущество бывших российских генеральных консульств, консульств и вице-консульств в Персии.‹...›
Статья XV.
Российское Советское Правительство, исходя из провозглашенного им принципа свободы религиозных верований, желает положить конец миссионерской религиозной пропаганде в странах Ислама, имевшей скрытой целью политическое воздействие на народные массы и поддерживавшей этим путем хищнические интриги царизма. Оно объявляет поэтому закрытыми все религиозные миссии, учрежденные в Персии бывшим Царским Правительством, и примет меры к недопущению впредь посылки в Персию из России таковых миссий.
Земли, постройки и имущества Православной Духовной Миссии в Урмии, равно как все имущество других учреждений этого рода, Российское Советское Правительство безвозмездно передает в вечное владение персидскому народу в лице Правительства Персии. Правительство Персии использует сказанные земли, здания и имущество для устройства школ и других культурно-просветительных учреждений.‹...›
Статья XX.
Обе Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно предоставляют друг другу право транзита товаров через Персию или через Россию в третьи страны, причем провозимые товары не должны облагаться сбором, большим чем с товаров наиболее благоприятствуемой нации, кроме союзных Российской Социалистической Федеративной Советской Республике.‹...›
Статья XXVI.
Настоящий Договор вступает в силу немедленно по его подписании.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся подписали настоящий Договор и приложили к нему свои печати.
Учинено в гор. Москве 26 февраля 1921 года.
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г.
М.: Управление делами Совнаркома СССР. 1944. С. 970–975.
Этой-то бумажкой и воспользовался товарищ Сталин в августе 1941 г., ввёл войска. В порядке самообороны, согласно буквы и духа статьи VI Договора.
— Бумажка? Реза Пехлеви был на воробьиный скок от союза с Гитлером!
А я своё: двадцать лет назад чернил на себе не стоила. Сличаем даты: 26 февраля и 16 апреля 1921 года, торжественное подписание и наглое попрание.
Люди открытий,
Люди отплытий,
Режьте в Реште
Нити событий!
(5 июня 1921, Решт)
Это лектор политотдела бросок на Тегеран воспевает, вероломное нападение. Такая вот мрачная истина.
Муторно на душе, самая пора грянуть песню удалую. Эх-ма!
Брат рассказал ему в один из вечеров об острове Ашур-Адэ, расположенном против персидских берегов на Каспийском море. Хлебникова очаровала прелесть цветущих лугов острова, покрытых даже в декабре дикими нарциссами, цветами кактусов, и он предложил там устроить резиденцию Председателей Земного Шара. Только справлялся, есть ли там радио.
Доброковский взялся писать его портрет. Он охотно согласился. Но портрет, очень удачный и прекрасно передававший испуганное выражение его синих глаз, был утерян потом в суматохе тогдашней жизни. Зимой же он украшал стену их общего жилья. Пробовал Доброковский и лепить Хлебникова. Тот попросил изобразить его с шаром на плече: „Шар — самая совершенная форма”, — сказал он.
Вздумал и брат написать его. „Только с рогами”, — заявил он. Брат согласился и добавил: „С бычьими?” — „Нет, — твёрдо возразил Хлебников, — с оленьими”.
Зима в этот год у нас была снежная и холодная. Хлебников целыми днями просиживал в мастерской за столом. Окутанный клубами дыма, он без конца писал. Вечерами иногда заходил молодой астроном — немец, и между ними непременно разгорался спор. Спорили о чём-то из высшей математики, о хлебниковском труде с математическими выкладками. Астроном нападал. Хлебников терял свой отсутствующий и равнодушный вид и защищался, нахохлившись, словно большая птица, спасающая детёныша. В хорошую погоду уходил в гости к Вячеславу Иванову, к художнику Маклецову.
Среди зимы уехал Доброковский, и он остался в мастерской полным хозяином. Бывали дни, когда он целыми днями не говорил ни слова. Бывали дни, когда он уходил и долгие часы бродил по баиловским холмам (Баилов — та часть Баку, где находился политотдел). Но голод давал себя знать: в лице и на руках появилась у него нездоровая одутловатость, он ослабел.
Любил расспрашивать о Персии и слушал рассказы о ней с неизменным интересом и мог говорить о ней сам по целым вечерам.
Была у него привычка играть словом. Скажет кто-нибудь почему-либо понравившееся слово, он подхватит его и со своим равнодушным и рассеянным видом начнёт разлагать его на новые слова, к ним прицепит новое, и т.д., и т.д. и кончит двустишием со странной и сложной рифмой.
Составлял гороскопы.
Ходил всегда слегка согнувшись, каким-то пружинившимся и подпрыгивающим шагом. При встрече почему-то отдавал честь. В глазах у него часто мелькало выражение испуга, как у встревоженного животного. Это особенно было заметно при внезапных встречах. Что бы на него не надевали — всё через два дня приходило в такой хаотический вид, что становилось неузнаваемо: ботинки зашнуровывались через пятое на десятое, обмотка сползала к щиколотке, другая просто моталась без дела.
Однажды он опять вздумал проявить свой практический талант и умение приспосабливаться к действительности. Он явился в театр Гротеск, где работали оба мои брата, с предложением написать пьесу. Не успев ничего путного сказать о ней, не узнав даже нужна ли она будет, и будет ли принято предложение, он вдруг решительно потребовал: „Давайте аванс…” И сам, кажется, и удивился, и испугался. Конечно, аванса ему не дали, а о пьесе не захотели и разговаривать.
Я его впервые увидела в Бакинском университете. Мы оба стояли в очереди за студенческим пайком. Паёк был убогий, но стоять за ним приходилось подолгу. Как попал Хлебников в студенты, я не знаю. Думаю, что паёк этот ему устроил Вяч. Иванов, который работал тогда в университете. Мне особенно запомнилась крохотная шапочка на густой гриве нечёсаных волос и большие, какие-то непристроенные руки, торчавшие из коротких рукавов серого, не по росту маленького пальто. Он стоял спокойно и безучастно, не обнаруживая смущения, хотя студенческая публика довольно бесцеремонно обозревала его. Он только сутулился и смотрел всё время мимо.
Наступила весна. Хлебников стал хлопотать о назначении в Персию, о которой думал всю зиму (оттуда он мечтал пробраться в Индию). Его направили в политотдел Персидской революционной армии. Назначение свалилось неожиданно, как снег на голову, и Хлебников принял его с бурной радостью. Брат говорил, что единственный раз он видел его в такой ажитации, в таком восторге. Он бросил даже свой куриный ящик с рукописями, которые потом комендант здания отнёс на чердак, и ринулся на пристань, чтобы в тот же день отправиться с пароходом в Персию.
После отъезда Хлебников как-то скрылся с нашего горизонта.
Затем я и брат уехали в Железноводск и там, конечно, уж ничего нового не смогли узнать о нём. Единственной весточкой была его небольшая поэма, которая недавно появилась в печати отдельным экземпляром и попалась мне среди газет и журналов в железноводской читальне.
В июле брат вернулся в Баку и там снова встретился с Хлебниковым. Первая встреча произошла у моего старшего брата, у которого тогда жил брат Борис. Хлебников казался отдохнувшим, даже помолодевшим, был хорошо настроен. Одет был в косоворотку из какой-то грубой суровой ткани, подпоясан ремешком, уже без обмоток, но на голове была неизменная курносовская шапочка. Пил чай, рассказывал о Персии…
Просидев уже часа полтора или два, он вдруг словно что-то вспомнил и проговорил с деловитой озабоченностью: „Ах, мои продукты могут испортиться!..” И так же деловито стал тащить из-под рубахи чурек.
Он рассказал Борису несколько эпизодов из своей персидской жизни. Оказалось, что в политотделе армии он хоть и числился, но время своё тратил, как хотел. Очень много бродил. И вскоре попал в ужаснейшую горную глушь, где жители деревушки отнеслись к нему доброжелательно, ребятишки окружали его очень доверчиво. Так он и получил свое прозвище “урус дервиша”.
Однажды в одной из таких деревушек его пригласил к себе в саклю местный дервиш. На ковре, постеленном на полу сакли, они просидели друг против друга всю ночь.
Дервиш читал стихи из Корана. Хлебников молча слушал и кивал головой, что полон внимания. Так их и застало утро. Когда Хлебников собрался уходить, дервиш подарил ему посох, высокую войлочную шапку (похожую на православную митру) и джуранки (цветные шерстяные носки, украшенные рисунком, наподобие тех, какими украшают ковры и паласы).
Он говорил брату, что вспоминает об этой ночи и подарок дервиша ему особенно дорог. И очень жалел, что подаренные вещи были у него потом украдены. В тот же период своей бродячей жизни в Персии попал он на службу к одному хану.
Тот взял его в качестве учителя к своему сынишке.
С маленьким ханом всегда занимался и ещё один мальчишка — слуга. Этого мальчишку били палками каждый раз, когда сиятельный ученик не знал урока. Дворец хана отличался своеобразной роскошью. Так, Хлебникову запомнилась одна комната, где потолок был весь выложен китайскими блюдами. И другая, где на полу был вделан аквариум с золотыми рыбками, а потолок над аквариумом состоял из большого зеркала, отражавшего его целиком. Хан лежал на подушках, смотрел в потолок, и любовался отражавшимися в нём золотыми рыбками. Хан был большой мечтатель. Целыми днями просиживал он на подушках, нюхал розу, молчал и мечтал. Всем хозяйством управляла его жена, женщина деловитая и энергичная.
Когда брат спросил его — почему он так скоро вернулся из Персии, Хлебников сказал ему приблизительно следующее: Персия давила его древностью своей многовековой культуры. Он ощущал её как колыбель человечества, и тяжесть зрелости её чувствовалась ему во всем, даже в красных цветах граната. Ему надо было передохнуть от ощущения этой тяжести, надо было набраться сил. Вот почему он отложил свой план пробраться дальше в Индию и вернулся в Россию.
Ольга Самородова. Поэт на Кавказе
Приложение
Поправка П.В. Башарина:
Cмысл некоторых предложенией оригинала всё же отличается. Например, перед цитатой из поэмы говорится: „Поэма начинается с возгласа Ок! Ок! или „Хок! Хок!” Вероятно, поэт стремится передать ходящие в среде дервишей слова „Йа Хакк! Йа Хакк!”. Или же, возможно, это имитация звука трубы дервиша.”
А вот фразы „Вероятно, это суфийское „Хак!” („Истина!”)” в тексте я не нашёл. Полез сравнить потому, что Хак — значит Истинный (одно из ключевых имён Божьих для суфиев). Такая ошибка очень часто тиражируется в русскоязычной среде, т.к. в суфизме у нас до сих пор разбираются скверно. Подумал, неужели и Никитин тоже так считал? Вот, оказалось, что текст там иной.
Пишу это не из снобизма, а вдруг для дела пригодится?







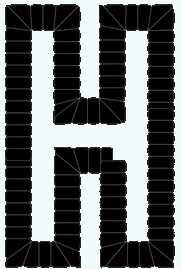 есколько лет назад я опубликовал в журнале «Восточная Европа» очерк о так называемом странничестве, типе религиозного поведения русских. Показаны глубоко верующие личности, которые, как правило, замечательны только тем, что постоянно перемещаются с места на место; духовной опыт, который они приобретают как в своих скитаниях, так и при отправлении религиозных обрядов, весьма любопытен.
есколько лет назад я опубликовал в журнале «Восточная Европа» очерк о так называемом странничестве, типе религиозного поведения русских. Показаны глубоко верующие личности, которые, как правило, замечательны только тем, что постоянно перемещаются с места на место; духовной опыт, который они приобретают как в своих скитаниях, так и при отправлении религиозных обрядов, весьма любопытен.![]()
![]()
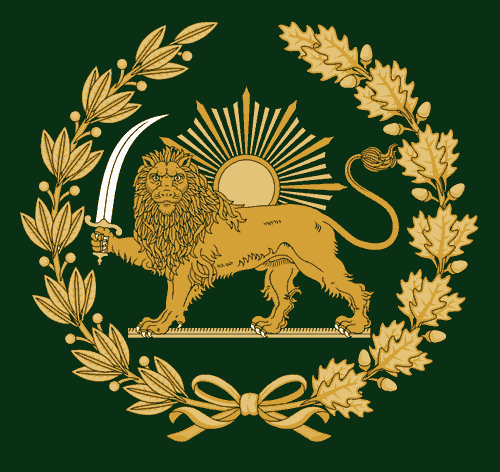 На излёте погрузившей Россию в хаос гражданской войны поход в Иран мог показаться увеселительной прогулкой. В действительности обстановка подчас таила смертельную опасность, и поэт стоял плечом к плечу с иранскими фидаинами и красноармейцами. При этом, поскольку он числился сотрудником газеты «Красный Иран»,5
На излёте погрузившей Россию в хаос гражданской войны поход в Иран мог показаться увеселительной прогулкой. В действительности обстановка подчас таила смертельную опасность, и поэт стоял плечом к плечу с иранскими фидаинами и красноармейцами. При этом, поскольку он числился сотрудником газеты «Красный Иран»,5![]()
![]()
![]()
![]()
 то благопожелание снимает, на мой взгляд, все недоумения относительно текста (рукописного), перевод которого предложен выше: «Русский дервиш» Василия Никитина, на добрую треть состоящий из отрывков знаменитой поэмы Велимира Хлебникова, написан по-французски и препоручен переводчику. Имя его в рукописи читается плохо, и я предположил таковым Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде. Возражения принимаются.
то благопожелание снимает, на мой взгляд, все недоумения относительно текста (рукописного), перевод которого предложен выше: «Русский дервиш» Василия Никитина, на добрую треть состоящий из отрывков знаменитой поэмы Велимира Хлебникова, написан по-французски и препоручен переводчику. Имя его в рукописи читается плохо, и я предположил таковым Сейида Мохаммеда Али Джамал-Заде. Возражения принимаются. Удача наотмашь: у Максима Сергеевича Киктева есть памятливый на добро ученик подкупающей наружности. Ещё того краше изнутри: дарит мне книжку на счёт раз-два. Наглею по нарастающей:
Удача наотмашь: у Максима Сергеевича Киктева есть памятливый на добро ученик подкупающей наружности. Ещё того краше изнутри: дарит мне книжку на счёт раз-два. Наглею по нарастающей: