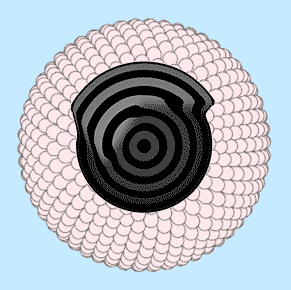Ваан Барушьян
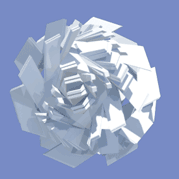
Велимир Хлебников
1. Путь Хлебникова к футуризму
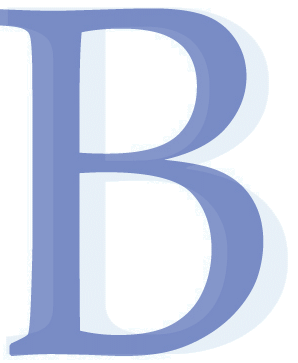
елимир Хлебников родился в 1885 году в селе Тундутово Астраханской губернии. Его мать по образованию историк, отец — профессиональный орнитолог. Хлебников научился читать в раннем детстве, и уже тогда проявлял склонность к языкам и рисованию. Позже он писал, что
в годы студ‹енчества›
думал о возрождении языка.
1
В 1898 году Хлебников поступил в симбирскую гимназию; через год, после переезда семьи, продолжил учёбу в Казани. В это время оформился его интерес к литературе, истории и математике. По окончании гимназии (1903) Хлебников основным предметом обучения в Казанском университете избрал математику. Здесь он принял участие в студенческой демонстрации против ареста за политическую деятельность студента, впоследствии умершего в психиатрической больнице. Хотя у Хлебникова была возможность убежать во время разгона шествия, он этого не сделал, потому что „надо же было кому-нибудь и отвечать”. Его посадили на месяц.
В 1904 году Хлебников продолжает учёбу в университете, и, увлекаясь русскими поэтами-символистами (рупором символизма в ту пору был журнал «Весы»), пробует себя в изящной словесности. Один из первых литературных опытов он отправил Горькому. По словам сестры Хлебникова, „тот вернул со своими заметками, насколько помню — одобрил, так как вид у Вити был гордый и радостный”.
2
В 1905 году, узнав, что русский флот уничтожен в сражении при Цусиме, Хлебников сосредоточился на исторических детерминантах, поставив себе задачу открыть законы времени, т.е. математически описать связь событий — сколь далеко ни отстояли бы они друг от друга — между собой.3 Он посвятил этим изысканиям бóльшую часть своей жизни; о последствиях будет сказано ниже. Для начала достаточно того, одно из его ранних стихотворений «Были вещи слишком сини» (1905?) представляет собой отчёт о Цусимском побоище. Налицо подступы к теме исторического возмездия, которая в дальнейшем станет у Хлебникова стержневой.4
Он посвятил этим изысканиям бóльшую часть своей жизни; о последствиях будет сказано ниже. Для начала достаточно того, одно из его ранних стихотворений «Были вещи слишком сини» (1905?) представляет собой отчёт о Цусимском побоище. Налицо подступы к теме исторического возмездия, которая в дальнейшем станет у Хлебникова стержневой.4
В 1907 году он пишет стихи под сильным влиянием Бальмонта, Вячеслава Иванова, Ремизова и Городецкого. Бóльшая часть раннего творчества Хлебникова отражает характерную для поэзии Иванова и Городецкого идеализацию первобытного существования на лоне девственной природы, пристальный интерес к фольклору и славянской мифологии.5
Год спустя он уезжает в Петербург с намерением завершить там своё образование, но, освоившись в литературных кругах столицы, утрачивает интерес к формальной учёбе и вскоре бросает её.6 Поэзия, а также исследования в области математики и истории поглощают всю энергию Хлебникова. Один из его близких друзей, Матюшин, свидетельствует:
Поэзия, а также исследования в области математики и истории поглощают всю энергию Хлебникова. Один из его близких друзей, Матюшин, свидетельствует:
Он был удивительно бесшумен и постоянно сосредоточен. Его лоб приводил в смущение своей какой-то громадной внутренней работой (самых весёлых шутников). Сам же он, при обращении к нему, как-то смущался и тихо шептал непонятный ответ. В жизни с товарищами он был чрезвычайно замкнут, и оживлялся лишь в обсуждении нового издания и общей работы.
‹...› В повседневной жизни В. Хлебников был беспомощен, как дитя, и страшно рассеян. За обедом подносил ко рту коробку спичек вместо хлеба, выходя, забывал шапку. Молчаливость и замкнутость заставляли забывать иногда о его присутствии. ‹...›
Работая целыми днями над изысканием чисел в публичной библиотеке, Хлебников забывал пить и есть и иногда возвращался такой измученный, серый от усталости и голода, но в такой глубокой сосредоточенности, что его с трудом можно было оторвать от его вычислений и усадить за стол.
7
В 1908 году Хлебников посетил Василия Каменского, редактора журнала «Весна». Каменский был поражён талантом Хлебникова и опубликовал его произведение «Искушение грешника», главной особенностью которого были неологизмы. Через Каменского Хлебников познакомился с ведущими художниками-авангардистами Матюшиным и Кульбиным. Безучастным к изобразительному искусству молодого поэта не назовёшь: по словам Денике, профессора Санкт-Петербургского университета, Хлебников „находил общее между своими формальными поисками в области поэтического языка и системой современной французской живописи”.8 Более того, Хлебников заявил: мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.9
Более того, Хлебников заявил: мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью.9 В письме Каменскому (1910) он провозглашает право пользования вновь созданными словами — писание словами одного корня ‹...› живописанье звуком. ‹...› мы — новый род людей-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы.10
В письме Каменскому (1910) он провозглашает право пользования вновь созданными словами — писание словами одного корня ‹...› живописанье звуком. ‹...› мы — новый род людей-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы.10
Следует заметить, что синкретизм Хлебникова сродни современному ему экспериментированию как в изящной словесности, так и в пространственных искусствах.11 Трактовка символистами стихосложения как перевода с языка эмоций, например, привела их к идее слияния поэзии с музыкой.12
Трактовка символистами стихосложения как перевода с языка эмоций, например, привела их к идее слияния поэзии с музыкой.12 Кроме того, Гумилёв, Городецкий и Мандельштам искали в живописи, архитектуре и скульптуре принципы или приёмы, применимые к поэзии. Поэзия всё больше рассматривалась как универсальная структура.
Кроме того, Гумилёв, Городецкий и Мандельштам искали в живописи, архитектуре и скульптуре принципы или приёмы, применимые к поэзии. Поэзия всё больше рассматривалась как универсальная структура.
В 1909 году Хлебников знакомится с Вячеславом Ивановым и сообщает родным: тот весьма сочувственно отнёсся к моим начинаниям.13 Предварительно (ещё из Казани) Хлебников писал Иванову: я помнил о “всеславянском языке”, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского.14
Предварительно (ещё из Казани) Хлебников писал Иванову: я помнил о “всеславянском языке”, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского.14 Впоследствии Хлебников не раз посещал знаменитую “Башню” Иванова, где в центре внимания собравшихся стояли вопросы философии, мистицизма, анархизма, поэзии и религии.15
Впоследствии Хлебников не раз посещал знаменитую “Башню” Иванова, где в центре внимания собравшихся стояли вопросы философии, мистицизма, анархизма, поэзии и религии.15 Хотя Хлебников называл своим учителем Кузмина, идеологическое влияние Иванова, кажется, доминировало.16
Хотя Хлебников называл своим учителем Кузмина, идеологическое влияние Иванова, кажется, доминировало.16 Иванов одобрял общеазийскую, панроссийскую17
Иванов одобрял общеазийскую, панроссийскую17 и доисторическую ориентацию Хлебникова. Он же вселил в него высокое представление о теургической миссии поэта. По Иванову, поэзия призвана “пересоздать”, преобразить жизнь. Существенное влияние оказал Иванов на использование Хлебниковым архаической лексики и фольклорных мотивов.18
и доисторическую ориентацию Хлебникова. Он же вселил в него высокое представление о теургической миссии поэта. По Иванову, поэзия призвана “пересоздать”, преобразить жизнь. Существенное влияние оказал Иванов на использование Хлебниковым архаической лексики и фольклорных мотивов.18
Осенью 1909 года Хлебников сблизился с группой молодых поэтов из объединения «Академия стиха», основанного Гумилёвым. Сначала они собирались в ивановской “Башне”, где хозяин читал лекции по стихосложению и разбирал опусы молодёжи. С октября местом этих сходок стала редакция только что созданного журнала «Аполлон». Туда же перенесли свои лекции Иванов, Фаддей Зелинский и Иннокентий Анненский: вместе с Сергеем Маковским, Валерием Брюсовым, Александром Блоком и Михаилом Кузминым они стали членами правления.19 Хлебников хотел влиться в «Академию стиха», чтобы найти своим сочинениям аудиторию. Он возлагал большие надежды на публикацию в «Аполлоне» и писал матери, что одна из его работ будет напечатана в февральском номере 1910 года.20
Хлебников хотел влиться в «Академию стиха», чтобы найти своим сочинениям аудиторию. Он возлагал большие надежды на публикацию в «Аполлоне» и писал матери, что одна из его работ будет напечатана в февральском номере 1910 года.20 Но, хотя Иванов и Кузмин симпатизировали творчеству Хлебникова, „новаторские тенденции, проявившиеся уже в ранних вещах Хлебникова, ориентировавшегося на неканонические жанры фольклорной поэзии (раёшник, былина), встретили враждебное отношение со стороны большинства участников «Академии стиха»”.21
Но, хотя Иванов и Кузмин симпатизировали творчеству Хлебникова, „новаторские тенденции, проявившиеся уже в ранних вещах Хлебникова, ориентировавшегося на неканонические жанры фольклорной поэзии (раёшник, былина), встретили враждебное отношение со стороны большинства участников «Академии стиха»”.21
Итак, возлагаемые на публикацию в «Аполлоне» надежды не оправдались. Вскоре после того, как Хлебников покинул «Академию стиха» (декабрь 1909), он возобновил знакомство с Каменским, и тот свёл его с Давидом Бурлюком, который недавно сколотил свой собственный поэтический кружок — будущих кубофутуристов.22 Именно тогда Хлебников опубликовал своё знаменитое «Заклятие смехом» в журнале «Студия импрессионистов», идейным вдохновителем которого был Кульбин. Эта работа принесла Хлебникову немедленное признание. Кроме того, он опубликовал в скандально известном «Садке судей» два других произведения: «Зверинец» и «Журавль».
Именно тогда Хлебников опубликовал своё знаменитое «Заклятие смехом» в журнале «Студия импрессионистов», идейным вдохновителем которого был Кульбин. Эта работа принесла Хлебникову немедленное признание. Кроме того, он опубликовал в скандально известном «Садке судей» два других произведения: «Зверинец» и «Журавль».
2. Лингвистические, поэтические, исторические и математические
интересы Хлебникова в свете русского символизма
Лингвистические эксперименты Хлебникова как теоретика русского футуризма делятся на два основных направления:
(1) создание неологизмов из славянских морфем по аналогии с обиходными словами;
(2) создание универсального языка.
Хлебников так выразил своё отношение к слову:
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов, одно в другое — свободно плавить славянские слова: вот первое моё отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни — лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — моё второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.23
Что касается создания неологизмов (забота Хлебникова о мировом языке будет рассмотрена в другом контексте), он играл префиксами, суффиксами и инфиксами в прославленном «Заклятии смехом»:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О. засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!
Смейво, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, замейтесь, смехачи!24
К этому же направлению поисков относилось и конструирование
словоновшеств путём замены начальной согласной существительного другой согласной. Например, он заменил
к в слове князь на
м, и получилось
мнязь, что значит
мыслитель.
25
Хлебников писал по этому поводу:
Если мы имеем пару таких слов, как двор и твор, и мы знаем слово дворяне,
мы можем построить слово творяне — творцы жизни.
О значении словотворчества Роман Якобсон писал: „Важная возможность поэтического неологизма — беспредметность”.
26
Неологизм не обязательно обозначает конкретный объект, хотя способен передать его суть. Неологизмы могут
обогащать поэзию тем, что ‹...› создают эффект благозвучия ‹...› Значение слова в каждый данный момент более или менее статично, значение же неологизма в значительной степени определяется контекстом, обязывая, с другой стороны, читателя к этимологическому мышлению.
27
Целью лингвистических экспериментов Хлебникова было существенное увеличение объёма поэтического словаря и расширение диапазона поэтического выражения:
Словотворчество — враг книжного окаменения языка, и, опираясь на то, что в деревне ‹...›
до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, ‹...›
переносит это право в жизнь писем.28
Русские символисты предприняли великое множество лингвистических опытов — но, по правде говоря, только для того, чтобы придать своим произведениям суггестивную атмосферу, позволяющую им „выходить за пределы действительности посредством смутных намёков и ассоциаций”.29 Их эксперименты были “средством материализации, раскрытия “касаний к мирам иным”.30
Их эксперименты были “средством материализации, раскрытия “касаний к мирам иным”.30 В какой-то мере это можно сказать и о Хлебникове.31
В какой-то мере это можно сказать и о Хлебникове.31 Однако, в отличие от символистов, он занимался словотворчеством в прямом смысле: созиданием. Более того, его „техника языка” носила “рационалистический, логизированный характер”,32
Однако, в отличие от символистов, он занимался словотворчеством в прямом смысле: созиданием. Более того, его „техника языка” носила “рационалистический, логизированный характер”,32 отчасти являясь сознательной попыткой проложить пути к научной лингвистической системе.
отчасти являясь сознательной попыткой проложить пути к научной лингвистической системе.
Страстно увлечённый угадыванием народных судеб и “вёрсткой” человечества — заимствованным у символистов идеям, — Хлебников поставил перед собой две основные задачи, требующие хотя бы краткого пояснения.
Как ни странно, Хлебников бóльшую часть своей жизни отдал вычислениям, а не литературе. Для него история была не летописью чьих-то усилий навязать свою волю, вереницей вооружённых конфликтов или переселений народов, а следствием строго детерминированных циклов: Хлебников твёрдо верил, что таковые могут быть обнаружены и поддаются математическому описанию. Отказываясь жить в непредсказуемом, иррациональном и нелогичном мире, он был полон решимости открыть правило, которому подчинялись народные судьбы.33 Но где и с какого события начать? Поскольку не существовало критериев отбора исторических событий по их значимости или ничтожеству, подход волей-неволей был произвольным. Хлебникову приходилось манипулировать избранными датами до тех пор, пока он не сводил их к схеме, где число или формула проявляли себя настолько явно, что казались залогом успеха. После долгих лет размышлений,34
Но где и с какого события начать? Поскольку не существовало критериев отбора исторических событий по их значимости или ничтожеству, подход волей-неволей был произвольным. Хлебникову приходилось манипулировать избранными датами до тех пор, пока он не сводил их к схеме, где число или формула проявляли себя настолько явно, что казались залогом успеха. После долгих лет размышлений,34 напряжённых поисков в библиотеках и бесконечных скитаний по России в попытках уловить ритм повседневности, Хлебников обнаружил, что триста семнадцать (лет) — магическое число, разделяющее переломные моменты истории. Это и позволило ему предсказать, что 1917 год ознаменуется падением государства,35
напряжённых поисков в библиотеках и бесконечных скитаний по России в попытках уловить ритм повседневности, Хлебников обнаружил, что триста семнадцать (лет) — магическое число, разделяющее переломные моменты истории. Это и позволило ему предсказать, что 1917 год ознаменуется падением государства,35 которым оказалась Российская империя.
которым оказалась Российская империя.
Хроническая одержимость Хлебникова и едва ли не мистическая вера в числа как волшебный ключ к часам человечества — нерв его творчества, ибо числовые изыскания у Хлебникова поэтически продуктивны.36 Его стихотворения зачастую оказываются и провозглашением новооткрытых историко-математических закономерностей, и указанием способа или области практического их применения. Теоретические построения не только в значительной степени сформировали взгляд Хлебникова на искусство как обрисовку исторической эпохи или конкретного события, но и определили эпическую направленность его творчества, подвигнув на “вживание” в самые отдалённые периоды русской и мировой истории.37
Его стихотворения зачастую оказываются и провозглашением новооткрытых историко-математических закономерностей, и указанием способа или области практического их применения. Теоретические построения не только в значительной степени сформировали взгляд Хлебникова на искусство как обрисовку исторической эпохи или конкретного события, но и определили эпическую направленность его творчества, подвигнув на “вживание” в самые отдалённые периоды русской и мировой истории.37 Марков заметил: „в стихах Хлебникова больше единства, чем в его пристрастиях, столь же неорганизованных и разнообразных, как окружающая его действительность”.38
Марков заметил: „в стихах Хлебникова больше единства, чем в его пристрастиях, столь же неорганизованных и разнообразных, как окружающая его действительность”.38
Хлебников шагал по историческим эпохам, уходя от реалий быта:
Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам, подписью узника
На строгих стёклах рока.
Так серы и скучны
Обои из человеческой жизни!
Окон прозрачное „нет”!
Я уже стёр своё синее зарево, точек узоры,
Мою голубую бурю крыла — первую свежесть,
Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрадны и жёстки,
Бьюсь я устало в окно человека.
Вечные числа стучатся оттуда
Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.39
Поскольку Хлебников был уверен, что прошлое слито с будущим, он стремился выяснить, когда именно “дух события” проявит себя вновь, “повторится”. «Царская невеста» (1908) посвящена Ивану IV; «Внучка Малуши» (1909) — временам князя Владимира; «И и Э» (1912) — каменному веку; «Мария Вечора» (1913) — самоубийству австрийского эрцгерцога Рудольфа и его любовницы Марии Ветсеры в 1889 году — событие, которому Хлебников, кажется, придавал большое значение в математическом плане.
Сверхповесть «Дети Выдры» (1913 г) — её Хлебников считал одним из лучших своих произведений — допустимо рассматривать как поэтический синтез „математических изысканий”
40
автора. Исторические эпохи он здесь перетасовывает, сводя друг с другом знаковые фигуры прошлого: Маркса, Юстиниана I, Дарвина, Ганнибала, Стеньку Разина, Гуса, Пугачёва, Коперника и др.
41
Степанов, может быть, прав: у Хлебникова „исторические и философские гипотезы являются не только темами поэм, но и их смысловым костяком, сквозящим за всеми образами и темами”.
42
Этим отчасти объясняется бессюжетность и фрагментарность поэзии Хлебникова, обилие в ней дат, чисел и математических формул. В поэме «Гибель Атлантиды» (1912) он ставит числа над историей человечества, более того — над явлениями природы:
Походы мрачные пехот,
Копьём убийство короля
Послушны числам как заход,
Дождь звёзд и синие поля.
Года войны, ковры чуме
Сложил и вычел я в уме,
И уважение к числу
Растёт, ручьи ведя к руслу.43
В стихотворении «Числа» — их персонифицирует:
Я всматриваюсь в вас, о числа,
И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах,
Рукой опирающимися на вырванные дубы.
Вы даруете — единство между змееобразным движением
Хребта вселенной и пляской коромысла,
Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы.
Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы:
Узнать, что будет я, когда делимое его — единица.44
В то время как русские символисты говорили о воссоздании и преображении человечества “художественно”,
45
Хлебников пытался добиться этого
лингвистически. Отсюда его второй крупный проект: на основе согласных звуков разработать универсальный язык, чтобы восстановить утраченное единство людей. Вполне возможно, что к этой фантастической задаче Хлебникова подтолкнули насилие и резня, которыми изобилуют даты мировой истории.
Заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют.46
Хлебников полагал, что в состоянии первобытной простоты люди говорили на одном языке,
дикарь понимал дикаря. Теперь же,
изменив своему прошлому, языки
служат делу вражды.
47
И спрашивает:
что лучше — всемирный язык или всемирная бойня?48
В представлении Хлебникова об универсальной гармонии этот
всемирный язык — её средоточие. В «Ладомире» (1920) он ставит задачу
перелить земли наречья в единый смертных разговор; по его мнению, футуристы — именно
те юноши, что клятву дали разрушить языки.
49
Идеалистическую тягу Хлебникова к первобытной простоте и мифическому универсальному языку можно рассматривать как эхо символистских идей Вячеслава Иванова и Белого, для которых искусство и язык были проводниками в “иную” реальность, своего рода религиозной деятельностью — во всяком случае, суррогатом таковой. Возможно, это всего лишь разновидность бегства от реальности, выражение протеста. К русским символистам такой вывод применим однозначно.
3. «Журавль» Хлебникова и некоторые особенности его поэтики
Прежде чем двигаться дальше, полезно дать хотя бы краткий очерк символистской направленности поэзии Хлебникова. Богатая идеями и мифологическими аллюзиями, она отличается редким тематическим и языковым разнообразием. Как уже сказано, воображение Хлебникова зажигалось историческими эпохами и знаковыми персонами; он тосковал по архаике и, можно сказать, молитвенно был предан Востоку. Для Хлебникова поэзия была не самоцелью, не “похожим” списком с действительности, не одержимостью буквой Я, но самовыражением с оптимальными, по его мнению, стилем, языком и формой. Поскольку язык поэзии он полагал „вне быта и жизненных польз” (чему в повседневной жизни был привержен до самозабвения), то зачастую преднамеренно избегал внятности, основанной на бытовой логике. Ему, как и многим символистам, было чуждо поэтическое “благоразумие”. Оперативным предпочтением нередко пользовалось “нелепое”, “алогичное”, “заумное” или просто первое пришедшее на ум слово. Отсюда “провалы смысла”, нередко ставящие читателя в тупик. При этом в символистской эстетике стихосложение — удел провидца, сопрягающего далековатые понятия; это высокая речь, недоступное профанам искусство. Короче говоря, символистская поэзия предлагает читателю тайну, а затраченные на разгадку таковой усилия мнит удовольствием. Не всё, но многое из перечисленного относится и к поэзии Хлебникова.
Приступим к анализу раннего произведения Хлебникова «Журавль» (1909), где налицо единство реального и воображаемого; можно считать эту поэму и сюрреалистической аллегорией. Гумилёв заметил на сей счёт:
В. Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий.
50
В «Журавле» портовой подъёмный кран с железным, кисти руки подобному крюком оживает и скачет вдоль реки в каком-то вихре. Дымовые трубы поднимают шеи, как на стене тень пальцев ворожеи. Кран стремится навстречу вещам с неведомой ещё силой, так узник на свидание стремится навстречу милой и приобретает очертания птицы по мере того, как железные и хитроумные чертоги в каком-то яростном пожаре, как пламень, возникающий из жара превращаются в подобие ног журавля. Трубы, стоявшие века, оживают и летят, движениям подражая червяка. Вагоны поездов превращаются в сплетённые друг с другом жилы, обволакивая сорванные со шпал рельсы, которые в диком росте чудовища ногам дают лёгкие трубчатообразные кости. На службу монстру являются толпы мертвецов, в союз спешащие вступить с вещами. Устрашённые люди воздают журавлю божеские почести, принося в жертву — некоторые даже с радостью — отобранных по жребию младенцев, которых тот пожирает. Наконец, с остатками людского мяса в клюве, журавль исполняет ритуальный танец победы, как дикарь над телом побеждённого врага, и исчезает.
Полагая современный городской уклад нелепостью и отзываясь на это соответствующим образом, Хлебников наследует символистам, в особенности Блоку, Белому и Брюсову, считавшим город грязным и грозным абсурдом. По Хлебникову, вырождение городской цивилизации есть неизбежное — следуя старинным предначертаниям — зло, следствие эволюции: образует птицы кисть крюк, остаток от того времени, когда четверолапым зверем только ведал жисть. Он пророчествует о смычке — на погибель человеку — технологии с орнитологией. Наконец, истребление человека делом его же рук можно рассматривать и как месть природы.
Якобсон счёл «Журавля» “реализованной” метафорой:
Здесь мы имеем ‹...› проекцию литературного приёма на художественную реальность, превращение поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное построение.
51
“График” сюжета поэмы есть развитие базовой метафоры: вырождения последнего слова техники (благо) в примитивное (помимо птицы, журавлём называют колодезный рычаг) зло. Степанов отмечает, что Хлебников добивается этого посредством „сюжетных сдвигов”, цель которых — нарушить привычные „фабульные мотивировки”:
развёртывание метафоры вырастает в “сюжет” вещи.
52
Например:
Трубы ‹...› движениям подражая червяка
Мост ‹...› подражая движению льдины
Железные пути ‹...› сплетаясь змеями в крутой плетень
К нему слетались мертвецы из кладбищ
И плотью одевали остов железный.
Поэтические приёмы и тематика «Журавля» требуют пристального изучения: это вклад Хлебникова в поэзию и прозу 1920-х годов. Отголоски символизма налицо: аура неясности, создаваемая употреблением неопределённых местоимений (
какой-то) и самим строем поэмы, требующей некоторого усилия для связывания деталей воедино; „внезапные пассажи высокого стиля”, напоминающие Вячеслава Иванова;
53
использование разговорных выражений, близких лексике Андрея Белого;
54
звуковые повторы, конёк русских символистов.
55
Но Хлебников использует в «Журавле»56 и типовой, скажем так, инструментарий футуризма. Во-первых, это восстание вещей, о чём прямо заявлено:57
и типовой, скажем так, инструментарий футуризма. Во-первых, это восстание вещей, о чём прямо заявлено:57
Злей не был и Кощей,
Чем будет, может быть, восстание вещей.
Во-вторых, упор на конкретику. В-третьих — остранение, то есть семантический сдвиг, способ перевода объекта „в сферу новой перцепции”.
58
Вереница автомобилей, например, образует позвоночник журавля:
Жукообразные повозки,
Которых замысел по волнам молний сил гребет
В красные и жёлтые раскрашенные полоски,
Птице дают становой хребет.
Якобсон отмечает у Хлебникова настолько „широкое использованием ляпсуса, оговорки”,
59
что можно говорить о литературным приёме. Кроме того, особенностью поэтики Хлебникова является нестандартный порядок слов: переставляя “чёт” и “нечет”, он остраняет контекст, и этим не даёт навыку чтения расслабить, убаюкать восприятие текста. Например, слово слёзы Хлебников обыгрывает в «Журавле» следующим образом:
И с богомольными вдоль щёк из глаз росами
Есть у него и метафоры несравненной силы:
На крыше небоскрёбов
Колыхались травы устремленных рук.
Наконец, в поэме имеется ряд мифологических и фольклорных мотивов, которые Хлебников вменяет реалиям современности: принесение в жертву младенцев, оживание неодушевлённых предметов, аллюзии на Кощея
60
и былинных воительниц —
строгих и сумрачных дев.
Но главное, что придаёт слогу Хлебникова максимальную гибкость и вариативность — сдвиг, “наползание” взаимоисключающих поэтических категорий друг на друга.61 В «Журавле» Хлебников умело и по большей части плодотворно использует это нововведение (заимствование из кубистской живописи сомнению не подлежит62
В «Журавле» Хлебников умело и по большей части плодотворно использует это нововведение (заимствование из кубистской живописи сомнению не подлежит62 ). Сдвиг очевиден и в структуре сюжета поэмы, и в её метрике,63
). Сдвиг очевиден и в структуре сюжета поэмы, и в её метрике,63 и в жанровых особенностях, и в рифмовке, и на языковом уровне.
и в жанровых особенностях, и в рифмовке, и на языковом уровне.
По Маркову, „характерной особенностью поэзии Хлебникова является смешение традиционных размеров с преобладанием одного метра, обычно четырёхстопного ямба”.64 Поначалу — в «Журавле», например — он смешивал тонику и верлибры, в дальнейшем использовал четырёхстопный ямб как метрическую основу, постоянно “перебиваемую”.65
Поначалу — в «Журавле», например — он смешивал тонику и верлибры, в дальнейшем использовал четырёхстопный ямб как метрическую основу, постоянно “перебиваемую”.65
Эксперименты Хлебникова с эпическими жанрами и одической дидактикой ставят его в один ряд с Ломоносовым и Державиным. Воссоздание поэтических жанров, которыми русские символисты пренебрегали как отжившими своё66 — одна из важнейших его заслуг. Радикальным новшеством были сверхповести — проза и стихи, переслоенные математическими, историческими и лингвистическими выкладками — «Война в мышеловке» (1917), «Зангези» (1922), «Царапина по небу» (1920). В «Детях Выдрах», тоже сверхповести, Хлебников связал воедино драму и поэзию — очевидно, ни один из отдельно взятых жанров не соответствовал размаху его исторических пристрастий. Харджиев отмечает, что смешение жанров у Хлебникова проистекало из его „тенденции к разрушению традиционных рамок временнóй аранжировки и, следовательно, к созданию стилистической и тематической разноплановости”.67
— одна из важнейших его заслуг. Радикальным новшеством были сверхповести — проза и стихи, переслоенные математическими, историческими и лингвистическими выкладками — «Война в мышеловке» (1917), «Зангези» (1922), «Царапина по небу» (1920). В «Детях Выдрах», тоже сверхповести, Хлебников связал воедино драму и поэзию — очевидно, ни один из отдельно взятых жанров не соответствовал размаху его исторических пристрастий. Харджиев отмечает, что смешение жанров у Хлебникова проистекало из его „тенденции к разрушению традиционных рамок временнóй аранжировки и, следовательно, к созданию стилистической и тематической разноплановости”.67
4. Некоторые выводы
Определяя отношение Хлебникова к русскому футуризму и его роль в этом движении, наталкиваемся на две проблемы: авторство манифеста футуристов и декларации «Слово как таковое». Что касается первого, то общепринятой точкой зрения является непосредственное участие Хлебникова в его создании.
68
Доказательством считают фамилию Хлебникова в перечне авторов. Доводы противной стороны заслуживают более пристального внимания. Лившиц, например, свидетельствует:
Кто составлял пресловутый манифест, мне так и не удалось выпытать у Давида: знаю лишь, что Хлебников не принимал в этом участия (его, кажется, и в Москве в ту пору не было).
69
Шкловский допускает, что Хлебников мог участвовать в обсуждении черновых набросков, не более того.
70
Марков подводит итог:
Ныне известно, что Хлебников фактически не участвовал в манифесте «Пощёчины», хотя и подписал его.
71
В отношении декларации «Слово как таковое» (1913), опять-таки распространено мнение, что Хлебников и Кручёных — соавторы. Харджиев, однако, другого мнения: „написано Кручёных”.72 В опубликованной декларации подписи Хлебникова и Кручёных сделаны, по-видимому, одной рукой.73
В опубликованной декларации подписи Хлебникова и Кручёных сделаны, по-видимому, одной рукой.73 Если Хлебников работал над текстом совместно с Кручёных (который стремился прославиться лингвистическими теориями, объединившись с Хлебниковым), вызывает недоумение пренебрежительный отзыв последнего на отпечатанный экземпляр, присланный ему Кручёных. Вопреки ожиданиям корреспондента, Хлебников заметил, что это бледно, и что он боится бесплодных отвлечённых прений об искусстве.74
Если Хлебников работал над текстом совместно с Кручёных (который стремился прославиться лингвистическими теориями, объединившись с Хлебниковым), вызывает недоумение пренебрежительный отзыв последнего на отпечатанный экземпляр, присланный ему Кручёных. Вопреки ожиданиям корреспондента, Хлебников заметил, что это бледно, и что он боится бесплодных отвлечённых прений об искусстве.74
Более того, в 1914 году Хлебников написал (но не опубликовал) открытое письмо, в котором гневно протестовал против публикации его рукописей без разрешения:
Давид и Николай Бурлюки продолжают печатать подписанные моим именем вещи, никуда не годные, и вдобавок тщательно перевирая их.75
Видимо, Давид Бурлюк был вынужден прибегнуть к самоуправству, нуждаясь в образчиках экспериментов Хлебникова для доказательства того, что футуристы действительно создают новый поэтический язык.
76
Возможно и другое объяснение: Бурлюк позволил себе такие вольности, поскольку был главным источником финансовой подпитки Хлебникова.77 Марков отмечает:
Марков отмечает:
похвалы Бурлюка [Хлебникову] кажутся тактическим преувеличением, призванным показать соперничающим сторонам, что футуристское движение обладает гением, а не искренней данью величию Хлебникова.
78
Вот почему
ни один русский писатель никогда не представал перед читателем в таком искажённом виде, как Хлебников.
79
Более того, прочно укоренилось ложное представление о том, что поэзия Хлебникова никогда не выходила за пределы словесных экспериментов.
Во-вторых, трудно — если вообще возможно — понять, каким образом Хлебников оказался в рядах певцов, а то и алтарников города, каковыми, по сути, были футуристы.80 Тынянов замечает по этому поводу: „Не случайно ведь Хлебников называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово”.81
Тынянов замечает по этому поводу: „Не случайно ведь Хлебников называл себя будетлянином (не футуристом), и не случайно не удержалось это слово”.81 Возможно, для Хлебникова слово будетлянин служило маркером адекватного разграничения его собственного миропонимания от убеждений литературных попутчиков: будетлянство Хлебникова — исследование действия будущего на прошлое.82
Возможно, для Хлебникова слово будетлянин служило маркером адекватного разграничения его собственного миропонимания от убеждений литературных попутчиков: будетлянство Хлебникова — исследование действия будущего на прошлое.82 В-третьих, он редко выступал на поэтических вечерах футуристов: у него был слабый голос; всякий раз, когда приходилось это делать, он произносил несколько строк и обрывал читку: и так далее.83
В-третьих, он редко выступал на поэтических вечерах футуристов: у него был слабый голос; всякий раз, когда приходилось это делать, он произносил несколько строк и обрывал читку: и так далее.83 Спасский отмечает, что Хлебников
Спасский отмечает, что Хлебников
жил словно на станции, сойдя с поезда и ожидая другого.
84
В отсутствие Хлебникова, Маяковский и Бурлюк нередко декламировали его стихи с неологизмами на публике, выдавая их за теоретическую основу, знамя русского футуризма и „полемическое оружие в защиту новых форм”.85 Сближение Хлебникова с футуристами объяснимо разве что потребностью обнародовать свои сочинения и соображениями заработка.86
Сближение Хлебникова с футуристами объяснимо разве что потребностью обнародовать свои сочинения и соображениями заработка.86
Хлебников испытал влияние символизма и симпатизировал кое-каким литературным и художественным движениям своего времени — кубизму, например, — но гневно порицал упадничество писателей-соотечественников. Ему претили отчаяние, негативизм и меланхолия Арцыбашева, Андреева, Ремизова, Мережковского и Сологуба. По Хлебникову, их произведения проповедуют ужас, а не красоту:
На вопрос, чем занимаются русские писатели, нужно ответить: они проклинают! Прошлое, настоящее и будущее!87
Что же касается русского символизма как направления, Хлебников считал его оторванным от национальных корней. Рабское подражание символистов западным образцам представлялось ему скармливанием русской молодёжи яда.88
Жизнь и творчество Хлебникова позволяют сделать вывод: опробовав поэтические и лингвистические пристрастия символизма, он дал им новое направление. Несомненно и другое: подобно символистам, числам он приписывал отражение “иной” реальности. Несмотря на летописные свидетельства хаоса, иррациональности, кровавых конфликтов и бесконечного насилия, Хлебников посвятил свою жизнь открытию в языке понятийных структур, объединяющих людей. До своей трагической смерти в 1922 году от недоедания он оставался всецело и непоколебимо приверженным чарующим символистским представлениям о человеческой солидарности и всеобщей гармонии.89 Приложив невероятные усилия к их осуществлению, Хлебников не был обманут: надпись на крышке гроба отражала его глубочайшее и высочайшее стремление: Председателю Земного Шара (типично символистский жест).
Приложив невероятные усилия к их осуществлению, Хлебников не был обманут: надпись на крышке гроба отражала его глубочайшее и высочайшее стремление: Председателю Земного Шара (типично символистский жест).
————————
Примечания 1 Велимир Хлебников
1 Велимир Хлебников. Собрание произведений, в пяти томах. Т. 5.
Ленинград: Издательство писателей. 1929–1933. С. 279. Ниже — СП.
 2
2 См.:
Н. Степанов. Биографический очерк //
Велимир Хлебников. Избранные стихотворения.
М. 1936. С. 12.
 3
3 Хлебников, СП. Т. 2. С. 10.
 4
4 См., например: «Гибель Атлантиды» (1912), «Ночь перед Советами» (1921), «Прачка» (1921) и «Настоящее» (1921).
 5
5 См., например, ранние работы Хлебникова.
 6
6 Хлебников (нерегулярно) изучал в Санкт-Петербургском университете биологию, восточные языки и санскрит вплоть до 1911 года, когда он окончательно прекратил учёбу.
 7
7 См.:
Н. Степанов. Биографический очерк //
Велимир Хлебников. Избранные стихотворения.
М. 1936. С. 18;
Л. Брик. Из воспоминаний // Альманах «С Маяковским».
М. 1934. С. 77–78;
Сергей Спасский. Маяковский и его спутники.
Ленинград. 1940. С. 64–67.
электронная версия воспоминаний С. Спасского на www.ka2.ru
 8
8 См.:
Н. Харджиев. Маяковский и живопись // Маяковский: материалы и исследования / ред. В. Перцов и Н. Серебрянский.
М. 1940. С. 381.
 9 Велимир Хлебников
9 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 334.
 10
10 Хлебников, СП. Т. 5. С. 391.
 11
11 „Формы и стили отдельных искусств часто, а может быть и всегда, определяются общим взаимоотношением искусств в данный момент. В этом смысле, синкретизм лежит в природе искусства как такового и есть явление органическое. Одно из искусств обычно доминирует над другими и, таким образом, обособляется от них, становясь особенно характерным для данной эпохи” (
Борис Эйхенбаум. Мелодика стиха // его же: Сквозь литературу.
Л.: Академия. 1924. С. 209.
 12 Georgette Donchin
12 Georgette Donchin. The Influence of French Symbolism on Russian Poetry. The Hague. 1958. С. 106.
 13
13 Хлебников, СП. Т. 5. С. 286.
 14 Велимир Хлебников
14 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 352.
 15
15 „Почти вся молодая поэзия того времени, если не излучалась ивановской Башней, по крайней мере прошла через неё...” (
Сергей Маковский. Портреты современников.
Нью-Йорк. 1955. С. 274).
 16
16 Влияние Кузмина сказалось в использовании Хлебниковым разговорной речи и свободного стиха. В свою очередь, “ментором” Кузмина одно время был Вячеслав Иванов.
 17 Мы знаем одну только столицу Россию и две только провинции — Петербург и Москву
17 Мы знаем одну только столицу Россию и две только провинции — Петербург и Москву (Хлебников, СП. Т. 5. С. 291).
 18
18 См.:
И. Поступальский. В. Хлебников и футуризм // Новый мир, № 5. 1930. С. 189.
 19 Сергей Маковский
19 Сергей Маковский. Портреты современников.
Нью-Йорк. 1955. С. 274–275;
Н. Харджиев. Комментарии //
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М.: Художественная литература. 1940. С. 419.
 20
20 Хлебников, СП. Т. 5. С. 268.
 21 Н. Харджиев
21 Н. Харджиев. Комментарии //
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М.: Художественная литература. 1940. С. 419.
 22
22 В русском футуризме было четыре направления: эгофутуристы, «Мезонин поэзии», «Центрифуга» и кубофутуристы. Эгофутуристы сосредоточились на самовосхвалении, «Мезонин» и «Центрифуга» „хотели ввести как можно больше связанных с жизнью современного города тем” (
Vladimir Markov. On Modem Russian Poetry // Modern Russian Poetry / eds. Vladimir Markov and Merril Sparks.
London. 1966). См. также:
Корней Чуковский. Футуристы.
Петроград. 1922. С. 5–26;
электронная версия статьи К. Чуковского на www.ka2.ru
Н. Харджиев. Комментарии: забытые статьи Маяковского // Литературное наследство, 11.
М. 1936. С. 156.
 23
23 Хлебников, СП. Т. 2. С. 9.
 24
24 См.:
Alexander Kaun. Soviet Poets and Poetry.
Berkeley. 1943. P. 24.
 25
25 Хлебников, СП. Т. 5. С. 232.
 26 Роман Якобсон
26 Роман Якобсон. Новейшая русская поэзия.
Прага. 1921. С. 47.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru 27
27 Там же. С. 44.
 28
28 Хлебников, СП. Т. 5. С. 233.
 29 В. Тимофеева
29 В. Тимофеева. Язык поэта и время // Поэтический язык Маяковского.
М.–Л. 1962. С. 53.
 30 В. Гофман
30 В. Гофман. Языковое новаторство Хлебникова // его же: Язык литературы.
М. 1936. С. 228.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru 31 Вы помните, какую иногда свободу от данного мира даёт опечатка
31 Вы помните, какую иногда свободу от данного мира даёт опечатка (Хлебников, СП. Т. 5. С. 233).
 32 В. Гофман
32 В. Гофман. Языковое новаторство Хлебникова // его же: Язык литературы.
М. 1936. С. 228.
 33
33 Хлебников, СП. Т. 5. С. 175.
 34
34 Давид Бурлюк вспоминал: „Работал Хлебников медлительно, не торопясь, по ночам. Вставал поздно, к часу дня” (
Н. Харджиев. Комментарии //
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М.: Художественная литература. 1940. С. 480).
 35
35 Хлебников, СП. Т. 5. С. 179.
 36 Вел
36 Вел. Хлебников — основатель будетлян // Книга и революция. № 9–10. 1922. С. 24.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru
 37
37 В 1913 г., в статье «О расширении пределов русской словесности» (
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 340–342) Хлебников посетовал на узость территориального охвата в русской литературе, призвав обратить внимание на Польшу, Индию, времена Юстиниана I, Балканы, Урал, Сибирь, войны рубежа XIV и XV веков,
существование евреев и средневековых славян Европы. И это лишь малая часть его исторических интересов.
 38 Vladimir Markov
38 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 156.
 39
39 Хлебников, СП. Т. 3. С. 324.
 40 Вел
40 Вел. Хлебников — основатель будетлян // Книга и революция. № 9–10. 1922. С. 22.
 41
41 См. расширенный комментарий Степанова об исторических источниках, использованных здесь Хлебниковым (Хлебников, СП. Т. 2. С. 311–316.
 42 Н. Степанов
42 Н. Степанов. Творчество Велимира Хлебникова // Хлебников, СП. Т. 1. С. 41.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru
 43
43 Хлебников, СП. Т. 1. С. 94.
 44
44 Хлебников, СП. Т. 2. С. 98.
 45
45 „Последняя цель искусства — пересоздание жизни” (
Андрей Белый. Символизм.
М.: Мусагет. 1910. С. 10).
 46
46 Хлебников, СП. Т. 5. С. 236.
 47
47 Хлебников, СП. Т. 5. С. 216.
 48
48 Хлебников, СП. Т. 5. С. 266.
 49
49 Хлебников, СП. Т. 1. С. 186, 198.
 50
50 Цит. по:
А. Метченко. Ранний Маяковский // В. Маяковский / ред. А. Дымшиц.
Ленинград. 1940. С. 16. Современник вспоминает: „Работал он непрестанно. И, добравшись до моей комнаты, он вскоре оказался за столом. Бумаги вытрясены из мешка. Он сидел, сгорбившись, за столом. Замирал, втянув голову в плечи, вдвинув руки между колен. Вдруг надувались его щёки, словно разминал он набившийся в рот воздух. И затем, выбрасывал он воздух со звуком откупориваемой бутылки. Неожиданно словно падал вперёд, перемещая затёкшие ноги. И вскакивал резко со стула, останавливался у стенки, разглядывал пол. Внезапная мысль сталкивала его ночью с кровати, и одним прыжком он бросался к столу” (
Сергей Спасский. Маяковский и его спутники.
Ленинград. 1940. С. 68).
 51 Роман Якобсон
51 Роман Якобсон. Новейшая русская поэзия.
Прага. 1921. С. 52.
 52 Н. Степанов
52 Н. Степанов. Творчество Велимира Хлебникова // Хлебников, СП. Т. 1. С. 48–50.
 53 Vladimir Markov
53 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 61.
 54 В. Тренин, Н. Харджиев
54 В. Тренин, Н. Харджиев. Поэтика раннего Маяковского // Литературный критик. № 4. 1935. С. 175. Связь Белого с русским футуризмом отмечена множеством исследователей. „Белый не только повлиял на футуристов, но помог футуризму перейти на более высокий уровень” (
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 12); Белый — „последний символист, в некотором роде предтеча футуризма” относительно „идеи освободить поэтическое слово” (
Zbigniew Folejewski. Futurism East and West // Yearbook of Comparative and General Literature, XIV. 1965. P. 62); „по меже которого [футуризма], не помышляя перешагнуть через неё, бродил Белый со своими симфониями” (
Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.
Л. 1933. С. 48); „никто из символистов не превзошёл Андрея Белого в содействовии внедрению формализма в искусство, поэзию, эстетику” (
В. Асмус. Философия и эстетика русского символизма // Литературное наследство, XXVII–XXVIII.
М. 1937. С. 38). Для Белого поэтическое слово было “живой водой” для воскрешения поэзии; “смерть слова” он полагал причиной упадка символизма и видел в создании неологизмов и новых звуковых комбинаций надёжный способ и раскрытия внутреннего мира поэта, и воссоздания внешней реальности: „Слово создаёт новый, третий мир — мир звуковых символов, посредством которого освещаются тайны вне меня положенного мира, как и тайны мира, внутри меня заключённые” (
Андрей Белый. Символизм. 1910 С. 430). Белый также отмечал, что создание неологизмов, „бесцельная игра со словами”, независимо от их значения, есть выражение борьбы человека против „давления неясности” и „враждебной среды” (Там же. С. 437).
 55 В. Гофман
55 В. Гофман. Язык символистов // Литературное наследство, XXVII–XXVIII.
М. 1937. С. 96–97.
 56
56 Хлебников, СП. Т. 1. С. 76–82.
 57
57 „Кубизм — искусство, полностью отдающееся взаимодействию между структурой и перемещением в пространстве, а также соответствию поверхности изображения изменчивой реальности, которую она подменяет. Это искусство динамического освобождения от всех статических категорий” (
John Berger. The Success and Failure of Picasso.
London. 1965. P. 59).
 58 Victor Erlich
58 Victor Erlich. Russian Formalism: History — Doctrine. 2nd, rev. ed. The Hague. 1965. P. 176.
 59 Роман Якобсон
59 Роман Якобсон. Новейшая русская поэзия.
Прага. 1921. С. 34.
 60
60 В русском фольклоре — костлявый, тощий старик, богатый и злой, который знает секрет вечной жизни (
А. Смирницкий. Русско-английский словарь.
М. 1958. С. 730.
 61 Vladimir Markov
61 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 107.
 62
62 См.:
Н. Харджиев. Комментарии: забытые статьи Маяковского // Литературное наследство, 11.
М. 1936. С. 157.
 63
63 „Если нарушения метра преоблагают, они сами становятся метрическими правилами” (
Roman Jakobson. Closing Statement: Linguistics and Poetics // Style in Language / ed. T.A. Sebeok.
Cambridge. 1964. P. 364.
 64 Vladimir Markov
64 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 38.
 65
65 Продолжение дискуссии см.:
Д. Тальников. Литературные заметки // Красная новь, № 11. 1928. С. 222;
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 135–136.
 66
66 См.:
Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 27–29.
 67 Н. Харджиев, Т. Гриц
67 Н. Харджиев, Т. Гриц. От редакции //
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 11.
 68
68 См., например:
Renato Poggioli. The Poets of Russia 1890–1930.
Cambridge. 1960. P. 256;
Johannes Holthusen. Russische Gegenswartsliteratur 1890–1940. I.
Bern. 1963. P. 95.
 69 Бенедикт Лившиц
69 Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.
Л. 1933. С. 129.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru 70 Виктор Шкловский
70 Виктор Шкловский. О Маяковском.
М. 1940. С. 69–70.
 71 Vladimir Markov
71 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 11.
 72 Н. Харджиев
72 Н. Харджиев. Маяковский и живопись // Маяковский: материалы и исследования / ред. В. Перцов и Н. Серебрянский.
М. 1940. С. 392.
 73
73 См.:
Велимир Хлебников и Алексей Кручёных. Слово как таковое.
М.: ЕУЫ. 1913. С. 12.
 74 Велимир Хлебников
74 Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 367.
 75
75 Хлебников, СП. Т. 5. С. 257. Давид Бурлюк вспоминает: когда Хлебников узнал, что он (Бурлюк), опубликовал рукописи, „он пришёл в ярость” и объявил во всеуслышание: „Вы погубили меня. Я никогда не хотелся никому показать свои опыты!”. Цит. по:
Н. Степанов. От редактора //
Велимир Хлебников. Избранные стихотворения.
М. 1936. С. 475.
 76
76 См.:
В. Тренин, Н. Харджиев. Ретушированный Хлебников // Литературный критик. № 6. 1934. С. 145–147.
 77
77 О щедрости Бурлюка в отношении Хлебникова см.:
Давид и Маруся Бурлюк. Маяковский // Color and Rhyme, No. 31. New York. 1956. P. 27.
 78 Vladimir Markov
78 Vladimir Markov. The Longer Poems of Velimir Xlebnikov.
Berkeley. 1962. P. 11.
 79 Ц. Вольпе
79 Ц. Вольпе. Стихотворения Велимира Хлебникова // Литературное обозрение, № 17. 1940. С. 35.
 80
80 И Маяковский, и Бурлюк понимали футуризм именно так. См.:
В. Катанян. Маяковский: литературная хроника. 4-е издание.
М. 1961. с. 56;
Василий Каменский. Жизнь с Маяковским.
М. 1940. С. 19.
 81 Юрий Тынянов
81 Юрий Тынянов. О Хлебникове // Хлебников, СП. Т. 1. С. 19.
электронная версия указанного произведения на www.ka2.ru
 82
82 Хлебников, СП. Т. 5. С. 174.
 83 Василий Каменский
83 Василий Каменский. Жизнь с Маяковским.
М. 1940. С. 60.
 84 Сергей Спасский
84 Сергей Спасский. Маяковский и его спутники.
Ленинград. 1940. С. 68.
 85 Давид Бурлюк
85 Давид Бурлюк. Три главы из книги «Маяковский и его спутники» // Красная стрела. Нью-Йорк. 1932. С. 11.
 86
86 Очевидец (
Бенедикт Лившиц. Полутораглазый стрелец.
Л. 1933. С. 179) свидетельствует: „на большом вечере футуристов в Троицком театре, на эстраде фигурировал даже Хлебников, встававший со стула и раскланивавшийся с публикой всякий раз, когда Бурлюк упоминал его имя.” См. также:
Велимир Хлебников. Неизданные произведения.
М.: Художественная литература. 1940. С. 353. Возможно, ему льстила обретённая в союзе с футуристами слава; останься он в среде символистов, знаки уважения подобного рода были бы немыслимы.
 87
87 Хлебников, СП. Т. 5. С. 108.
 88
88 См.: «Гибель Атлантиды» // Хлебников, СП. Т. 1. С. 95;
В. Тренин, Н. Харджиев. Ретушированный Хлебников // Литературный критик. № 6. 1934. С. 145.
 89
89 Кажется, в этом отношении Хлебников имел много в общем с Андреем Белым. См.:
Т. Хмельницкая. Поэзия Андрея Белого //
Андрей Белый. Стихотворения и поэмы.
М.–Л. 1966. С. 9.
Первоисточник:
Barooshian, Vahan D. Velimir Xlebnikov // Russian Cubo-Futurism 1910–1930.
Volume 80 (A Study in Avant-Gardism). 1975. P. 19–37.
Brought by University of Illinois, Chicago.
Перевод В. Молотилова
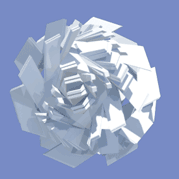
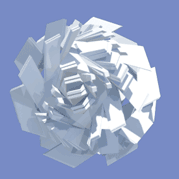
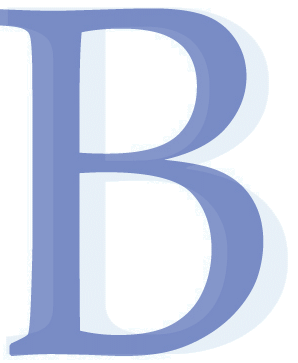 елимир Хлебников родился в 1885 году в селе Тундутово Астраханской губернии. Его мать по образованию историк, отец — профессиональный орнитолог. Хлебников научился читать в раннем детстве, и уже тогда проявлял склонность к языкам и рисованию. Позже он писал, что в годы студ‹енчества› думал о возрождении языка.1
елимир Хлебников родился в 1885 году в селе Тундутово Астраханской губернии. Его мать по образованию историк, отец — профессиональный орнитолог. Хлебников научился читать в раннем детстве, и уже тогда проявлял склонность к языкам и рисованию. Позже он писал, что в годы студ‹енчества› думал о возрождении языка.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()