

Отсутствие фактического материала, дат, документов и воспоминаний часто не позволяет осветить даже внешнюю сторону его биографии.
Глубина и сложность его внутренней жизни на долгое время останутся скрытыми от нас, так как все воспоминания современников запечатлели лишь внешние, часто анекдотические, черты его личности. Опубликование многих подробностей и фактов, кроме того, может быть преждевременным, пока они тщательно не проверены и многое ещё слишком болезненно. Поэтому здесь даны лишь самые общие и объективные сведения, биографическая канва, далеко не полная и не всегда, может быть, точная.
Биография Велимира Хлебникова — дело будущего.
Велимир (Виктор) Владимирович Хлебников родился 28 октября ст. ст. 1885 г. в селе Тундутове в Астраханской губ., в Мало-Дербетовском улусе, где его отец был попечителем округа. Детство Виктора Владимировича прошло в самых благоприятных условиях, во многом способствовавших развитию его творческих дарований.
Отец В.В. — Владимир Алексеевич Хлебников — педагог и учёный-орнитолог. Владимир Алексеевич привил В.В. любовь к естественным наукам и дал ему серьёзные познания в этой области. Мать В.В. — Екатерина Николаевна (урожд. Вербицкая) — близка была кругу революционеров 70 гг. Историк по образованию, она постоянно беседовала и занималась с В.В. по истории и литературе. Прекрасно зная музыку и благодаря обширным сведениям в искусстве, Е.Н. рано ввела его в круг современных ей художественных понятий.
Всех детей было пятеро, и родители постоянно заботились об их воспитании и образовании: приглашались на дом лучшие преподаватели (среди них были: художник П.П. Беньков, литератор Волжский, Н.П. Брюханов — ныне наркомфин, З.П. Соловьев — ныне замнаркомздрава).
Почти все детство В.В. прошло среди природы: из Калмыцкой степи переехали в Волынскую губ., оттуда в село Панаево Симбирской губ. Читать В.В. выучился с 4 лет и читал всегда очень много как русских, так и французских книг. Из Панаева в 1897 г. его отправили в г. Симбирск в гимназию, куда он поступил в третий класс. Учился в гимназии он очень хорошо, в особенности по русскому и математике, но, живя на частной квартире, вдалеке от родных, сильно тяготился их отсутствием. Из Симбирской губ. Хлебниковы в 1898 г. переехали в Казань, и В.В. поступил там в 4 класс 3 гимназии.
В Казани В.В. стал сначала увлекаться рисованием, но потом к нему охладел, всё больше и больше занимался литературой и начал писать сам.
Уже тогда его тяготила обывательская обстановка: он вынес из комнаты всю мебель, оставив кровать и стол, а на окна повесил рогожи. В такой обстановке он обычно жил повсюду и в дальнейшем. Приблизительно в это время, будучи ещё гимназистом, он послал М. Горькому один из первых рассказов.
По окончании гимназии Хлебников поступает в 1903 году на математическое отделение Казанского университета, а в 1904 г. переходит на естественное отделение физико-математического факультета, где слушает лекции до конца 1907–1908 учебного года.
При поступлении в университет он был очень жизнерадостен, аккуратно посещал лекции и увлекался естественными науками, в особенности зоологией. Результатом занятий его в Казанском университете естественными науками явились научные статьи — вероятно первое, что было напечатано Хлебниковым: «Опыт построения одного естественно-научного понятия» (о симбиозе и метабиозе) — в «Вестнике Студенческой Жизни» и «О нахождении кукушки в Казанской губ.» — в «Прилож. к протокол, засед. Общ. Ест. Наук», № 240, но это нуждаетея в проверке. Должно быть около 1906 г. Хлебников получает научную командировку на Урал, откуда привозит большие коллекции.
8 ноября 1906 г., в день празднования годовщины университета, В.В. принимал участие в обще студенческой демонстрации, за что был арестован и на месяц посажен в тюрьму. Заключение в тюрьме тяжело подействовало на В.В.: рвение к лекциям пропало, и он перестал ходить в университет. Приблизительно в то же время он примыкает к кружку революционеров, где замышляется какой-то не осуществившийся террористический акт — В.В. надлежало сыграть роль караульного солдата. Здоровье В.В. настолько расстроилось, что весной 1908 г. он отправляется с родными в Крым для поправки, где всё свое время проводит в купаньи и прогулках. Осенью 1908 г. В.В. уезжает в Петербург, и с этих пор начинаются его беспрестанные скитания и переезды. В Петербурге он поступает в университет на 3-й курс естественного отделения физико-математического факультета и поселяется вначале в Лесном, а затем на Васильевском острове.
В университете В.В. почти не занимается.
С осени 1909 г. он подает заявление о переводе его на факультет восточных языков по разряду санскритской словесности, а вслед за этим переходит на 1-й курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета.
К 1908 г. относятся его первые литературные знакомства как с группой поэтов, объединявшейся вокруг «Аполлона», так и с будущими футуристами. Вначале он сближается с кругом поэтов и теоретиков «Академии стиха» и даже становится одно время членом её (о чём пишет несколько раз родным). В письме от 23 октября 1909 г. он сообщает: Буду участвовать в академии поэтов: Иванов, Кузмин, Брюсов, Маяковский — её руководители. В то же время он несколько раз упоминает, что стихи его должны быть напечатаны в очередных №№ «Аполлона», приводит отзыв о себе В. Иванова: кто-то [Иванов] сказал, что у меня есть гениальные строки и называет своим учителем М. Кузмина.
В «Аполлоне» стихов не напечатали, что крайне охладило и разочаровало В.В. и послужило одной из главных причин его разрыва с «Академией поэтов»; к этому же времени относится его знакомство с В. Каменским и Бурлюками. В 1908 г. В.В. приносит свои рукописи в редакцию журнала «Весна» (издававшегося Н. Шебуевым), где секретарём редакции был В. Каменский. Там происходит знакомство В.В. с Каменским. Стихи в «Весне» напечатать не удалось; там помещён был в 1908 г. первый рассказ В.В. «Испытание грешника».
Вскоре после знакомства с В. Каменским В.В. встречается с группой художников-новаторов: Бурлюками, Е. Гуро, М. Матюшиным. С этого времени начинаются постоянные встречи с ними и собрания кружка поэтов и художников на квартире у Е.Г. Гуро, на которых обсуждаются вопросы нового искусства. В 1909 г. собирается и издаётся первый сборник кружка — «Садок Судей» (название было предложено В.В.). В.В. становится идейным и творческим центром этого кружка, хотя благодаря своей скромности и уединенности во всех внешних проявлениях и выступлениях держится в стороне, а роль организатора берёт на себя Д. Бурлюк. Кружок назван был будетлянским содружеством, а будущие “футуристы” — будетлянами. В 1-м «Садке Судей» и почти одновременно в «Студии импрессионистов» (Н.И. Кульбина) В.В. печатает свои произведения (многие из них написаны были раньше) — «Зверинец», «Маркиза Дезес», «Журавль», «Усмейные смехачи». После выхода 1-го «Садка Судей» начинаются публичные выступления и споры, в которых В.В. почти не участвовал. В то же время он начинает заниматься своими вычислениями времени, бросает занятия в университете (исключается оттуда в 1911 г. за невзнос платы), хотя по-прежнему интересуется естественными науками.
Так, ещё в 1910 г. он пишет родным о своем желании высказаться о происхождении видов. Но уже с этого времени он окончательно и всецело отдается литературе.
Время с 1910 по 1915 г. — жизни В.В. в Петербурге, Москве, Харькове, Астрахани, в Маячках (имение Бурлюков в Херсонской губ.), Алфёрове (где у него похищен деревенскими подростками большой мешок с рукописями на цыгарки), Красной поляне (Харьковской губ.) — наименее освещено в имеющихся материалах.
В.В. был занят мыслями об искусстве и в особенности вычислениями законов времени. Он мало обращал внимания на свои материальные нужды и бытовые мелочи. Молчаливость и замкнутость заставляли иногда забывать о его присутствии. Рассеянность и практическая неприспособленность Хлебникова часто вовлекали его в затруднительные положения и давали повод к шутливым рассказам о нём. Работая целыми днями над изысканием чисел в Публичной библиотеке, В.В. забывал пить и есть и иногда возвращался измученным от усталости и голода, но столь сосредоточенным, что его с трудом можно было оторвать от вычислений и усадить за стол. Очень много работая, он заполнял целые корзины рукописями, которые, путешествуя, оставлял в разных местах. Беспомощный в повседневной жизни, В.В. сразу вырастал, когда обсуждались вопросы искусства или философии. В.В. Хлебников стоял в центре нового движения, но никогда себя не выдвигал. В конце 1912 г. выходят: «Пощечина» и 2-й «Садок Судей», где напечатаны такие вещи, как «Гибель Атлантиды», «Шаман и Венера», «И и Э». За эти годы В.В. постоянно ездит из Петербурга в Москву, Астрахань, Алфёрово. Окружают его, главным образом, Д. и Н. Бурлюки, Кручёных, Каменский, Маяковский, Е. Гуро, М. Матюшин — круг деятелей нового искусства.
В 1916 г. В.В. живёт в Москве и задумывает организацию Государства Времени, куда, подобно платоновскому государству учёных, должны входить лучшие люди эпохи — революционеры, поэты, учёные — председатели земного шара, — числом 317 человек. Тогда же печатаются его стихи в сборнике «4 птицы» и рассказ «Ка» в «Московских Мастерах».
В том же году он поселяется вместе с Дм. Петровским в маленькой комнате на Николо-Песковской (этот период довольно подробно описан Петровским в его воспоминаниях). Весною 1916 года Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в Царицын в 93-й запасный полк. Военная служба очень тяжело ощущалась В.В., как насилие над его личной свободой и жизненным ритмом. Он из Царицына дважды пишет Н.И. Кульбину (бывшему врачом), прося освободить его из ужасающей обстановки лазарета “чесоточной команды”:
Через несколько месяцев Хлебникову удаётся освободиться от военной службы, и он возвращастся в Астрахань, откуда незадолго до Февральской революции он переезжает в Харьков, где им в 1917 г. были изданы «Труба Марсиан» и «Временник 2-й» с манифестом-поэмой о Государстве Времени.
После Февральской революции, в начале 1917 г., В.В. приезжает в Петербург, а в дни Октябрьского переворота отправляется в Москву. В Петербурге и Москве В.В. проявлял ко всему совершавшемуся огромный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в самых опасных местах, среди уличных боев и выстрелов (Октябрь описан им самим в статье «Октябрь на Неве»). Он продолжает в то же время организовывать Государство Времени, вербуя в него самых разнообразных людей. В Москве В.В. приглашается Филипповым для редактирования проектировавшегося журнала по литературе и искусству. К своим обязанностям редактора В.В. относился очень строго и ревнительно. В это время он живёт в Москве у Филиппова и собирается писать роман.
В силу технических препятствий журнал не осуществится, а скитальческий дух вёл В.В. к дальнейшим странствованиям. В том же 1917 году он направляется на Украину, где проводит 1918, 1919 и начало 1920 года, живя главным образом в Харькове и иногда в Ростове. В эти годы живётся ему очень тяжело, он часто голодает и болеет, но продолжает много работать. В этот период в Харькове им созданы такие грандиозные вещи, как «Ночь в окопе», «Поэт», «Ладомир» и мн. др., и написана большая статья «Наша основа», излагающая основы его поэтических и философских взглядов. Жил он в это время в крохотной, холодной комнатке, часто не имея самого необходимого, даже без света. Ходил он заросший, одетый в отрепья, без шапки, часто лежал по больницам, перенёс два тифа, две тюрьмы (и белые и красные принимали его за шпиона, т.к. он не имел документов). В это время он чаще всего встречается с Г.Н. Петниковым и Дм. Петровским. Вот письмо 1919 года (вернее, записка на коробке от гильз) к Г.Н. Петникову, посланное им из больницы:
В октябре 1920 года В.В. перебирается в Баку, где попадает в круг бакинских футуристов, часто встречается с Вячеславом Ивановым, с которым ведёт постоянные споры. В Баку он поступил на службу в отделение Росты и составлял подписи под плакатами и стихи для газеты. В июне 1921 года В.В. отправляется с Красной армией в Персию в качестве прикомандированного к штабу. Он проделывает с Красной армией весь поход на Тегеран, находясь в постоянном общении с Р.П. Абихом и с художником М.В. Доброковским.
Пробыв в Персии с июня по август (подробнее см. примечания Р.П. Абиха к «Трубе Гуль-муллы»), он возвращается в августе 1921 г. в Баку, откуда переезжает в Пятигорск, где устраивается на службу ночным сторожем при Кавросте. За время пребывания в Персии В.В. много работал над строением времени (в результате статья «О строении времени»), писал стихи (первоначальные наброски к «Трубе Гуль-муллы») и знакомился с Персией. В Пятигорске он сотрудничал в газете и находился в сравнительно сносных условиях, даже начал лечиться. Осенью 1921 г., не кончив лечения, несмотря на голод, он отправляется в Москву, стремясь напечатать свои произведения.
К рукописям В.В. относился очень заботливо, постоянно возил их с собой (это был его единственный багаж), иногда лишь давая их на хранение; в особенности он заботился об участи своих вычислений.
В Москве В.В. предпринимает ряд попыток для издания своих произведений, но все они кончаются неудачей. В.В. особенно тяжело переживал крушение своих издательских планов. Разойдясь с прежними соратниками и последователями, он поселяется у художника П.В. Митурича, с которым сближается в этот год своей жизни. Последние месяцы проходят в непрерывной работе над «Досками судьбы», стихами и прозой, и в грандиозных планах о будущем человечества.
С помощью П.В. Митурича он приготовляет к печати «Зангези», который вышел через несколько дней после его смерти.
Голодное существование и расстроенное здоровье заставляют его думать о поездке на юг, на Волгу. Весной 1922 года П.В. Митуричу удаётся устроить поездку в дер. Санталово Новгородской губ., куда В.В. решает отправиться с ним на две недели от голодной московской жизни, так как по истечении этого времени представлялась возможность получить бесплатный проезд в Астрахань.
Вскоре по приезде в Санталово В.В. тяжело заболел и, проболев месяц, в ужасных страданиях умер 28 июня 1922 г. Похоронен он был там же, в деревне Ручьях, в левом углу погоста.
Материалом для настоящей биографической справки послужили: воспоминания Д. Петровского («Повесть о Хлебникове»),Т. Вечорка («Хлебников в Баку»), Дм. Козлова («Хлебников иа Кавказе» — «Красная Новь», № 8, 1927) и не напечатанные воспоминания н устные рассказы: матери В.В. — Е.Н. Хлебниковой, сестры его — В.В. Хлебниковой, П.В. Митурича, Р.П. Абиха, В.В. Каменского, М.В. Матюшина, Г.Н. Петникова и М.А. Кузмина, а также некоторые письма В.В. к родным, к Н.И. Кульбину, М.В. Матюшину и Г.Н. Петникову.
Но ведь страшно и непонятно,
как одни человек может поднять такую тяжесть.
В. Хлебников
До сих пор Хлебников был “поэтом для поэтов”, которые единогласно признали его гениальным и определившим своим творчеством на долгое время развитие русской поэзии.2![]()
![]()
Литературный переворот, произведённый Хлебниковым, и огромная творческая работа его прошли незамеченными для широкого круга читателей. Творчество его рассматривалось как лаборатория современной поэзии, но не как сама поэзия. Хлебников до сих пор был заслонён лесами футуризма, а признанные, более доступные, поэты занимали и занимают центральное место в глазах читателя и критики. Шумиха и внешний эффект слома, произведённого футуристами в 1909–13 годах, самая обстановка литературного скандала отпугнули читателя от Хлебникова, исказили его поэтический облик в призме раннего футуризма.
С другой стороны, соратники и сотоварищи Хлебникова — футуристы — пропагандировали те стороны его творчества, которые были им исторически нужны, используя Хлебникова сообразно своему пониманию. Примером такого “обуженного” и поверхностного понимания может служить хотя бы В. Маяковский:
Наличие огромного количества „законченных” и цельных поэм такой значимости, как «Ладомир», «Ночь в окопе», «Зангези», «Ночной обыск» и мн. др., лишает утверждение Маяковского элементарной правдивости.
Фрагменты, как увидим, — действительно излюбленная форма поэтических заготовок Хлебникова (напр. «Война в мышеловке», смонтированная из отдельных фрагментов). Но, не говоря уже о том, что самая “фрагментарность” может быть поэтическим методом (как и было у Хлебникова), даже в первый период его творчества им создано столько “классических” монументальных вещей («Шаман и Венера», «Хаджи-Тархан», «Гибель Атлантиды» и др.), что говорить о конструкции Хлебникова как о деле его друзей не приходится. Подлинные рукописи убеждают, что “дружеская клейка” как раз и создала легенду о незаконченности и хаотичности всего Хлебникова.4![]()
Рукописи как раннего, так и позднейших периодов свидетельствуют о тщательной и многократной шлифовке Хлебниковым своих произведений, а отнюдь не о безразличном или небрежном к ним отношении.
Для Маяковского и футуристов Хлебников важен своей разрушительной ролью, важен как дезорганизатор традиций — поэтому основные, законченные вещи Хлебникова прошли мимо самого футуризма. Не приходится говорить о рядовом читателе, для которого Хлебников неразрывно ассоциировался с чудачествами и нелепостями и воспринимался с комической точки зрения.5![]()
Совершенно правильно определил соотношение раннего футуризма и Хлебникова В. Каменский в своём предисловии к «Творениям» Хлебникова в 1914 г.:
Ранний футуризм использовал эти „прибойные волны” его творчества, идя в то же время своими собственными путями, во многом совершенно отличными от путей Хлебникова.
Футуризм и Хлебников — понятия, не покрывающие друг друга. Футуризм вырос в литературное направление значительно позже начала работы Хлебникова (первые — опубликованные, правда, позднее — вещи Хлебникова относятся к 1905–6 гг.6![]()
Футуристы определили свои теоретические позиции и сгруппировались как направление, противопоставляющее себя символистам, лишь к 1912–13 году.7![]()
![]()
![]()
“Угловатость” поэзии Хлебникова, её “сдвиги” соответствовали выдвинутой литературной программе, и футуристы расселились во владениях, завоёвываемых Хлебниковым. С 1915 года начинается самостоятельная “колонизация”, период “борьбы” кончается,10![]()
Вся современная культура стиха в значительной мере идёт от Хлебникова — и без него не была бы возможна:
Восприятие основных вещей Хлебникова подготовлено его последователями. Многое из его дерзаний и достижений вросло в стихи Маяковского, Асеева, Пастернака. Вместе с тем наше время, когда эпоха футуризма уже завершена, может новым зрением увидеть Хлебникова и понять грандиозность совершённого им поэтического дела.
Хлебников сейчас не принадлежит футуризму, его творчество не соизмеримо со школой, оно вырастает за пределы своего времени.
Иди ты в мир, да слышит он поэта.
Языков
Для понимания Хлебникова важно выяснить не тематическую соотнесённость с биографией, а его поэтический метод.
Метод поэта — это способ “видеть вещи”, это сложная постройка смыслов, в которой проявляется творческая индивидуальность. Метод поэтического восприятия мира равен системе творческого отношения к вещам — “идеологии поэта” в плане поэтики. Это уже не тематика, не конструирование литературной “авторской личности”, а стоящее за этой тематикой и конкретностью смыслов авторское отношение к теме и вещам и к материалу творчества.
Различие методов поэтической работы связано с различием в осознании поэтом своей роли, своего “удела”.
Недаром ещё Гоголь писал о различных „уделах” поэтов:
Хлебников был поэт с этим „лирическим талантом”. Поэт-проповедник, поэт, чей “поэтический метод” неразрывен с “идеологическим смыслом” его вещей. Эта “идеологичность” творчества связана со смысловой насыщенностью и тематической сложностью.
По своему пониманию “дела поэта” Хлебников был несомненно близок поэтам эпохи символизма и в этом отношении далёк от многих теоретических принципов футуристов.
Футуристы объявили войну этой эстетике символизма. “Идеологичности” поэзии они противопоставили “работу над словом”, “технику” писателя: „До нас не было словесного искусства, были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию, психологию” (А. Кручёных, сборник «Трое»). Вместо этого выставляется тезис: „Новая словесная форма создаёт новое содержание” (1-й пункт декларации А. Кручёных «Слово как таковое»). Правда, форма понималась футуристами несколько элементарно, как “техника” искусства.
Отсюда взгляд на поэта как на мастера слова,11![]()
Хлебникова объединяла с футуристами общность в отношении к искусству как к словесному мастерству, “ремеслу”.
Но если для большинства футуристов вначале “мастерство” понималось как “техницизм”, как “обнажённость приёмов”, то для Хлебникова оно было неразрывно с философией и наукой. Он — не мастер-конструктор, не техник, а “инженер-изобретатель”, в работе которого неразрывно связаны конкретные приёмы и методы с общим планом мыслителя.
“Недооценка” Хлебникова связана с непониманием идейной насыщенности его поэм и самостоятельности литературных позиций. Непонятен без этого пафос его первых “деклараций” («Воззвание к славянам», «Ряв о железных дорогах») и статей («Ученик и учитель» и др.12![]()
Вместе с тем, при общем сходстве в понимании поэтической миссии с поэтами символизма (В. Ивановым и А. Белым), Хлебников существенно от них отличался. Родственна была “поэтическая поза”, установка на идеологическую поэзию, признание неразрывности поэзии с философией.
Принципиальное отличие было в самом “наполнении” этой “поэтической позы”. Мистическому и религиозному “наполнению”, поэту-“теургу” Хлебников противопоставил поэта-учёного (со знаменем Лобачевского).
Создавая свою собственную “космогонию”, Хлебников обращался не к религиозной или мистической философии, как это делали символисты, а к математике и истории. И если его вычисления законов времени в значительной мере могут казаться пифагорейским уважением к числу, то для самого Хлебникова они были математически объективны, вне какой бы то ни было мистики. Наукообразность философических теорий Хлебникова не только создаёт особый план восприятия его “смыслов”, но и обусловливает самое построение его вещей. Его исторические и философские гипотезы являются не только темами поэм, но и их смысловым костяком, сквозящим за всеми образами и темами. Хлебников вводит в поэмы наукообразный материал: математические исчисления, лингвистические наблюдения и рассуждения, исторические факты и даты. Для уяснения смысла произведений Хлебникова необходимо в общих чертах иметь представление о его теоретических гипотезах. Хлебников был утопист и фантаст. Его “социальные утопии” о городах будущего, о радио (по большей части не напечатанные) “научны” в той же мере, как утопии Томаса Мора или Кампанеллы.
Его философские и исторические теории вырастают в своеобразную “космогонию”, определяющую его поэтический метод. Здесь не место научному анализу теорий Хлебникова — они важны в поэтическом плане.
Его поэтическая космогония — это особый поэтический мир, смысл которого раскрывается постепенно во всех произведениях, непонятных без уяснения основ его “мифотворчества”, его “языческого мироощущения”, благодаря которому вещи и темы его живут исключительной свежестью и наивностью. Он, как мудрый ребёнок, “открывает” мир, по-новому видя и называя вещи.
Воскрешаются первобытные дикари; мир заселяется русалками и вилами; вещи оживают. Языческая мифология, славянство, социальные утопии и философия истории не только заново показали материал поэзии, замкнувшийся у символистов вокруг излюбленных лирических тем, но и дали возможность использовать методы народного эпоса и создать новое соотношение вещей.
Языческий пантеизм его “бурлескных” поэм-идиллий («Вила и леший», «Лесная тоска») переходит в “современный миф” о восстании вещей («Журавль»). Недаром критики в своё время удивлялись стремлению “футуриста” Хлебникова „к отказу от культуры, к пещерности ‹...› звериности” (К. Чуковский).
С другой стороны — казалось бы непримиримый с “мифологией” и примитивизмом научный утопизм, когда ‹...› Лобачевского кривые украсят города.
Будущее само становится мифом; конец «Ладомира» — это миф о будущем человечества, где наука примиряется с природой и мировая мудрость и „лад мира” равно проявляются и в том, что человек ‹...› сделал из земли катушку, где только проволока гроз, и в том, что он ‹...› славит милую пастушку / У ручейка и у стрекоз.
Как романтики создавали “новую мифологию”, опирая ее на “натурфилософию” и физику, так и Хлебников создаёт новую мифологию, опирая её на современное наукообразное мышление. В основе многих позм лежит теория Хлебникова о математическом понимании истории (полнее всего изложенная в статье «Наша основа» — «Лирень», 1920 г., Харьков). Из сопоставления чисел и дат различных событий, по убеждению Хлебникова, возможно найти периодичность — повторение мировых волн — в самых разнообразных явлениях. Работа над нахождением этих законов велась Хлебниковым почти всю жизнь до самых последних дней и собрана в его «Досках Судьбы».
Законы исторической периодичности — гамма будетлянина — Хлебниковым определены так:
Таким образом, 317 лет — для колебания струны войн, 365 лет — закон рождений подобных людей и т.д.; благодаря этому: время необыкновенно сближается с природой чисел, т.е. с миром прерывных разорванных величин, а предвиденье будущего даёт возможность управлять событиями. Об этой власти чисел, законе мировых волн, Хлебников говорит в одной из своих первых поэм:
Хлебников настаивает, что его законы времени научны и не являются ни прорицанием, ни мистикой. Точные законы дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчёта.
Отсюда такие вещи Хлебникова, как «Зангези», «Дети выдры», «Синие оковы», в которых теория повтора событий организует их строение и даёт ключ к пониманию. Развитие темы и смыслов идёт путём сопоставления разновременных фактов, объединённых общностью их исторической переклички.
Из этого вырастает основная тема Хлебникова — тема исторического возмездия. Эта тема проходит лейтмотивом через многие поэмы. Возмездие постигает жреца, убившего рабыню в «Атлантиде»; возмездие Разина — народного восстания, задавленного царизмом — воскресает в русской революции:
В результате своего развития человечество достигнет той высоты и вместе с тем простоты культуры, которая предвидится им в его утопии «Ладомир»:
Повторяемость событий и математическое понимание истории говорят, по мнению Хлебникова, о мировом разуме, некоей объективной и “наукопостигаемой” закономерности:
Поэмы Хлебникова о войне и революции («Настоящее», «Ночь в окопе», «Ладомир», «Война в мышеловке»), может быть, самые значительные и впечатляющие вещи в современной поэзии. Своей монументальностью и пафосом революции и мира, глубокой философичностью они должны стать классическими. Недаром Маяковский в столь многом идёт от Хлебникова (ср. вещи Маяковского с «Войной в мышеловке»).
Революция восстания и крови должна, по мысли Хлебникова, смениться революцией культуры, когда:
Название “поэмы”, как и вообще какой-либо “жанровый знак”, для Хлебникова, разрушавшего привычные жанры, очень условно (хотя сам он и пользовался им иногда).
“Поэмой” у Хлебникова приходится называть самые различные вещи: начиная от баллады («Лесная дева» и «Мария Вечора») или “оды” («Войне — смерть») и кончая драматизованной поэмой («Маркиза Дезес»); вместе с тем эта “неопределённость” термина удобна своей необязательностью.
Обычнее всего у Хлебникова “описательная” или “дидактическая” поэма, если пользоваться аналогиями с XVIII веком. Аналогия эта не случайна: близость Хлебникова XVIII веку — не только в обращении к монументальным эпическим жанрам, но и в его “шишковстве”, архаизме синтаксиса, в „сочетании далековатых идей”. Хлебников — архаист не только в силу литературных традиций (хотя, конечно, стиховая культура XVIII века им использована), но и по методу своего творчества, по своей историко-литературной позиции.
Борясь с жанровой инерцией литературных традиций, противопоставляя отчётливости и канонизованности лирических жанров символистов свой эпос, Хлебников не только разрушает и смешивает привычные жанры, но и создаёт комбинированные произведения из стихов и прозы (колоды плоскостей в «Зангези» и в «Детях выдры»).
Этот сдвиг канонических жанров особенно резко ощутим в тех случаях, когда он им неожиданно иронически “снижает” в “бурлеск” вещь “патетического” плана, или когда он пользуется такими традиционными и строгими жанрами, как терцины («Змеи-поезда»), где ритмические и смысловые сдвиги совершенно разрушают привычную каноничность.
Символисты не могли создать эпос и выйти из пределов лирики, традиционных жанров и стилизации. Поэтому таким резким разрывом с ними было обращение Хлебникова к классической поэзии первой половины XIX в. и к XVIII веку. Дидактическая поэма, ода и идиллия — вместо интимных и камерных жанров, резкость конструктивных сдвигов и грандиозных образов — вместо поэзии намеков и “музыкальности”.
Хлебников как бы заново начинает литературу; поэтому он пользуется не методом и “достижениями” того или иного поэта, а тем поэтическим сломом, который создаётся в результате разрушения “классической поэзии”.
С другой стороны, Хлебников, создавая свой эпос, обращается к народному творчеству, к «Слову о полку Игореве», к сказкам, «Гайавате» и мифам. Простота и огромность замыслов, простор эпического дыхания Хлебникова идут от народного эпоса. Не только сказочные и “бурлескные” поэмы его близки ему по методу “поэтического мировосприятия”, но даже его философские поэмы напоминают современный миф.
«Гайавата», «Калевала», русские былины и сказки представляют некую “космогоническую” систему, где вещи соотносятся и восприняты в своей поэтической реальности, неправдоподобной, но убедительной. Поэтому вилы и лешие, превращения, говорящая природа — это создание собственной поэтической системы, со своей особой символикой и реальностью, которая и сближает Хлебникова с народным творчеством, не говоря уже о непосредственном обращении к народному фольклору («Вила и леший», «Уструг Разина», «Дети выдры»).
В отличие от символистов, переносивших на русскую почву культуру западного символизма и вообще иностранной литературы, Хлебников обращается к национальным истокам.
В своём обращении к “славянщизне”, фольклору и древним памятникам он во многом перекликается с теми символистами, которые, как Ремизов, Вяч. Иванов и Бальмонт, также ориентировались на эти источники.13![]()
Хлебников строит свои вещи как на отталкивании от всей классической традиции, так и на “захвате” в свою поэтическую систему “кусков” и отдельных элементов её. Этим достигается своеобразное “использование” каноничного стиха, его ритмических, интонационных ходов и даже семантического строения. Благодаря постоянным ритмическим и смысловым сдвигам получается “сквозная вещь”, постоянное колебание смысла. От патетической декламации Хлебников переходит к иронической разговорности, причём мотивировки переходов отсутствуют.
В этом отношении особенно показательна поэма «Шаман и Венера», где ироническая двупланность темы строится на колебании двух стилистических пластов: “классического”, напоминающего сплав пушкинских поэм, и иронического, разговорного:
Или тут же рядом:
Основным свойством стиха у Хлебникова является свобода, с которой уживаются в его поэмах разнообразнейшие словесные слои и ритмические системы. Благодаря этой свободе построения Хлебников пользуется готовыми формулами классического стиха, как ритмико-синтаксическими, так и семантическими, чаще всего пушкинскими:
Или: И хлад высокого чела («Шаман и Венера»), или почти цитатное использование Лермонтова:
“Классические штампы” для него застыли в удобные формулы (иногда лишь иронически осмысляемые), которые он включает в свои вещи как словарь, а не как следование традиционной поэтической системе. Необычайная “ёмкость” поэтики Хлебникова позволяет ему пользоваться равноправно как “классическими” словарём и интонацией, так и разговорными.
В глазах публики эти “сдвиги” казались результатом “экспериментальных” попыток Хлебникова; на самом же деле это был новый и основной его метод, выводящий вещи из их автоматизма. “Сдвиг” обычно дан в самóм построении вещи. Хлебников постоянно нарушает или выпускает фабульные мотивировки. Иногда сюжетный сдвиг дан в расчёте на комический эффект (напр. перенос действия из Руси времён Владимира в современность, см. «Внучка Малуши»), но чаще всего Хлебников пользуется им вне комического осмысления, а с целью нарушения привычного соотношения и статики вещей. Отсюда “восстание вещей” («Журавль») или превращение на вернисаже людей в статуи, а картин в людей («Маркиза Дезес»).
Это “восстание” или “превращение” вещей исходит из основной метафоры, причем “развёртывание” метафоры вырастает в “сюжет” вещи. Первоначальное сравнение или метафора развёртываются в самостоятельное “сюжетное построение”. При этом раскрывается лишь один метафорический ряд, но таким образом, что он как бы становится “событием”, приобретает поэтическую реальность.14![]()
Поэтическая фигура превращается в “поэтический факт”. Так и в народном эпосе оживляются и превращаются вещи. Это подсказывалось и оправдывалось примитивной космогонией. Философская система Хлебникова, его понимание мира вызывали новое соотношение вещей и смыслов.
Эта система фабульных сдвигов — основной способ раскрытия фабулы. Она неразрывно связана со смысловой системой Хлебникова, в которой абстрактные и философские понятия переключаются в поэтический миф, т.е. в свою самостоятельную систему смыслов.
Благодаря этому мы имеем не колебания неопределенной массы смыслов для раскрытия образа, как у символистов, а реализацию и сюжетное развёртывание одного смысла, все звенья которого конкретны и “вещны”, если нам известен основной смысл “мифа”. В результате получается та прочность смыслов, которой не было в символизме. С другой стороны, поэтому нужно знать “ключ” к основному мифу, который понятен лишь при знании философских теорий Хлебникова.
Большинство поэм Хлебникова “бессюжетно” (т.е. не имеет событийной канвы). Поэтому “фабула” поэм у него движется путём ассоциативного нанизывания отдельных тематических звеньев, логически не мотивированных. Недаром так удачио определил метод фабульного развертывания у Хлебникова Н.С. Гумилёв:
Смысловая затруднённость (“бессвязность”) происходит оттого, что Хлебников пропускает и переставляет ряд смысловых звеньев, отказываясь от мотивировки фабульных скачков.
Образ у Хлебникова вырастает до развитой перифразы, перифрастический ряд которой самостоятелен; поэтому для раскрытия смысла её16![]()
![]()
Или:
Но было бы совершенно ошибочным думать, что Хлебников постоянно пользовался такой сложной и напряжённой системой смыслов. Наоборот, в большинстве случаев он сочетает их с простым и ясным строением стиха, семантической свободой, без которой немыслимо было бы такое длительное “эпическое дыхание” его.
Семантическая свобода Хлебникова неразрывно связана с его ритмическим “простором”. Несмотря на разнообразие ритмических тенденций и постоянные ритмико-синтаксические сдвиги, у Хлебникова можно различить два основных принципа ритмического строения: 1) ориентированного на метрический стих с постоянными сдвигами и 2) стих, ориентированный на интонационно-разговорный ритм. В ряде поэм он пользуется классическимн размерами, ломая и деформируя их переходами от одного метра к другому (чередования хорея и амфибрахия в «Марии Вечоре») или к вольному размеру. Чаще всего Хлебников пользуется четырёхстопным ямбом, сохраняя привычные ритмико-интонационные ходы:
Ритмическая деформация достигается или сдвигом в неметрическую стиховую инерцию, или разрушением первичной инерции разговорной интонацией:
Иной ритмический принцип осуществлён Хлебниковым в поэмах, написанных вольным размером, как он сам назвал его в подзаголовке к одному из ранних стихов («Крымское»).
Вольный размер Хлебникова организуется по совершенно иным принципам, чем, примерно, “акцентный стих” Маяковского. Стих Маяковского основан на насилии ритмического импульса над интонацией.18![]()
“Рубка” Маяковского (его графическое членение, рассчитанное на скопление интонационной силы на коротком отрезке стиха) в своём постоянном осуществлении однообразна.
Маяковский пользуется результатом достижений Хлебникова (см. «Война в мышеловке»), не использовав его принципов. Он “монополизирует” лишь один из ритмических (и рифмических) приёмов Хлебникова и возводит его в свой основной и однообразный принцип. Хлебников же весь в разносторонности устремлений и в усложнённой дифференциации приёмов. Вольный размер Хлебникова основан на использовании речевого ритма и интонации. Ритмический импульс — результат графического членения и чередования ударяемых слов — не противопоставлен интонации, а объединён с нею в некое мелодическое единство.
Проявляется он двояко — на основе отрывистой, повышенной интонации:
В этой вещи использован ритм разговорной речи, но в её особых речевых формах — “приказательной” и диалогической; при краткости фразы и энергии ударения получается ритмическая динамика, вне насилия над речевой интонацией.
Другой принцип ритмического строя основан на меньшей напряженности, на интонационно-речевой “свободе”, где синтаксические и смысловые оттенки и обычная мелодия речи дают сложнейший ритмический результат.
Единство ритмического импульса здесь основано на преобладании определенного интонационного типа и темпа. В большинстве случаев графическое членение здесь соответствует синтаксическому и интонационному выделению слов и фраз:
Поэтому так велико значение интонации. Недаром в декларации, помещенной во 2-м «Садке Судей», писалось: „Нами сокрушены ритмы. Хлебников выдвинул поэтический размер живого разговорного языка”.
Но наряду с разговорной интонацией Хлебников, пользуясь своим основным принципом ритмической свободы, прибегает к интонации одической, ораторской (в вещах “высокого плана”):
Очень часто с интонационно-синтаксическим нагнетанием, свойственным поэтам XVIII века (Ломоносов, Державин):
Несмотря на сбивчивость “деклараций”, требования новой словесной культуры, автономного значения слова — в противовес подчинённости словесного ряда иным элементам художественной структуры (философии, публицистике и т.д.) — можно формулировать словами Кручёных:
Для символизма же в целом важна не только „подчинённость слова мысли”, но и иные методы пользования словом.
Для символиста слово — знак обозначения, идеи, смысла; символист от смысла “темы” идёт к “словесному оформлению”. Слово важно не своими ассоциациями и вновь рождёнными значениями, а своей совокупностью, своей массой, где разные “смыслы” самого слова сглаживаются и изолируются подчинённостью общему “смыслу”.
Отсюда столь характерное для символистов требование ритмической и фонической мелодичности и “музыкальности”,19![]()
Это отношение к слову объясняется требованием “символичности” — так, как его понимали символисты.
Оно основано на признании наиболее важным для стихов угадывания их “символа”, т.е. того смыслового ряда, который ассоциируется со всем “образом”, со всей “фабулой” стихотворения, а не складывается из движения отдельных “словообразов”.
Футуризм обратился к выдвинутому слову.
Футуризм стремился совершенно отбросить предметную функцию слова, так же как и теорию символа-образа. Потенциально стихотворением являлось слово, раскрываемое в его глубину путём или “скрещивания” его второстепенных ассоциаций, или обнажения его “внутренних форм”, а не предметных значений. Благодаря этому получались те “невязки”, разорванность ассоциаций и “смысловой сдвиг”, которые часто встречаются у Хлебникова:
В основе нового понимания роли слова лежали принципы, проводимые Хлебниковым и использованные поэтами, примыкающими к нему (стихи Маяковского, Асеева, Пастернака и мн. др.). Новое понимание роли слова и принципов поэтической конструкции у Хлебникова привело к той поэтике сдвига, динамизации фонетики слова, образа, синтаксиса и фабулы, которая создала максимальную напряженность словесного ряда.
Отсюда лозунги первых лет футуризма, вроде уничтожения пунктуации («Садок Судей». 2) и требования свободы от смысла, крайним завершением которых явилась „заумь” Кручёных. Отсюда признание законности “случайного результата”, даже непредусмотренного сдвига, вроде опечатки, у Хлебникова:
Наиболее отчётливо и наглядно этот принцип “сдвига” сказался в сдвиге фонетического состава слова и в словотворчестве Хлебникова.
Работа Хлебникова над словом заключалась не только в выдвигании его самовитости, но и в своеобразной поэтической и “научной” разработке сущности слова.
Разграничение “бытового” и “чистого” слова сформулировано Хлебниковым окончательно в статье «Наша основа» («Лирень» 1920 г.) и было исходным моментом его учения о слове:
“Бытовое” значение слова является его формой, его случайным знаком в той же мере, как и звуковая форма — знаком, скрывающим истинный “надындивидуальный” смысл.
Слово здесь является в своей двойной роли: слово — как имя предмета, знак его, со всеми субъективными и случайными ассоциациями, и слово — как некий эквивалент сущности предмета, некая объективная мыслительная данность.
Уже в 1911–12 гг. Хлебниковым это было провозглашено в неизданном воззвании:
На этом разграничении и основывается хлебниковская теория заумного языка, который по существу является языком не “бессмысленным”, как это принято думать, а языком “над-умным”, языком, выражающим чистые понятия, объективные смыслы, общие человеческому сознанию, а не названия предметов. Отсюда бытовая (номинативная) функция языка определяется Хлебниковым как игра в куклы:
Из этой теории самовитого “чистого” слова, обосновываемой им в ряде лингвистических статей и наблюдений, Хлебников делает и основные выводы для пользования словом в поэзии. Все они стремятся вывести слово из его случайного, бытового автоматизма для открытия в нём внутри лежащего смысла.
Работа философа и лингвиста становится работой поэта. Сложная теория слова, созданная Хлебниковым, была лишь частично использована футуристами. Вместо “чистого” слова, отрешённого от бытовых ассоциаций, слова с выдвинутыми фонической и морфологической формами, Кручёных (а за ним и все остальные сторонники, хулители или истолкователи “зауми”) создал обессмысленные звукосочетания — одну фоническую форму (которая, собственно, не может называться и “формой”, будучи лишена даже потенциальных значений). Пути словесной работы Хлебникова до сих пор не только не были от неё отделены, но и не рассматривались сколько-нибудь серьёзно.
Остальные футуристы усвоили лишь общий принцип языковой затруднённости и обострённого отношения к фонической стороне стиха.
Словотворчество Хлебникова служит наиболее показательным примером принципов его работы над словом. Здесь мы имеем дело как бы с наиболее простой и вместе с тем наиболее радикальной формой словесного сдвига и освобождения слова от “предметности”.
Здесь не перемена или сдвиг значения, получаемого от контекста, а тот „троп речения”, который является в результате изменения отдельного слова.20![]()
Словотворчество у Хлебникова чрезвычайно разнообразно. Чаще всего он соединяет корень слова с несвойственными ему формальными частями (мечачи по аналогии с лихачи; людел, родел — по аналогии с раздел, отдел; силебен, селебен — молебен. (См. «Войне — смерть»).
“Смысловый сдвиг” достигается Хлебниковым путём “соединения двух значений”. Для этого он пользуется заменой в слове начального звука:
Если мы имеем пару таких слов, как двор и твор, и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово творяне — творцы жизни. (См. «Ладомир»: Это шествуют творяне, заменивши Д на Т).
Здесь слово получает как бы новую звуковую характеристику, значение зыблется, слово воспринимается как знакомец, с внезапно незнакомым лицом, или как незнакомец, в котором угадывается что-то знакомое («Наша основа»). Колебание значений не даёт утвердиться предметному смыслу, спасает слово от бытового шаблона и повышает его смысловую напряжённость: в нём происходит борьба двух ассоциативных комплексов.21![]()
В своих стихах и статьях Хлебников почти совершенно отказывается от иностранных слов, создавая взамен их русские. В его черновиках имеются целые страницы различных изобретённых им слов для замены иностранных. Так, напр., он для каждого театрального термина предлагает ряд слов:
Воскрешается древнерусский словарь: так, «Девий бог» весь написан языком сказок и древних повестей.
Хлебников однажды в черновике сам подсчитал те языковые слои, которыми он пользуется:
В «Зангези» он насчитывает семь плоскостей слова:23![]()
Это огромное разнообразие и деление языка по функциям и видам настолько сложно, что требует особой работы, чтобы показать, как Хлебников ими пользуется.
Приведённый список Хлебникова ясно показывает, что заумный язык („заумь”) у него лишь одна из форм речевого выражения наряду со словотворчеством, звёздным языком и аффективной речью (безумный, бурный языки).
Таким образом, „заумь” для Хлебникова имеет очень узкий и конкретный смысл, в то время как вообще под “заумь” подводится что угодно.
“Заумь” следует дифференцировать. В одних случаях “заумь” является звукоподражанием (напр. птичий язык у Хлебникова или Каменского). Иное — „заумь” Кручёных (или того же Каменского), — встречающаяся и у Хлебникова, — рассчитанная на эмоциональное восприятие.
Здесь подбор некоторых звукосочетаний благодаря фонетическому сходству их с корнями эмоционально окрашенных слов (сарча, кроча буга — у Кручёных) и резкости интонации напоминает аффективную речь.
Все эти виды “зауми” были даны Хлебниковым, но для него они явились лишь частичными методами в общей работе над словом. В принципе они приближаются к неречевому звучанию или к эмоционально-аффективному воздействию. Поэтому Кручёных, Каменский и др. „заумники” дальше первых опытов Хлебникова пойти не могли. Они лишь довели до предела одни из приёмов Хлебникова (так же как Маяковский с ритмом и рифмой). Изобретатель всегда идёт впереди пользующихся его изобретением.
Мысль изреченная есть ложь.
Ф. Тютчев
Совершенно неверно смешивать его с “заумью”, которая или лишена смысла, или эмоциональна (в зависимости от ассоциаций темы или качества звуков).
Звёздный язык — азбука понятий, выраженная Хлебниковым в геометрических терминах:24![]()
В —движение точки по кругу около другой неподвижной; или:
Л — переход количества высоты, совпадающей с осью движения, в измерение ширины, поперечной пути движения.
Но одно лишь математическое обозначение природы звука, хотя и создаёт “научную объективность”, столь важную для поэтики Хлебникова, само по себе ещё недостаточно для поэзии.
Поэтому Хлебников принуждён расшифровать его в понятийном плане, в плане смысловых ассоциаций:
Здесь мы видим самый процесс осмысления (семасиологизации) звука, звук становится символом, эмблемой ряда понятий, всё время отодвигающихся и отдаляющихся от обозначаемого им первоначально логического понятия. Здесь происходит как бы постепенное “сопряжение” „первых”, „вторичных” и „третичных” идей (Ломоносов).
Абстрактное понятие реализуется в ряде “образов”, или “вторичных” идей, тем самым, раскрывая понятие, приписанное звуку.
«Азбука будетляннна» Хлебникова является ключом к ряду его вещей («Ладомир», «Зангези», «Царапина по небу»).
Расшифровка этого ключа обычно дана в самой вещи, при помощи раскрытия “логической эмблемы”.
Здесь мы имеем символизм звука, но не субъективно эмоциональной окраски его “тона” или “цвета”, а как знак некоторой логической суммы понятий, условного философско-поэтического шифра, открывающего вторичный смысл вещи. Приблизительно так, как в персидской или суннитской поэзии мы имеем слова и образы, обладающие ещё вторым, “тайным” философским смыслом, доступным посвящённым, так что там возможно говорить о двух пониманиях её: „на языке быта” (как сказал бы Хлебников), как ряд чувственных образов, и как философские понятия, скрытые ва этими условными эмблемами.
Благодаря такой символике звуков звёздный язык для Хлебникова есть грядущий мировой язык в зародыше, т.к. звук, связанный лишь с идеальным понятием, а не предметом, должен расшифровываться одинаково во всех языках.
Эпическая, большая вещь не может создаваться без смысловой свободы. Постоянная напряжённость образа и затруднённость словесного ряда — столь часто обязательные в лирике — здесь были бы утомительны.
В эпосе необходимы “передышки”, переходы к спокойному ритмическому и синтаксическому строю, “наивности” образа, к простоте смысла — тогда только ощутимы “вершины” поэмы.
Хлебников в своих поэмах постоянно пользуется этой свободой. Оттого так част у него простой, честный ямб или хорей, оттого постоянно можно встретить такие “бесхитростные” стихи (подобно „птичке божией” у Пушкина в «Цыганах»), как:
Современные поэты слишком долго жили за счёт В. Хлебникова, заслоняя и популяризируя его творческие достижения. Даже трагическая гибель его не послужила напоминанием о том, что настало время, когда замалчивание имени Хлебникова невозможно.
Долг современников — собрать рассеянное наследие Велимира Хлебникова и опубликовать его. В. Хлебников — не только величайший поэт нашей эпохи, но и будущего.
Уже теперь свершается сказанное им в «Ладомире»:
4/II–28
Кроме того, претендовать в настоящее время на какую-либо “полноту” невозможно, так как, вероятно, более половины рукописей находится в разных руках.25![]()
Неизвестна судьба почти всех вещей, написанных Хлебниковым за 1914–18 годы. Возможно, многие из них безвозвратно погибли. Но даже количество находящихся в моём распоряжении или известных материалов и неизданных рукописей настолько велико, что опубликовать их полностью в одном-двух томах невозможно. Вместе с тем, большинство напечатанных в разное время произведений Хлебникова рассеяно по сборникам, которые стали библиографической редкостью. Эти рассеянные по разным сборникам вещи были напечатаны с значительными искажениями и опечатками. Так как большинство этих ранее напечатанных вещей ныне совершенно недоступно, а вместе с тем они представляют огромный художественный интерес, то сюда включены многие ранее напечатанные вещи.
Размер книги не позволил включить в первый том все поэмы и эпические произведения, которые предположено распределить по дальнейшим книгам.
Столь же условен и самый принцип жанрового отбора поэм, потому что многие произведения Хлебникова могут быть так названы лишь в силу неопределённости и широты этого термина. Вернее было бы назвать этот том “эпическими произведениями”.
Огромное большинство поэм Хлебникова (16 из 21) печатается здесь по его рукописям, что позволяет дать наиболее точный текст. Некоторые рукописи часто недостаточно обработаны или неразборчивы.
Наибольшую трудность представляли вопросы членения на фрагменты и пунктуация.
Имея в виду широкого читателя, для которого чтение поэмы в 300–400 строк без графической разбивки её на части очень утомительно, и исходя из обычно принятых Хлебниковым композиционных членений смысловых разделов и из характера почерка, Редакция сочла возможным разбить графически поэмы на большие фрагменты, не нарушая композиционного смысла произведений.
Не менее сложен и вопрос о пунктуации.
Хлебников во всех вещах (даже в ранних) пунктуацию употреблял большей частью общепринятую, но недостаточно тщательно, пропуская знаки в самых явных случаях и, наоборот, ставя лишнюю точку или запятую в конце строки. Понимая необходимость сохранения хлебниковского синтаксиса, всегда очень своеобразного, я в случаях наиболее несомненных всё же восстановил пунктуацию. Следует вспомнить о том, что часто пунктуация у поэтов зависит от корректора, т.к. многие сдают свои стихи в печать почти без знаков. Пунктуация же вещей, напечатанных при жизни Хлебникова, — обычно результат произвола наборщиков.
Все наиболее необходимые объяснения, датировка поэм, варианты (а также разъяснение некоторых слов) мной отнесены к примечаниям — правда, очень скупым и неполным. Расположены поэмы лишь в приблизительно хронологическом порядке, так как точное время написания многих из них, в особенности ранних вещей, мне пока установить не удалось; вещи же последних лет часто писались почти одновременно.
Так как помещённые в этом томе поэмы распадаются по времени написания на два периода — с 1907–8 по 1913 и с 1919 по 1922, а вещи с 1914 по 1917 гг. отсутствуют, то я разделил поэмы сообразно этим периодам на две части.
Из всего числа поэм 10 печатаются впервые по рукописям Хлебникова: «Царская невеста», «Поэт», «Три сестры», «Лесная тоска», «Разин», «Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Синие оковы», «Переворот во Владивостоке», «Труба Гуль-муллы»; две поэмы с значительными дополнениями и исправлениями по рукописям: «Уструг Разина» и «Ладомир»;26![]()
Долг современников — и в первую очередь людей, близких Хлебникову — собрать воедино его наследие.27![]()
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 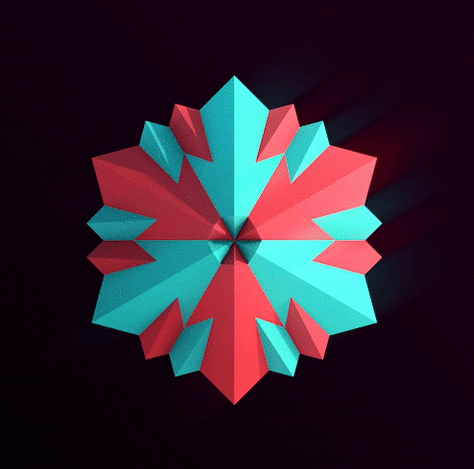 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||