Адольф Урбан
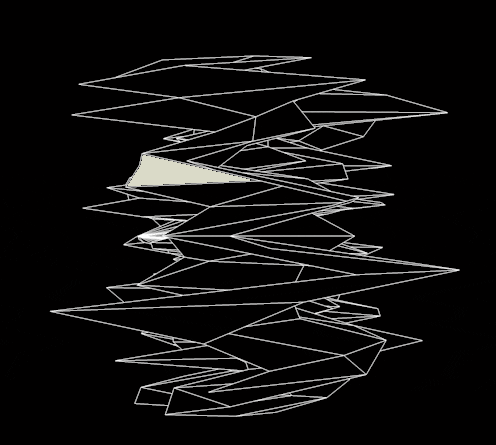
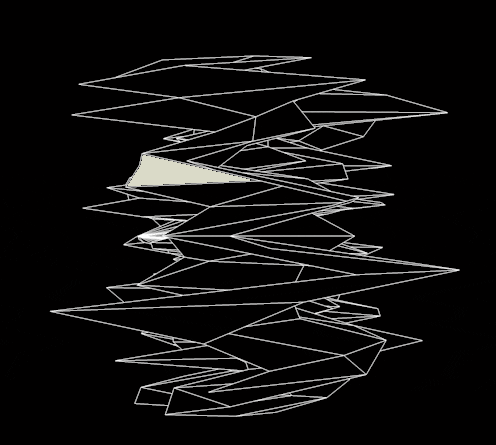
 оэзия Маяковского, став литературным фактом, сразу же стала и фактом непосредственной жизни. Дело не в том лишь, что у него были друзья и последователи, что его стихи создавали вокруг себя некую общественно-историческую атмосферу и сам он деятельно выводил их к читателю.
оэзия Маяковского, став литературным фактом, сразу же стала и фактом непосредственной жизни. Дело не в том лишь, что у него были друзья и последователи, что его стихи создавали вокруг себя некую общественно-историческую атмосферу и сам он деятельно выводил их к читателю.Литература и социальные движения времени. Природа как мастерская, а не только предмет эстетического любования. Люди и вещи. Создание техники, умножающей могущество человека. Овеществлённые — выраженные в неких материальных реалиях — чувства. Все это были вопросы самой жизни, наполнявшие её особым содержанием.
В науке, философии, искусстве возникали новые системы, включающие эти важные проблемы.
Готовилась и стала совершившимся фактом революция.
Современников начала XX века потрясали первые летательные аппараты.
Чудом казались беспроволочный телеграф, радио и немое кино.
Вот подлинные записи этого изумления, силящегося представить будущее.
Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем, разносящим стаи вестей из жизни духа, вершины волн научного моря, устремляющие человечество к новым берегам.
На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя ‹...›
Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио.2![]()
Это несколько отрывков из прозаических произведений В. Хлебникова «Лебедия будущего» и «Радио будущего», написанных в 1915–1921 годах.
По тем временам это была сверхфантастика, мечтания безумца, истинные чудеса.
Хлебников мог дожить до них. Речь тут всего лишь о массовой радиофикации, кино и цветном телевидении, осуществлённых в более удобных формах, не требующих такого стечения толп и священного трепета.
В это время другой “чудак” — К. Циолковский создавал конкретные расчёты и проекты новых летательных аппаратов, способных преодолеть земное тяготение и выйти в космос. Мечтал о расселении людей на других планетах, о жизни на астероидах.
В. Вернадский создал учение о био- и ноосфере.
И. Павлов через физиологию прокладывал путь к психике. Психика в его опытах получила ощутимое материальное выражение.
Кубофутуризм в живописи пытался не изобразить, а проанализировать вещь, распластывая её разные плоскости на полотне.
Странная ломка миров живописных была предтечею свободы, освобожденьем от цепей, — писал Хлебников.
А с другой стороны, искусством становится такое техническое изобретение, как фотография.
Возникали не только новые машины, но и промышленная эстетика — эстетика создающейся вещи, для которой сегодня найден новый термин: дизайн.
Прагматические устремления науки и отчасти искусства вызывали ответную реакцию: философская мысль заново переоценивала значение морально-этических ценностей, исторического опыта ушедших эпох. XX век породил не только прагматиков, но и моралистов. В обращении к истории, которое столь же свойственно новому времени, как и мечтания о будущем, очевидна нравственная идея.
Фантастические проекты К. Циолковского — это не только технические модели. В основу их положена своеобразная этика, особый характер деятельности, преображающий мир и самого пересоздателя.
Ещё в XIX веке другой утопист, Н.Ф. Фёдоров, мечтал объединить людей „философией общего дела”, новыми нравственными обязательствами друг перед другом и перед природой. Он был учителем Циолковского и предтечей “проективных” отношений человека с окружающим миром. Фёдоров писал:
Речь тут прежде всего о том, каким предстанет человек перед всеобщей земной жизнью, перед бесконечными путями вселенной. Что он может и чего хочет от мира. Если говорить более конкретно, — держа на примете сегодняшние задачи и потребности, — Фёдоров пытается создать новую этику отношений человека к природе, к земле и жизни в целом, по необходимости деятельных и бережных одновременно.
Понятно, почему философия Федорова интересовала Достоевского и Толстого.
В XX веке возникла ситуация, которая требовала новых нравственных идей от искусства, науки, общественной мысли. Точнее, наука, создавая теорию относительности, генетику, автоматику, осваивая новые виды энергии, приоткрыла необыкновенный контур будущего.
Может быть, впервые будущее стало осознаваться как некая конкретная реальность, нетождественная настоящему. Привычные представления о времени вычерчивали плавную линию: настоящее незаметно — без видимых потрясений — уходило в прошлое, будущее казалось несколько расширенным настоящим, только наступившим позже, потом.
Молодой Маяковский предсказывал социальные потрясения, зрелый — рисовал преображённый техникой и наукой мир.
Точно так же и Хлебников мыслит будущее как некий новый принцип, новое бытие, новую меру вещей, новую судьбу человечества.
Общество всё больше проникалось этими идеями. Примирить новые вопросы со старыми ответами было не так-то легко. Первая и самая простая реакция: послать проклятие утилитаризму, техницизму, рационализму, жажде познания вообще — была явно неудовлетворительной. Мир на глазах менялся. Вспоминая начало века, Л. Мартынов пишет:
Выносить абстрактные моральные осуждения, не учитывая всего, что меняло лицо планеты, было невозможно. Какими бы серьёзными ни были опасения, человек переступил границу миров. Он втянулся в круговорот изменений. Более того, он уже не мог жить без новой технологии, средств сообщения и информации, современного производства и науки — её высокой теории и прозаической, но бурной практики.
Искусство, обращённое к “внутреннему” человеку, к его нравственно-психологическому миру, должно было так или иначе уловить влияние этого колоссального процесса. Этого предвестья неведомого будущего.
Символизм завершил старую романтическую эпоху.
Новые романтические стремления опирались на эпический размах перемен, питались достижениями положительных знаний и сопутствующих им гипотез, порою реальных, часто фантастических.
Хлебников, например, пытался “вычислить” будущее. Его вычисления наивны. Но не тем ли самым занимается футурология, использующая математические методы.
Речь сейчас не о том, каковы вычисления Хлебникова, — их определяли как поэтические, фантастические, патологические, — важна в данном случае догадка, направление поиска. Для Хлебникова будущее реально, как прошлое и настоящее. И он стремился владеть им. Он верил в свое число как в средство предвидеть и упорно, деятельно, самозабвенно совершенствовал свою поэтическую науку — зрение будущего.
Вот отрывочная заметка из записных книжек Хлебникова:
Возьмите на предварительную заметку, что Хлебников не отождествляет творчество художника с делом практической науки и техники. Поэтическую фантазию — на тысячелетия вперёд — делает предвестником будущего, предшественником изобретения: ковры-самолёты как догадка о летательных аппаратах.
Но что тогда значат «Доски судьбы»? Как понять вторжение чисел и малопонятных подсчётов в текст высокого поэтического качества? Поэмы, сложенные из самого разного материала, где главы, написанные легко и просто, сменяются главами зауми на скороговорок скорословаре, опытами знакового звёздного языка, субъективным шифром звукоподобий и звукосмыслов?
Хлебников всё время действительно вычислял, экспериментировал со словом, создавал фантастические проекты, объявил себя Председателем Земного Шара, полностью выключился из быта и одновременно писал удивительные по своему образному строю и лирической проникновенности произведения, эпические поэмы, исполненные революционного пафоса и ненависти к миру людей прошлого, приобретателей и поработителей.
Так кто же он, Велимир Хлебников, о котором всё чаще вспоминают в наши дни, — словесная лаборатория, шаман-заумник, математик-фантазёр, тихий сумасшедший, чудак, мыслитель, художник?
Но вот парадокс: читать обязывает его положение среди поэтов. Имя Хлебникова неизменно возникает рядом с именами Маяковского, Асеева, Пастернака, Заболоцкого, Мартынова, Слуцкого, Сосноры… Он возвышается над ними огромной загадочной тенью.
Его поэзия значима и для поэтов совершенно другого характера и стиля, как Мартынов и Тарковский. Причём для всех он — один из предшественников. И притягательна поэзия Хлебникова не формальными, как это принято думать, новшествами, а по самому своему смыслу. Поэты таких несходных стилей — Заболоцкий, Мартынов, Тарковский — нуждаются в разных экспериментальных лабораториях. Как изобретатель слов Хлебников едва ли им нужен, однако как поэт необходим всем.
Но репутация “непонятного” заумника и футуриста у него прочна. Может быть, в связи с тем, что его теория и практика “заумного” языка лежит на поверхности и лучше всего описана и систематизирована.6![]()
Каждый, кто захочет прочесть его сочинения, имеет уже проторенную тропу, на которую его толкает сложившийся стереотип восприятия. Хлебников действительно явил большую изобретательность в своих словесных опытах. Это сразу бросается в глаза, но способно и оттолкнуть. Это понимал даже сам Хлебников: Вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания ‹...› Сочетание слов необычных крайне утомляет через пять строк ‹...›7![]()
В то же время для математика-лингвиста тут огромный материал, поддающийся учёту и классификации. Для стиховеда интересна хлебниковская рифма, ритмика, звуковое строение стиха, композиция его поэм.
У Хлебникова много редких нововведений, приёмов, находок.
Фольклорист и этнограф будет увлечён бесчисленными отражениями эпоса, мифологии, обычаев и верований разных народов.
Для текстолога, взявшегося за Хлебникова, возникает головоломная проблема канонического текста.
Такового в большинстве случаев попросту нет. Одно и то же стихотворение существует в нескольких редакциях. Какая из них окончательная, установить часто невозможно. В каком-то смысле каждая из них может быть на определённом этапе окончательной — и в то же время не законченной по существу.
Стянутое к одному центру, как после катастрофы, разлетается в разные стороны.
Любопытно свидетельство современницы, передающей слова Хлебникова:
Набросок обрастает десятками вариантов — идёт экспансия вширь.
При попытке просто перебелить стихотворение Хлебников нередко создавал новый вариант. Законченное произведение дополнялось, пока не иссякал творческий порыв, окружалось новым “уясняющим” текстом, тоже не оконченным.
Хлебниковская поэзия — это непрерывное строительство, процесс, поиск. Сергей Спасский, на квартире которого одно время жил Хлебников, рассказывал, как он работал:
Поэзия Хлебникова — многовариантна, порою фрагментарна. И в то же время — это не собрание зарисовок и этюдов, не россыпь афоризмов и словесных мозаик. Хлебников — эпичен, каждый его фрагмент — обломок необозримого целого, материал огромной фрески, находящейся в энергичном и непрерывном пересоздании.
Обращаясь к Хлебникову, надо прежде всего научиться читать смысл его поэзии. Примечательно, что современный исследователь, занятый таким специальным лингвистическим вопросом, как имя собственное в произведениях поэта, находит необходимым предупредить:
Здесь можно спорить лишь с чрезмерной метафоричностью выражения — „экспериментировать ‹...› с содержанием”. Содержание не может быть предметом поэтического эксперимента. Содержание — это постижение, становление… Во всяком случае, в эпической картине мира, которую пытался создать Хлебников, “заумь” занимала скромное место, хотя в принципе он от неё не отказался даже в последние годы, когда были созданы самые значительные и “ясные” его произведения.
В его представлении — в отличие, например, от А. Кручёных — “заумь” не слово, лишённое конкретного смысла, а слово-вещь, слово-действие, где его смысл не отделён от изначального состояния мира, не стал еще понятием, сконструированным, отвлечённым от предмета и управляемым умом. “Заумь” для Хлебникова, заумью, конечно, оставаясь, — естественная, природная стихия языка, адекватно отражающая в своем звукообразе первозданную основу мира. Звуковая материя языка, ещё удерживающая сам предмет.
Хлебников не просто выдумывал новые слова. Он пытался найти естественную звуковую первооснову языков, понятную и доступную любому жителю земного шара, чтобы прийти к единому звёздному языку человечества. Для него это — почва всемирного эпоса.
Языковедческие исследования и построения Хлебникова утопичны, это своего рода лингвистическая фантастика, но она была осмысленной и целенаправленной. Ей отводилась своя роль в поэтической натурфилософии Хлебникова. Его “заумь” поддается рационалистическому прочтению и систематизации.
Буржуазная цивилизация истекает кровью, рассыпается в пепел.
Берега эпического прошлого и утопического будущего сближаются. Хлебников воспринял это как новую жизненную реальность, действующий творческий закон.
Сергей Спасский вспоминает:
Хлебников олицетворяет свои мечты. Свобода, мир, труд, творчество получают имена и становятся живыми героями его эпоса, как Горе-Злочастие в народном повествовании. В его поэмах есть энергия и пафос, но нет декоративной символики, зрелищных представлений и театральности.
Хлебников видел жестокость борьбы, ярость справедливого гнева, кровавую стихию социального возмездия. В «Ночи перед советами» старая барыня ждёт народной расправы. В «Настоящем» великий князь с ужасом смотрит на обугленное бревно божественного гнева, целящееся в окно дворца.
Но столь же реально для Хлебникова и будущее. К своим поэтическим видениям он относится как к жизни. Они для Хлебникова действительны, возможны, осуществимы. Он с самоотверженной душевной полнотой жил среди своих фантазий, планов, вычислений. Он работал над ними. Это была уже не “литература”, а дело, миссия, открывание новых миров для всех.
Люди, знавшие Хлебникова, рассказывают, что все свои проекты — а их было множество — он вынашивал с неизменной и глубочайшей серьезностью, даже важностью:
В “литературе” Хлебникова отсутствует литературность. Это — своего рода философия, прогнозирование, волевое устремление, действие. Обобщающими усилиями проникнуты все его опыты, поиски, вычисления, само жизненное поведение.
Вспомним один из многочисленных сюжетов его мысли — мечту о вашем и о нашем городе. Он к ней возвращался не раз и в стихах, и в прозе. В ранней утопии «Мы и дома», написанной в 1914–1915 годах, Хлебников разрабатывает подробный план будущего мироустройства. На город смотрят сбоку, будут — сверху. Крыша нежится в синеве, согревается солнцем, на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудища; земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов; забыв ходить пешком или на собратьях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом.
Хлебников придумывает необыкновенные жилища — походные каюты из гнутого стекла, которые в любую минуту можно поставить на колёса и отправить в дорогу по железной колее, чтобы житель, не выходя из неё (каюты. — А.У.), совершал путешествие. Вместо каменных домов строятся дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесёнными из одного здания в другое. Путешествует не человек, а его дом, привинченный то к площадке поезда, то к пароходу. Дома-остовы с решёткой пустых мест повсюду ждут стеклянных жителей.
Хлебников подробно разрабатывает структуру будущего города, его избоулы | житеулы | мостоулы | улочертоги. Разнообразные типы домов: дома-мосты; дом-тополь — узкая башня, обвитая кольцами из стеклянных кают; подводные дворцы — для говорилен; дома-пароходы; дом-плёнка — из комнатных ячеек, натянутых между двумя башнями, — очень удобный для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря; дом-шахматы; дом-качели — между двумя заводскими трубами; дом-волос, подымающийся на высоту 100–200 сажен, вьющийся вдоль железной иглы; дом-чаша; дом-трубка с широкими дворами внутри; дом-книга…
В заключение этих выкладок Хлебников рисует фантастический пейзаж будущего города, где все эти дома образуют единое яркое зрелище.
Социально-философская гипотеза Хлебникова объединяется с мотивами народной сказки и легендой об Атлантиде. Мечтание о будущем включено в эпос.
Трактат в прозе имеет поэтический вариант в стихах — «О город тучеед!..», «Город будущего», «Москва будущего». В них столь же вдохновенно возводится город-утопия, город Солнцестана: жилой стеклянный парус, плющём обвитый улиц | стеклянный дол, стеклянные утесы | площади из горниц в один слой | треугольники, чурбаны из стекла | толпа прозрачно чистых сот | стеклянный путь покоя над покоем.
Это поэтический образ тех же идей. Дело в том, что канонического текста нет. Есть ряд вариантов-повторений с добавлениями. Проза, предшествующая стихам, или стихи, впадающие в прозу. В стихах ведётся столь же серьёзное “строительство” будущего. Тут Хлебников не менее подробен, но более энергичен и экспрессивен. Описательные сведения заменены ёмкой метафорой, которая порою не сразу доступна и становится понятной лишь в общей системе хлебниковского мышления. Отсюда важно чтение “всего” Хлебникова. Восприятие его эпического мира в целости многовариантного, многожанрового воплощения.
При первом чтении вне общего понимания хлебниковской утопии всё это может показаться чуть ли не шифром.
Почему город мчался как суда?
Но мы уже знаем, что города Хлебникова подвижны, перемещаются в виде стеклянных сот по железным дорогам и морям.
Почему нависали облака на медленных глазах верёвок?
Но в хлебниковском городе есть дома-волосы, вьющиеся в высоту. Поэтому-то на этих домах-волосах | домах-верёвках есть глаза — глаза-окна.
Растение на посохе зелёной краски, то есть травы и деревья на зелёных стеблях. А мы помним, что город, по Хлебникову, — это тоже опыт растения высшего порядка. Вот почему весь город тою же тропинкой шёл, иными словами, тропинкой деревьев и трав, тропинкой природы, но только он белой зелени растение, желающий быть травой стеклянной. Город-растение из стеклянных клеточек-сот, белая зелень.16![]()
Все это не заумь, не нарочитая усложнённость, это — стремительная скоропись воображения, зыбкая лесенка, по которой поднимается пытливый ум поэта. Это прежде всего экспрессия мысли, стремящейся начертить план грядущего мироустройства, угадать его эпос, с необыкновенной эмоциональной энергией созидаемая концепция. И при всём при этом — поэзия высокой пробы, огромной образной плотности.
Вот очередной образ, дома-остова, людьми покинутого улья, улетевшими в своих сотах в другие места:
Если держать в памяти общую структуру хлебниковского города, это фантастическое зрелище читается, как букварь. Осенний лист дворца, изглоданный полётами, — это решетка остова, из которого улетели в своих секциях обитатели. Изглоданный червем полёта и всё-таки прекрасный, как чертёж разумной воли человека.
Это не умозрительная схема, а буйная поэтическая фантазия. Фантастический город увиден въявь. Концепция Хлебникова, рационалистическая в своей основе, окрашенная могучим воображением, как бы осуществлена в эмоциональном предвидении. Поэт писал о том, что прочла душа, по грядущему чтица. В такой же степени, в какой Хлебников мог вообразить себе гибель Атлантиды или лесную деву языческих времён, он жил и в будущем: Я вам расскажу, что я из будущего чую мои зачеловеческие сны.
А вот и совсем уже похожее на образы Маяковского: Я, носящий весь земной шар на мизинце правой руки… Или маяковская грандиозность с примесью нежного хлебниковского лиризма: И светляка небес воткну булавкой в потоп моих волос… И оригинальное, чисто хлебниковское обобщение: Звук солнц сейчасных, весь неба стан, — его мы думой можем трогать…
Вселенная Хлебникова — огромная мастерская для творческого приложения мысли и действия.
Космическое сознание Хлебникова было не только поэтической метафорой. Оставаясь поэтом, он всё время выходил за пределы поэзии — в мифологию, философию, жизненную практику… Он стремился к универсальности — к универсальному числу, объясняющему вселенную, к всечеловеческому и звёздному языку, предназначенному для общения всех со всеми, к единой книге, заключающей всю мудрость человечества: Я видел, что чёрные Веды, Коран и Евангелие и в шёлковых досках книги монголов сами ‹...› сложили костёр и сами легли на него,,
Космические образы Хлебникова аллегоричны и лиричны одновременно. Это не громкая риторика, в ту пору широко распространённая, а глубокая вера в новый путь человечества:
Но вот что примечательно: прочь от былого для Хлебникова — это разрыв непосредственно со вчерашним днем, с буржуазной цивилизацией — замками мирового торга, — со скорлупой устаревших косных вещей и быта:
Времена же давно прошедшие — эпос древности, детство человечества, природа в своей первозданности — соединяются с временами грядущими, когда умный череп Гайаваты украсит голову Монблана. Древнегреческий бог любви Эрот и верховный владыка китайской мифологии Шангти, полинезийское божество Маа-Эма и индийский бог Индра образуют тесный круг, где Юнона с Цинтекуатлем смотрят Корреджио и восхищены Мурильо, где Ункулункулу и Тор играют мирно в шашки…
Эпические времена древности, „как образ входит в образ”, становятся естественной частью грандиозного эпоса будущего.
В этом эпосе объединялись не только разные исторические эпохи, но и разные народы, разные культуры, разные мифологии. В «Свояси» — так называлось предисловие к предполагавшемуся изданию его сочинений — Хлебников объяснил замысел некоторых своих вещей.
Хлебников почему-то не упомянул поэму «Шаман и Венера», может быть, наиболее впечатляющий пример встречи разных культур.
В пещеру к монгольскому шаману является богиня любви Венера. Она жалуется на безразличие европейцев к её живой и полнокровной красоте. Как эта жизнь пошла! — восклицает богиня.
Эта встреча культур — прообраз будущего. Я род людей сложу, как части давно задуманного целого, — говорит один из героев Хлебникова.
У Хлебникова никогда не было желания „сбросить с парохода современности” культуру прошлого. Он не отказывался от опыта тысячелетий. От наследства языка, мудрости сказаний и легенд, от образного мышления разных народов, приближённого к природным стихиям.
В поэзии Хлебникова могущественно проявляются центростремительные силы. Мир — единое творение. В нём должны быть универсальные законы, объединяющие всё и вся. Жизнь человека и человечества он уподоблял лучу и световой волне. Буржуазная цивилизация тем и плоха, что она замкнула мир лишь в настоящем, оборвала древние связи, раздробила на бездушные вещи, которые стали господами. Наконец, приобретателями вещей была нагло выведена война в круг Невест человека. И Хлебников задаёт гневный вопрос государствам, столкнувшимся в мировой бойне: Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях между клыками и коренными зубами? Обличает соборное людоедство, превратившее человечество в пирожное, сладкий сухарь, тающий ‹...› во рту у верховного Едока.
Себя Хлебников ощущает стрелочником на путях встречи Прошлого и Будущего. Один из его героев произносит такой монолог:
Одно только противоречие в эпосе Хлебникова разрушает стройность картины: На крыльях поднят как орел, я видел сразу, что было и что будет. Эпическое прошлое объединено с будущим, направлено к будущему и там находит своё полное осуществление. Это попытка создать новый эпос с другим временным абсолютом — с идеальной завершённостью в будущем. И уже не на почве отдельных национальных культур, а в слиянии эпосов всех народов, в едином мировом и даже звёздном языке.
В хлебниковской поэзии не только оживает прошлое и будущее, но живёт и дышит вся земля, весь космос, пронизанные волей человека, его мыслью, его деятельной творческой энергией.
Так говорит герой драматической поэмы «Зангези». Он одушевляет, очеловечивает землю. И в то же время выражает внутреннее эпическое состояние полного единства и нераздельности с этим огромным, живым, кровеносным миром.
Но всё же и в этом случае Хлебников был озабочен не эстетической проблемой слияния лирического и эпического. Он словно мыслил будущим, актуализируя отдельные явления и признаки современной жизни, видел свои мечтания как бы уже воплощёнными в выразительные фрагменты эпоса. Это — попытки решать реальные жизненные задачи.
Одушевление, очеловечение природы было для него не только художественным приёмом, но и некоей утопической идеей, ждущей своего действительного осуществления. Он видел это одушевление в некоем единстве природных сил и воли человека, дающей им желательное направление. Зангези так продолжает свой монолог:
На человеке, отождествившем себя с живой землёй, тикают эти могучие металлические часы, отсчитывающие разумное время труда и творчества: Рабочие, завода думы жители! Работайте, носите, двигайте!
Начинается великое время: Лёта лета! Преображённое человечество, познавшее законы времени и чисел, мчится к далёким берегам будущего, в звёздные пространства:
Хлебников осознавал себя прежде всего стоящим на первой площадке лестницы мыслителей. И как мыслитель пытался построить эпический мир, который бы стремился стать реальностью.
Между произведениями Хлебникова неощутимы жанровые границы. Его “поэмы” включают и повествовательные мотивы, и лирические отрывки, и драматические диалоги, и прозаические куски, и лингвистические опыты, и чисел нежные кривые. В то же время нет границы между отдельными стихотворениями и поэмами. Очень часто фрагменты поэм существуют как самостоятельные произведения. Нет границы также между художественным поэтическим текстом и статьёй, декларацией, наброском в записной книжке.
Философские фантазии Хлебникова, в которых он пытается быть “научным”, неизменно образны и эмоциональны. Статья «Наша основа», насыщенная числовыми выкладками, заканчивается выводами, состоящими из нескольких параграфов:
Нет принципиальной идейно-художественной разницы между этой философской публицистикой Хлебникова и чисто поэтическим отрывком на аналогичную тему.
Этот отрывок столь же образен, поэтичен, сколь и насыщен прозаизмами. Хлебников не организовывает его в чеканную стиховую форму с единым размером и последовательной рифмовкой. Строение стиха подчинено ритму мысли, скорописи фантазии.22![]()
Всё — и хлебниковская проза, и хлебниковская поэзия, и его философия — материал единого эпического космоса, пронизанного общими токами, находящегося в бурном становлении.
Хлебников высоко понимал роль поэта — художника языка и художника чисел. Работа художника наполнялась неким универсальным жизненным содержанием. Творческие его силы прилагались ко всей материи бытия. И он становился собирателем всемирного опыта человечества, хозяином времени, как Зангези.
Характерна житейская подробность, отмеченная в воспоминаниях Сергея Спасского:
Но возводимый Хлебниковым эпический космос лишён лирического эгоцентризма: Мы не боги, а потому будем течь как реки в море общего будущего. Творческая воля художника и мыслителя не в самовлюблённой индивидуализации художественной манеры и стиля, а в построении и проверке гипотез, в познании общих законов времени, в реализации догадок и предвидений.
Хлебников мечтал изучить огромные лучи человеческой судьбы, волны которой населены людьми, чтобы они стали послушны учёному. Тогда люди сразу будут и народом, населяющим волну луча, и учёным, управляющим ходом этих лучей, изменяя их путь по произволу.24![]()
И опять это идея как философская, так и поэтическая. А вместе они запланированы на реальное осуществление в будущем. В стихах Хлебникова нетрудно найти параллель лучам человеческой судьбы.
Мирные овцы, спички — это праотцев ужас, усмиренный языческий бог огня, бич хижин и селений, беспощадная и ужасная стихия. Так было в первобытные времена. Но
Как будто и глупые и будто божественные спички покорны тому, кто их сделал. Грозные божества заперты в узком пространстве.
Но дело вовсе не в спичках. Через слюду обыденного смысла тут просвечивает для Хлебникова “второй смысл”: алчный к победам, буду делать сурово спички судьбы. Безопасные спички судьбы! Всесильную судьбу можно усмирить так же, как грозный бог огня усмирен в спичке. И по потребности судьбу зажигать, разум в судьбу обмокнув.
Владеть судьбой, как спичками, управлять судьбой с помощью разума и человеческой воли.
В прозе Хлебникова это была теоретическая идея. В поэтическом варианте мечта об усмиренном луче судьбы уже как бы достигнута, осуществлена воочию.
Волевой творческий импульс у Хлебникова всегда направлен вовне. Он ищет способа овладеть тайными силами судьбы. Немедленно начать благоустройство мира по утопическим планам будетлянского жизнесозидания.
Хлебников считал, что растения, коровы, травы — “младшие братья человека”. У рыбы есть тоже Байрон или Гёте и скучные споры о Магомете! Он думал об освобождении животных и о содружестве их с человеком. Я вижу конские свободы и равноправие коров. Идея утопического конецарства проходит через всю поэзию Хлебникова.
Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок, — писал Хлебников. Но ни одно животное не должно исчезнуть.
Человек-пахарь в «Лебедии будущего», засевающий поля с неба, твёрдо шёл к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара. И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.
Хлебников рисовал сказочную картину:
В свойственной ему метафорической форме Хлебников, в сущности, предсказывал использование планктона — биологической массы водных бассейнов:
А теперь вслушаемся в заключительные страницы его лучшей поэмы «Ладомир»:
Это очередной поэтический вариант утопии. Здесь тот же небесный пахарь, съедобные глины, озёрные щи», доставляемые замороженными в холодильниках. Только метафоры стали более стремительными и емкими. Мысль — экспрессивной и эмоциональной. В деталях она может показаться сумбурной и неясной без знания главных идей и прогнозов Хлебникова.
В его предвидениях так или иначе содержатся сегодняшние экологические заботы человека: сохранить вымирающих животных; очистить от загрязнения реки и озера; сберечь и умножить растительный мир, накапливающий энергию солнца — главный источник жизни на земле.
Он остался поэтом, философствующим мечтателем, фантастом. Но был в его утопиях и пророческий смысл. Хлебников оказался в своих “сумасшедших” фантазиях бóльшим реалистом, чем многие трезвые практики.
Эта характеристика примечательна. В ней всё кажется точным и вместе с тем недоговоренным, недостаточным. Безусловно, фантастика Хлебникова рационалистична. И он верил и, вероятно, взялся бы осуществлять — и по-своему осуществлял — многие свои идеи. Ведь он, в конце концов, был убеждён, что составил «Доски судьбы» — вычислил периоды повторяющихся событий. Заложил основы звёздного языка и овладел его словарём. Нашёл неисчерпаемые резервы поэтического словообразования. Построил свою личную жизнь над временем, вне быта, отказавшись от благ оседлого существования, от вещей и домашнего уюта.
Попытки Хлебникова реализовать свою утопию наивны, фантастичны, порою носят характер маниакальной идеи. Но весь его космос проникнут мыслью об осуществлении, о практической своей возможности и целесообразности. Как мы видели, многое Хлебников действительно угадал. Но для немедленной проверки этих догадок или внедрения их в жизнь не было ещё средств. Его космос держался на эмоциональном импульсе, на глубочайшей вере, что так должно быть, на последовательной внутренней приверженности к избранному направлению мыслей. В этом его сила: предсказанное будущее начинало жить, беспокоить воображение, объединять энтузиастов. Впрочем, научные открытия и изобретения начала века уже давали повод для догадок и фантазий эпического размаха. Хлебников был смелее других и поэтому оказался реалистичнее.
Иными словами, во всех своих интеллектуальных и практических устремлениях — к научно построенному человечеству — Хлебников оставался поэтом. Воодушевляло эти устремления чувство, собранность творческой воли, возводящей и утверждающей свой космос. В конечном счёте по его же формуле — искусство, развивающееся из клочков современных наук — эпос, включающий новые пространственные и временные измерения, вселенную как место действия, прошлое, настоящее и будущее как временнóе единство.
Убеждённый в достоверности своих математических выкладок, Хлебников всё же назвал себя художником числа вечной головы вселенной. Предлагал основать сословие художников числа.
И действительно, его отношение к числу — в высшей степени эмоциональное, поэтическое. Хлебниковское число материально, вещественно, даже больше — чувственно: Запах вещей числовой между деревьев стоит | мы звуколюди. Батый и Пи! Скрипка у меня на плече! Надо действительно быть поэтом, чтобы числовое значение Пи сравнить с Батыем и скрипкой! Ощутить запах числа. Хлебников в самом деле “истязает” рассказом о празднике научного огня. Наука для него — такая же языческая стихия, как и древние верования в ковёр-самолёт. Число подобно растению, морской волне, безначальности и бесконечности жизни…
Рационализм Хлебникова неизменно переходит в экстаз. Он вдохновенно деятельный. Бесплотное чувство материализуется, приравнивается к вещи, рассматривается как орудие. Рационализм Хлебникова нетрудно разглядеть в строении клетки его поэтического образа. Вдумайтесь: Собирал урожаи чисел кривым серпом памяти | ремень проходит мысли | мешок молчания. Память уподоблена серпу, мысль — ремню, молчание — туго завязанному мешку. Психологические состояния овеществлены с необыкновенной резкостью.
В других стихах он свою мысль сравнит с отмычкой, со стрелкой часов:
Вообще Хлебников последовательный сторонник материализации неуловимого, зыбкого, неочевидного:
Это последовательный принцип — из тающей пены слов выхватывать твёрдую породу, вещество, доступное осязанию и глазу.
Судьба — иголка, шуршащая о полотно, судьба — швея.
В прозаическом отрывке Хлебников возглашает: Законы быта да сменятся уравнением рока. Он и судьбу стремился объять точной математической формулой. Словом определить длину волн добра и зла. Языкознанием — измерить нравственный мир. Хлебников — универсальный “структуралист”, если применять современную терминологию. Структуралист-мечтатель.
Не оттого ли он так разнообразен и изобретателен в материализации психических явлений и абстрактных понятий. Предметное легче поддается счёту. У него угроза созревает колосьями сумрачных жит, время — винтарь | железные времени палки | печали рукомойник | дум обоз, люди — мыслящие печи, тело ждёт души шагов с вершин. Он пишет: обувь разума разую | колени мирового горя руками обнимая, плачешь | череп — кубок моих песен.
Иногда конкретизация понятия развёрнута в подробную картину со своими самостоятельными законами:
Метафора каменеющий крик реализуется в эпическую картину. Окаменение как бы свершается на наших глазах и порождает свои последствия. Улитка столетий на руке, протянутой к звёздам, — тоже зрелище, пластика, действо.
Таких необычных созданий у Хлебникова много. В «Поэте» — забавных:
В поэме «Война в мышеловке» — страшных:
В «Ладомире» — патетических: Идёт свобода Неувяда, поднявши стяг рукою смело.
Творя свой мир, Хлебников как бы уплотняет материю. Идеальное делает реальным. Мыслимое — вещественным. Но это не упрощение и огрубление. Всякое такое превращение — поэтический образ, указывающий на иной смысл привычного, его исследование и актуализация.
Очень живописна, материальна, как бы выведена линиями цветных чернил — сродни полотнам П. Филонова — эта картина осени.
Представьте чертежи облетевших деревьев на синеве неба. Уподобление его треснувшему стеклу. Воздух, расколотый на чёрные ветки.
Пылание — лучиной — пожелтевших и багряных листьев — в воздухе золотом. И рядом — наслаивающиеся параллельные сравнения осенней поры с огнивом, высекшим золотые дни, со свечами молебствия, с золотыми папахами, скинутыми с головы деревьев, наконец, уподобление деревьев граблям, сгребающим солнечное сено-лучи, и чертежу — карте железных дорог России.
Тут не только всё очень конкретно, зримо, но и по-своему логично. Образ обладает направленной логикой.
Хлебников написал в своих заметках: Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл.28![]()
Живые глаза для тайны — это как бы возможность увидеть незримое. Материализованная мысль. Опредмеченное чувство. Реализованная утопия.
Чаще всего тайна раскрывается не сразу. Нужно долго вдумываться и вглядываться, прежде чем явится её настоящее лицо. Хлебников живыми глазами» навылет просвечивает эту тайну. Он ведёт нас дикими и опасными тропами, где постоянно нарушаются привычные пропорции, и мы видим мир в ином его бытии, становимся свидетелями фантастических его превращений.
При самых неожиданных метафорических сдвигах, при сложных звуковых поисках Хлебникова стих его очень конкретен, уплотнён. Опыты Хлебникова со звучанием слова уживались с другой тенденцией — мыслить зрением, а не слухом | обмениваться мыслями, пользуясь языком зрения.29![]()
В одном из поздних своих стихотворений он писал:
Иными словами, поэт должен прививать читателю — сеять — новое зрение. Обращаться к его зрительному воображению и памяти.
Связь поэзии Хлебникова с новой живописью давно отмечена. Вообще первоначальные выступления футуристов были некоей наглядной, действенной, зрелищной демонстрацией и происходили одновременно в литературе, живописи, театре, искусстве звучащего слова, немом кино. В. Каменский даже свою профессию авиатора — в то время не вышедшую ещё за пределы спортивного зрелища — использовал как доказательство единства необычного образа и подлинного факта, передового искусства и обновляющейся жизни, слова и деятельности.
В поэме Хлебникова «Прачка» — множество примеров слияния орудия и действия, психологического состояния и физического акта, поэтической метафоры и жизненного явления. Разбушевавшаяся бунтарская стихия так осознает себя:
Тут всё время психологические, нравственные, культурные, социальные потребности подключаются в план непосредственной бытовой жизни (мудрецы корки хлеба) или бунтарского действия (писатели ножом).
Вообще текст хлебниковских произведений при их незавершённости и кажущейся аморфности очень интенсивен. Мысль поэта не топчется на месте. Он захватывает всё новые и новые подробности, расширяет свои связи. Фантазия поэта выстраивает целую систему зеркал, которыми освещается первоначальная идея, являясь в разных своих обликах и разными сторонами. Опыт проводится на наших глазах. На наших глазах идёт становление и утверждение главной мысли, захватывающей большие эпические пространства.
В этих её постоянных превращениях может быть некоторая избыточность, чрезмерное стремление до конца исчерпать неисчерпаемый запас возможностей, но никогда не ослабевает внутренняя энергия и воля поэта, не оборачивается вялостью и апатией, порождающими холостые обороты стиховых строчек.
Хлебников строительной площадкой для своего эпоса избрал всю вселенную, прошлое и грядущее человечества.
Он привлёк для своего строительства груды диковинного материала: доисторическую мифологию и утопию будущего, язык слов и чисел, необычных звучаний и “зримых” мыслей, пользуясь фантастически переосмысленными научными гипотезами; философскими построениями, приёмами других — не словесных — искусств.
Хлебников сделал причудливые наброски будущего, начертил фантастические карты его городов, селений, распространения животного мира, средств связи и информации. Но завершить свой труд он не мог да, пожалуй, и не мыслил завершённым. Он только начинал дело.
Однако планы его были грандиозны, размах колоссален. В зачатке у него можно найти идеи, родственные идеям Циолковского о покорении космоса, Вернадского — о био- и ноосфере, кибернетике, современной биологии, структурализме… Разумеется, не в научной достоверности, а как поэтический образ, метафору, догадку.
На этой зыбкой почве он пытался основать новый эпос. Построить универсальную систему, становящуюся второй реальностью, идеальным миром, в который — последовательно и неотвратимо — обращалась бы конкретная историческая действительность.
Хлебникова вовсе не занимала авангардистская идея “деланья” искусства, конструирования ради конструирования. У него было эпическое чувство времени. Ощущение не раздробленности, а единства мира, со всей очевидностью и научной достоверностью складывающееся на глазах. В соответствии с этим его эпическим размахом и устремлённостью Хлебников и строил всемирную или даже космическую утопию.
Цель её не литературная — “сделать” поэтическое произведение, художественный “образец”, — а жизненная: овладеть миром, переделать его или построить заново, разумно, надёжно, величаво. Не малую, свою, личную судьбу, а жизнь как целое. Жизнь как бесконечное и прекрасное будущее.
Это была молодая надежда века. Его волевой импульс, приведший к таким решительным переменам всей жизни, к стольким победам и разочарованиям. Хлебников хотел участвовать в этом жизненном акте своим искусством.
Что же это за искусство? Прикладное? Рационалистическое? Внеличное? Обвиняли его и в этом.
Да, в какой-то степени — прикладное, стремящееся стать действием и тем отрицающее себя.
В конструктивной логике, в поисках концепции — рационалистическое.
В своём размахе — универсальное, надличное.
Но во всём этом есть и другая сторона.
В “практицизме” своём оно не знает ограничения. Действие его всемирно и космично. И делается не для себя, не ради самоутверждения, направлено не на узкий участок, но увлечено сверхзадачей, устремлено, по сути, идеально — самоотверженное и самоотречённое.
Рационализм его — страстный, жизненный, созидающий не логическую схему, а строящий мир. Планирующий его преображение. Он оборачивается общественным поведением. За ним стоит судьба.
“Система” эта требует проверки на собственном опыте, подвига. Хлебниковские “чудачества” были попыткой жить по законам этого идеального мира. Естественно, они были в конфликте с наличным бытом.
И тут вступает в действие вся человеческая натура поэта. Внеличное — эпическое, универсальное, идеальное — оказывается принято очень лично. Оплачено собственной жизнью.
То была не экстравагантная выдумка авангардиста. Стояла за всем этим жизнь в полном разливе общественных катастроф, революций, строительных напряжений, научных открытий, технических изобретений. И участвовали в них не отдельные умы, а миллионы. Именно они “конструировали” новый эпос. И было это общее для времени — “некалендарного” XX века.
Однако Хлебникову не удалось создать всемирный эпос, найти звёздный язык. И звездный путь впереди. Объединению противостояло разъединение. Мир оставался расколотым. Дробление происходило так же неотвратимо, как и усиление коллективных действий.
Всемирное эпическое единство было ещё мечтанием…
| Персональная страница А.А. Урбана на ka2.ru | ||
| карта сайта | 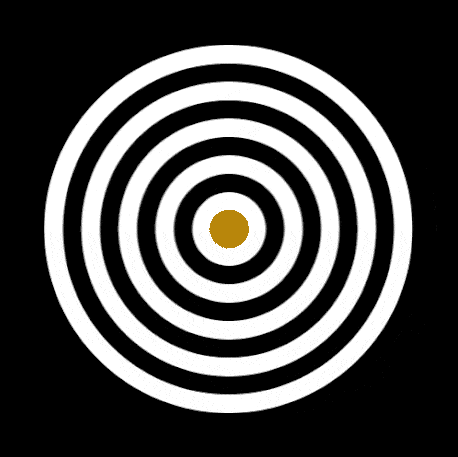 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||