

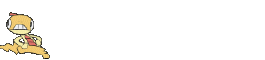
 оэма Хлебникова «Ночной обыск» оказалась, за редким исключением, вне поля зрения критики. Напечатанная с большой задержкой, спустя семь лет после создания (Собрание произведений, т. I. 1928), она была воспринята как эксперимент в области полиметрии и внутреннего монолога действующего лица, т.е. с чисто формальной стороны. Другого, более развёрнутого суждения, едва ли следовало ожидать: разгул революционного насилия под пером Хлебникова привёл к тому, что ни в один из его последующих сборников (1936, 1940, 1960), ни в переводные издания (Чехословакия, Польша, Югославия) эта поэма не включалась. По мнению Б. Яковлева, В. Завалишина и В. Маркова, «Ночной обыск» — антибольшевистский выпад. Поскольку двое последних представляют эмигрантскую критику, приписывание ими Хлебникову подобных настроений объяснимо. Другие, но тоже весьма немногочисленные, критики оценили «Ночной обыск» как „наиболее значительное, что создано в наших стихах о революции” (Ю. Тынянов) | свидетельство в пользу Октября (А. Дравич) | торжество „справедливого разума истории в разгуле народной стихии” (А. Меньшутин, А. Синявский) | „выражение ненависти народа к буржуазно-дворянскому строю и разбуженные революцией в народе чувства радости, веры в свои силы, мечты о справедливом и прекрасном мире” (К. Зелинский). В пространном очерке «О Велимире Хлебникове» В. Перцов посчитал идеологический настрой «Ночного обыска» шагом в верном направлении:
оэма Хлебникова «Ночной обыск» оказалась, за редким исключением, вне поля зрения критики. Напечатанная с большой задержкой, спустя семь лет после создания (Собрание произведений, т. I. 1928), она была воспринята как эксперимент в области полиметрии и внутреннего монолога действующего лица, т.е. с чисто формальной стороны. Другого, более развёрнутого суждения, едва ли следовало ожидать: разгул революционного насилия под пером Хлебникова привёл к тому, что ни в один из его последующих сборников (1936, 1940, 1960), ни в переводные издания (Чехословакия, Польша, Югославия) эта поэма не включалась. По мнению Б. Яковлева, В. Завалишина и В. Маркова, «Ночной обыск» — антибольшевистский выпад. Поскольку двое последних представляют эмигрантскую критику, приписывание ими Хлебникову подобных настроений объяснимо. Другие, но тоже весьма немногочисленные, критики оценили «Ночной обыск» как „наиболее значительное, что создано в наших стихах о революции” (Ю. Тынянов) | свидетельство в пользу Октября (А. Дравич) | торжество „справедливого разума истории в разгуле народной стихии” (А. Меньшутин, А. Синявский) | „выражение ненависти народа к буржуазно-дворянскому строю и разбуженные революцией в народе чувства радости, веры в свои силы, мечты о справедливом и прекрасном мире” (К. Зелинский). В пространном очерке «О Велимире Хлебникове» В. Перцов посчитал идеологический настрой «Ночного обыска» шагом в верном направлении:Действительные побуждения поэта становятся понятнее с учётом особенности хлебниковского этического подхода в «Ночном обыске», близкому отмщению в поэмах Блока «Возмездие» и «Двенадцать», а также его речи «О назначении поэта» на открытии памятника Пушкину. Налицо метафизическое противопоставление интеллектуального («Возмездие»), морального («Двенадцать») и художественного («О назначении поэта») начал задачам революции, понимание которых советской литературой единообразным не назовёшь.
Говоря о новаторстве «Ночного обыска», прежде всего следует отметить настолько выраженный разговорный язык поэмы, что она, после повального небрежения мэтрами изящной словесности речью простонародья, кажется триумфом говора “низов” (с этим вполне согласны те же Перцов и Зелинский), но не только. В этом смысле поступок моряка, пощадившего сестру убиенного Владимира, отнюдь не следует понимать как проявление якобы свойственного всем угнетённым человеколюбия; у Хлебникова это мимолётная подробность вакханалии, в которой нет внятного начала и конца, где всё перепутано, а шатия-братия в тельняшках только и делает, что сама себе противоречит. Совесть у представителя народной стихии просыпается во время пьяного умопомрачения, в состоянии, близком к белой горячке; невозможно понять, чем вызван этот мимолётный порыв человеколюбия, каковы его “начальные координаты”. В поэме Хлебникова это единственное событие, показывающее, что для её главного героя убийство врага что-либо значит.
Об отношении поэта к революционному насилию со всей определённостью сказано в стихотворении приблизительно той же поры:
Герой «Ночного обыска» (седой морской волк | Старшой | наш дядя) нимало не разделяет нравственных устоев автора, расстреливая оказавшего сопротивление белого гада | белого зверя на месте. Да, он в дальнейшем выказывает готовность принять смерть с тем же хладнокровием, что и казнённый Владимир, но единственно для того, чтобы этим доказать, что стойкостью врагу не уступает. Но Хлебников явно сомневается, доверить безымянному представителю примкнувших к знамени Разина и Пугачёва народных масс роль единоборца в такого рода поединке или нет. Судите сами: чтобы свести личные счёты с убитым, герой Хлебникова должен упиться до чёртиков. Нравственную подоплёку предстоящей борьбы раскрывает сцена, в которой вожак братвы признаётся, что неожиданная для него стойкость Владимира на очной ставке со смертью сопровождалась запредельной невозмутимостью:
Старшой, по всей видимости, подсознательно сомневается в своих возможностях сравняться с Владимиром, поскольку ищет смерти из соображений отрицания нравственного превосходства белого зверя. Ради этого он пускается во все тяжкие: восстаёт против заведомо превосходящей силы — бога, дабы обеспечить наивысший уровень морального оправдания расстрела храбреца, и, одновременно, доказать, что „и мы не лыком шиты”.
Бунт Старшого против бога в «Ночном обыске» созвучен провокационному посылу «Двенадцати» Блока в том смысле, что заканчивается полной противоположностью решения сцены в финале поэмы. Герои как Блока, так и Хлебникова действуют отрядами, они в равной мере обязаны проявлять бдительность — ни под каким видом не устраивать попоек во время несения службы, например; но и красноармейцы Блока шагают навеселе. И Блок, и Хлебников избирают образ Христа, дабы высказаться о своём отношении к последствиям вооружённого восстания; в обоих случаях финал поэмы совсем не тот, какой устроил бы её героев, разве что у Блока “уравновешивающее” явление Христа делает их предыдущие попытки очернить Его смешными, тогда как богохульство хлебниковского героя становится поводом для трагической развязки: мечте вожака братвы сравняться в стойкости с врагом не суждено сбыться. Разница, как видим, существенная; благодаря этому обстоятельству поэма Блока стала первенцем официальной советской литературы, а высокохудожественная поэма Хлебникова влачит полуподпольное существование.
Христос в поэме Блока прежде всего — сущий над повседневностью, а не отвлечённое понятие, каким его воспринимают (или могли бы воспринимать) герои поэмы. Кроме того, это исключительно авторский, привнесённый в поэму извне, художественный образ, благодаря проникновенным девяти строкам финала «Двенадцати» чрезвычайно убедительный. Надбытовая символика блоковского Христа подтверждается настойчивыми указаниями поэта (в различных позднейших пояснениях) на его личное безразличие к Нему; Блок явно стремится этим сказать, что Христос может и не устраивать его своей женственностью, но иного выхода нет, ибо такова сверхзадача поэмы. По сути, Христос как образец для подражания („впереди”) — следствие неприятия поэтом злодеяний революционной действительности. Восставшему народу, по убеждению Блока, не обойтись без этической поддержки Христа и его беспримерного подвига. Вот почему Христос в поэме не участник событий, а навязанное извне, волею поэта, утопическое предначертание, кажущееся автору жизненно необходимым.
А вот для Хлебникова образ бога не входит ни в обойму предзаданной символики, ни в грёзы утопических умопостроений. Бог «Ночного обыска» спрятан в русской поговорке „что посеешь — то и пожнёшь”: разухабистое обращение героя поэмы с верховными силами — следствие обыденной религиозности, что и предопределяет чисто бытовой итог притязаний Старшого в финале поэмы. Спаситель Хлебникова не выше, чем Христос Блока; его превосходство повредило бы событийной канве поэмы, где главенствует прямая речь: возгласы братвы и поток сознания их вожака, выраженный вслух. Бог всё-таки становится действующим лицом поэмы, хотя существует исключительно в пьяном бреду Старшого, где “любовный треугольник” (убитый белый зверь + он сам + бог) в момент усилия нравственно отождествить себя с казнённым Владимиром кажется ему равносторонним. Самомнение беспочвенное: герой Хлебникова трепещет перед тайной бога, а финал поэмы показывает, что его провокация отнюдь не подкреплена устойчивым этическим кодексом, который присущ не только отдельным представителям старого мира, но заложен в самой природе этого мира как сообщества (Старуха бесстрашно следует примеру погибшего сына, идя на смерть именно в тот час, когда братва не в состоянии смириться с неизбежным).
Провоцирование бога героем «Ночного обыска» подчинено закону потока сознания, не знающего границ между насмешкой и исповедью, страхом и обожанием. Подстрёк начинается высокомерно — с замечания
Провокатор отдаёт себе отчёт, что битва с тем, Сущим, немыслима, а вот сразиться с богом в углу — раз плюнуть. С неописуемым нахальством он заявляет, что, поскольку в этого бога только что безнаказанно выстрелили, его следовало бы расколоть на самоварную лучину, и это будет уголь лучшего качества. Из дальнейшего пьяного бреда узнаём о понимании героем поэмы своего (и его спутников) незавидного положения в революционном раскладе:
Первая фаза провокации героя завершается предчувствия божественного возмездия, страх перед которым неистребим в первобытном коллективном сознании, формально-декларативно освобождённом от “религиозных пережитков”. В дальнейшем провоцирование бога вожак братвы пытается представить проявлением этического сознания, а не пьяным вздором. Воображая, что имеет право говорить от имени своих товарищей (чему те, по-видимому, не склонны потворствовать: назюзился... наш дядя), он объясняет смысл своих подначек желанием вызвать бога на поединок и вырвать победу тем самым звонким смехом на пороге смерти, которым сам дядя был побеждён в поединке с белым зверем. Но Владимир его не оскорблял, а лишь попросил стрелять наверняка, в лоб. Дядя же обзывает бога девушкой (сравните с женственностью Христа у Блока) — что, по флотским понятиям, равно величайшему оскорблению, — стремиться поставить противника в безвыходное положение: не принявший такой вызов покрывает себя позором. Но и этого дяде мало, бог, по его мнению, ещё не припёрт к стенке: апогей провокации — зазывание девушки с бородой на попойку в компании проституток:
В итоге вся эта фантасмагория с попойкой в компании девушки с бородой работает как подсказка: хлебниковский Старшой — прообраз бесшабашных анархистов от природы, известных по рассказам Бабеля (Конкин, Сидоров, Афонька Бида). Заключительную часть богохульств героя «Ночного обыска» закономерно прерывают события финала, когда воспарившее было сознание возвращается к мрачной действительности: неизбежной смерти в муках и обретению нового, подлинного знания. Старшой наказан тем, что цель его богохульств не достигнута, символика бога сохранена в отведённом для неё поэтом пространстве и времени — за пределами поэмы; одновременно психологическая травма вожака братвы поведением Владимира усугубляется героическим поступком его престарелой матери, которым “изжитая” мораль в очередной раз выигрывает битву с героями нового мира. В финале поэмы Старуха — воплощение Мойры, но её перстом водит строго последовательное отношение к окружающей действительности, которая, по сути, и победила расхристанных героев новой жизни.
«Ночной обыск» написан в те же пять дней, что и поэма «Настоящее» (7–11 ноября 1921), в пору исключительной творческой плодовитости Хлебникова после возвращения из долгих скитаний по России, кровью умытой. Великому князю в «Настоящем» революция видится актом божьего гнева; в соответствии с таким её пониманием (авторским, разумеется) поэма полна голосами улицы и, в частности, гневными высказываниями Прачки, которые были приняты критикой за свидетельство приветствия Хлебниковым Октябрьского переворота. Однако «Ночной обыск» раскрывает подлинный смысл, вкладываемый поэтом в понятие божий гнев: у Хлебникова нет и намёка на так называемый суд истории, а этическую подоплёку поэмы отнюдь не следует понимать как заурядную месть. «Двенадцать» Блок — ночной окоём революционного возмездия, предваряющий утро повседневности громогласным провозглашением превосходящего всё и вся Христа; Хлебников же, после описания ночного бдения Великого князя в «Настоящем», рискнул показать тот самый будничный рассвет, который с многочисленными оговорками этической природы приветствовал Громеко в «Докторе Живаго» Пастернака. «Ночной обыск» не опровергает символику «Настоящего», а дополняет и поясняет её. Историческое возмездие революции — одно из проявлений космической справедливости, для которой, по Хлебникову, превыше всего кодекс, основанный на религиозно-этическом учении; Хлебников далеко ушёл от Блока, ибо не захотел спасать братву от нравственного бумеранга, лишив их поддержки Христа как Вседержителя. Он подготовил, а затем сорвал диалог героя с высшим этическим символом из поэмы Блока, раскрыв без авторского нажима (чего впоследствии не избегнут ни Булгаков, ни Пастернак) своё понимание возмездия в повседневной жизни человека. Тем самым Хлебников предварил «Зангези», где бога замещает личность художника-строителя и странника в вечности, иным образом, но с той же целью, которой руководствовался Блок, готовя свою речь о Пушкине и буднях истории. Нет сомнения, что концепцию «Ночного обыска» и «Зангези», равно и последние произведения Блока, следует принять как важнейшие вехи жизненной и художественной философии советской литературы, без которых невозможно представить себе позднего Булгакова и Пастернака.
Ты веруешь, что Бог един:
и бесы веруют, и трепещут.
(Иак. 2:19)
Умрём
И всё увидим, став умней.
Велимир Хлебников. Ночь в окопе
— Кисти Делакруа, — подсказывает вон тот, патлатый, — которую Энгр обозвал пьяным помелом.
Слушай сюда, сявка прижмуренная: по завету этого великана я смолоду строю жизнь: „Отступи от искусства на шаг, и оно отступит от тебя на сто шагов”. Поэтому и разменял пятый десяток из семи у подножия Велимира Хлебникова по самые ноздри в дерьме и с расклёванной падальщиками плешью: ныряй, сволочь, а то вконец уморщим.
«Смерть Сарданапала», кстати говоря, годится не только приужахнуть нервную девочку, но и предварить блистательный богословский трактат Миливое Йовановича. Тот же самый Старшой и убийцы с марухами в дыму-пламени. Спасайся, кто может.

Где богословский трактат, там и Священное писание, не так ли. Допрежь Йовановича таковым слыла сверхповесть «Зангези». Хотя все знают, что «Ночной обыск» в неё Хлебников так и не включил. Занёс было руку, но передумал: слишком хорошо — уже не хорошо.
На этом бы и поставить точку, но нет: а взнос лепты в хлебниковиану? Семи-то копеек? Не имей сто рублей, а имей одну наглую рожу, так? Так. Приступим.
Как видите, трактат великосербского богослова гутенбергирован отнюдь не самой известной даже в Белграде друкарней. И как же, спрашивается, наглая рожа Молотилов на него вышел? Неисповедимыми путями, как всегда.
Всем бы эдак вот расхрабриться, как этот серб. Александр Блок, если кто не знает, руки таким отрывал:
Александр Блок, милые вы мои неосведомляне, с детства норовил писать в стол. Этому беззастенчиво препятствовали две гомерические скалы, Сцилла и Харибда: по первости мать, а там и Любовь Дмитриевна выметнулась, как Венера, она же Иштар, она же Кали (Дурга), она же Афина Паллада из головы Зевса по имени Дмитрий Иванович Менделеев. Ближний круг Блока до боли напоминает Старуху с белой барышней в «Ночном обыске»: вынь да положь соответствие чину властителя дум. И Блок, с доходящим до позыва на рвоту отвращением, но печатался. И даже проник в советскую литературу. Кабы не те две скалы — не проник.
Ино дело Велимир Хлебников. Он довольно-таки рано выпал из гнезда, но ангел-хранитель подхватил на лету, и давай пестовать. Нет, вру: подхватил Вася Каменский, а в пестуны чья-то дурь или оплошка двинула Давида Бурлюка. Хлебников сопротивлялся, но довольно вяло, не как Блок. Сейчас поймёте, почему.
Известно ли вам, что годовая подписка на «Золотое руно» влетала в рысака с родословной и тремя симменталками в придачу? Ну так знайте. А у Хлебникова не только мышь в сахарнице повесилась, но и настольная лампа забастовала: керосин кусается. Приходилось побираться у богатеньких Бурлюков или Васи Каменского, мужа купчихи Августы Юговой, с которой Максим Горький писал свою Вассу Железнову, миллионщицу. А вы думали, где это Вася разжился на личный самолёт, поместье с охотничьими угодьями на Сылве и тому подобные изыски футуризма.
Короче говоря, у Велимира Хлебникова и в мыслях не было таить от человечества свой несусветный дар в тумбочке у какого-нибудь Парниса. Судите сами: втискивается в переполненный вагон, где соседи сплошь
В богословском трактате серба Йовановича меня всё как нельзя более устраивает, за вычетом вселенской смази: В. Марков ославлен подельником Б. Яковлева, гнойного порученца кровавой гэбни. Поскольку переводить с сербского не в пример (дополна ложных друзей переводчика) хлопотнее, чем с фарси (было дело), прилагаю подлинник:
Отсюда вывод: Йованович или английский знал на троечку, или преуспел в скорочтении себе в убыток. А вот Молотилов растянул смакование марковских загашников и схронов, они же копи царя Соломона, Эльдорадо и Клондайк. Хотите пройти мой путь за пядью пядь?
Не мной сказано, и всё-таки не хуже: торопливость нужна при ловле блох. Поправив Йовановича, позволю себе роскошь освежить в памяти весь марковский пересказ «Ночного дозора». Плевать, что время поджимает (в работе Raymond Cooke. Chlebnikov’s ‘Grid’ (Rešetka): A Missing Key to Nočnoj obysk).
Разница подходов Маркова и Йовановича очевидна: обо всём понемногу | всё о немногом. Вынужден примкнуть к всеобъемлющей краткости: сестра сами знаете чья — раз, не в бровь, а в глаз — два. Славист Йованович уже назван великосербским богословом; называю вдругорядь. Кабы не вселенская смазь Маркова — удостоился бы у меня и пророка.
Всеобъёмлющую краткость понимаю так: у Йовановича бог и богохульство упомянуты 22 раза, у Маркова — девять; разницу разительной не назовёшь, но слово предоставляется объёму перегоняемой крови:
Ума холодное наблюдение — да, крик души — не смешите мои тапочки. Мне подавай сердца горестные заметы, ибо мерилом истовенности полагаю строку Алексея Владимировича Эйснера (1905–1984): человек начинается с горя.
Горя Марков хлебнул, но это не костёр Джордано Бруно. А у Велимира Хлебникова даже не старушка подкладывает хворост, а самосожжение, последний подвиг Геракла.
Все знают, что Джордано Бруно сожгли за длинный язык: отрицал непорочное зачатие, Пресвятую Троицу и проповедал множественность миров бесконечной вселенной; последнюю, кстати говоря, Бруно полагал не просто живой, а мыслящей. Богом, иначе говоря. Соблазнился ли Еня вдохновенной проповедью этого еретика? Никак нет. Тогда чем.
Сейчас вы, коли покамест не задумывались над этим, поймёте разницу между еретиком и богоборцем: мыслимое ли дело восстать на Природу (она же Бог), будучи её (Его) составной частью? Мыслимое: зарежься, удавись и всё такое. Это ересь; а вот прямая речь богоборца:
Не подумайте, что Зангези воображает себя заоблочным исполином: на всём протяжении Плоскости XIX он восседает на коне, напоследок называя себя диким всадником звука. Повелителем умозаключений вслух, стало быть.
И этот повелитель мнит себя боговидцем сверху вниз: Спаситель, дескать, маячит нимбом где-то между стременем и седлом. Иными словами, хлебниковский Зангези вообразил себя выше бога по развитию даже не на голову, а на туловище с головой.
А вы сличите с продымленным финалом «Ночного дозора», сличите:
И эта высокомерщина — последнее слово Старшого | Ени Воейкова | Зангези — многоликого alter ego Велимира Хлебникова.
Памятуя о Делакруа, сочтём отсебятину Молотилова подмалёвком. Вот он подсох, приступаю к прописыванию, но не колонковой кистью Луки Лейденского, а флейцем Андерса Цорна. Чтобы р-р-раз — и в раму.
Итак, с еретиками разобрался ещё брат Господень Иаков: и бесы веруют. О безбожниках сказано опять-таки не мной, но с меткостью Вильгельма Телля: имеющему прибавится, у неимущего отымется. Богоборцев то и дело ставят на одну доску с еретиками: глупость несусветная. Тянуть кота за хвост не в моих правилах; скажу так: богоборцы — краса и гордость христианства. Ибо веруют истовеннее бесов, но не трепещут оказаться наглядными пособиями возмездия нечестивцам. То самое, что Гегель назвал отрицанием отрицания.
Дабы нагляднее отделить овнов от козлищ, перехожу к доказательствам от противного (признак верного лекарства, не так ли).
Ульянов-Ленин: богоборец или кто? Или кто: хочу отмстить за казнённого брата. И пошло-поехало отреченье от старого мира за вычетом самодержавия Джугашвили-Сталина, былого семинариста, в дальнейшем людоеда. Ну и что людоеда: при Сталине православию вышла маленькая, но поблажка. Где тут богоборчество? Не вижу. Ино дело Карл Маркс:
Вон тот, патлатый, опять лезет под руку: не вздумайте обойти вниманием Ницше, а то сяду на пол и запою. Слушай сюда, знаток: никакой Ницше не богоборец, а шалун. Чьи слова „Бог умер”? Не опочил от дел, не самоустранился, а прекратил существование? И каждый, дескать, осёл подходи и пинай? Ницшевы. А потом завыл на луну в дурдоме.
Точно такой же озорник и Владимир Маяковский: краснобайство с умыслом раззадорить Лилю на блуд.
Прометей, кстати говоря, такой же полубог, как и Алкид Геракл. Но кончить самоубийством не надо: прикован. Сатане, он же Мефистофель Гёте, он же булгаковский Мессир, не дано по другой причине: хоть и падший, но вполне себе ангел. Богоборчеству Мессира грош цена: вечно живой.
— Как это грош, — прекословит М.А. Булгаков, — а подвиги человеколюбия в Москве? По головке не погладят!
— Печень у вашего Мессира целёхонька, и запястья не стёрты до костей, так? Так. Где возмездие хотя бы по Блоку, не говоря о хлебниковском?
Притих, задумался. То же самое и патлатый. Самое время закругляться: отсеялся. Напоследок напомню воззвание Велимира Хлебникова с гноища в санталовской баньке: помогите вернуть дар походки.
А теперь вспоминаем Спасителя из конского подбрюшья в Плоскости XIX «Зангези».
| Персональная страница Миливое Йовановича на ka2.ru | ||
| карта сайта | 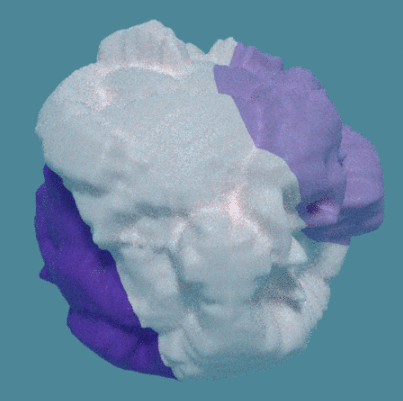 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||