

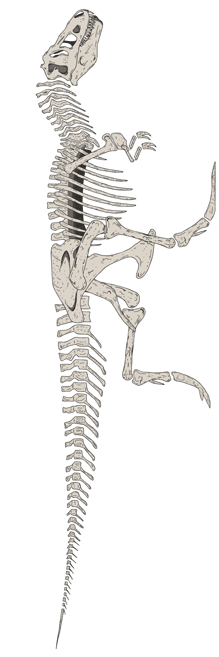
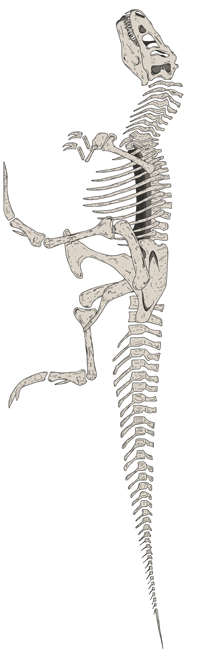 аличие паронимии и стихийной анаграмматичности в авангардных художественных построениях (ср.: Левин 1978; Баевский 1982; Шульская 1982; Lönnquist 1986: 301–308; Топоров 1987) — явление естественное и общелитературное. Оно вызывается тем принципом художественного текстопостроения, который был определен Якобсоном как „направленность (Einstellung) на сообщение как таковое”, т.е. как „поэтическая функция”, которая „проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации” (Якобсон 1975: 202, 204). Этот принцип начинает теперь переосмысляться как авторефлексивность, рекуррентность и конверсивность художественной речи, т.е. как взаимопроекция — и мена местами — порождаемых на обоих осях формальных и семантических парадигм (см.: Смирнов 1985а; Faryno 1987a. Попутно отмечу, что этот подход косвенно перекликается с вновь актуализуемой мыслью Карцевского об асимметрии лингвистического знака, — ср.: Karcevski 1929, Карцевский 1965, W. Steiner 1978, P. Steiner 1982, Ковтунова 1986а). Повышенная же активность поэтической функции в авангарде, ведущая к повсеместности паронимии и анаграмматичности, с одной стороны, и, с другой, — его обращение к классическим жанрам анаграммы, акростиха, палиндрома и другим родственным, т.е. к жанрам, требующим если и не вовсе метасемиотического сознания, то по крайней мере утончённого семиотического чутья, объясняются принципиальной установкой авангарда на дешифровку накопленного культурой запаса текстов и кодов, установкой, которая нацелена не столько на сообщаемое (семантика), сколько на сообщающее — код и его значимости. В покоящемся на принципе дешифровки авангардном сообщении традиционная предикация оборачивается экспликацией, а сам предикат — семой якобы предицируемого. Итог таков, что вместо того, чтобы строить некий мир (текст, культурему, мифологему, архисему или архилексему), авангард, наоборот, “разрушает” этот мир (текст, культурему, мифологему и т.д.) и, на деле, выявляет устройство, значимости и возможности создавших данный мир (текст, культурему и т.д.) семиотических систем, в том числе и языка (см.: Faryno 1988a; 1988b; ср. также книгу Ковтуновой — 1986b, сохраняющей, к сожалению, термин ‘предикат’ и для синтаксических структур поэзии авангарда).
аличие паронимии и стихийной анаграмматичности в авангардных художественных построениях (ср.: Левин 1978; Баевский 1982; Шульская 1982; Lönnquist 1986: 301–308; Топоров 1987) — явление естественное и общелитературное. Оно вызывается тем принципом художественного текстопостроения, который был определен Якобсоном как „направленность (Einstellung) на сообщение как таковое”, т.е. как „поэтическая функция”, которая „проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации” (Якобсон 1975: 202, 204). Этот принцип начинает теперь переосмысляться как авторефлексивность, рекуррентность и конверсивность художественной речи, т.е. как взаимопроекция — и мена местами — порождаемых на обоих осях формальных и семантических парадигм (см.: Смирнов 1985а; Faryno 1987a. Попутно отмечу, что этот подход косвенно перекликается с вновь актуализуемой мыслью Карцевского об асимметрии лингвистического знака, — ср.: Karcevski 1929, Карцевский 1965, W. Steiner 1978, P. Steiner 1982, Ковтунова 1986а). Повышенная же активность поэтической функции в авангарде, ведущая к повсеместности паронимии и анаграмматичности, с одной стороны, и, с другой, — его обращение к классическим жанрам анаграммы, акростиха, палиндрома и другим родственным, т.е. к жанрам, требующим если и не вовсе метасемиотического сознания, то по крайней мере утончённого семиотического чутья, объясняются принципиальной установкой авангарда на дешифровку накопленного культурой запаса текстов и кодов, установкой, которая нацелена не столько на сообщаемое (семантика), сколько на сообщающее — код и его значимости. В покоящемся на принципе дешифровки авангардном сообщении традиционная предикация оборачивается экспликацией, а сам предикат — семой якобы предицируемого. Итог таков, что вместо того, чтобы строить некий мир (текст, культурему, мифологему, архисему или архилексему), авангард, наоборот, “разрушает” этот мир (текст, культурему, мифологему и т.д.) и, на деле, выявляет устройство, значимости и возможности создавших данный мир (текст, культурему и т.д.) семиотических систем, в том числе и языка (см.: Faryno 1988a; 1988b; ср. также книгу Ковтуновой — 1986b, сохраняющей, к сожалению, термин ‘предикат’ и для синтаксических структур поэзии авангарда).Результат (и задача) паронимных парадигм в классическом тексте — пансемантизм текста и создаваемого в этом тексте мира, их изоморфность вплоть до тождества, а на уровне семиотических отношений — превращение условного в мотивированное и иконическое, дискретного речевого потока в недискретное тексто-пространственное образование; во всяком случае, такой текст стремится стать одной нечленимой ‘архисемой’ (ср. понятие архисемы в: Лотман 1970, а понимание текста как пространства в: Топоров 1983).
Аналогична и задача классических — сознательно составляемых — анаграмм. Так, по наблюдению Топорова (1987: 200) во вступительных семи стихах «Энеиды»
Не сложно увидеть, что в таких случаях “вживляемая семема” (тут — ‘Рим’) — исходная текстопорождающая (ведающая проекцией парадигматической оси отбора на ось комбинации) и интерпретирующая семема, являющая собой и цель сообщения. Таковы, собственно, и ещё более древние индоевропейские анаграммы с заданным, но рассеянным по пространству текста и подлежащим повторному читательскому синтезу именем бога, в чем Топоров (там же: 215) склонен усматривать аналогию мифа “первого жертвоприношения” — расчленения тела божества и последующего возрождения из смерти в усиленной полноте.
Исходная заданность и повторная вычленимость имени в древней анаграмме проливает свет на более фундаментальное свойство как самой анаграммы, так и художественного текста вообще: текст оказывается в данном случае всего лишь устройством, трансформирующим некое предшествующее семантическое состояние “исходного имени” (текста1) в его иное семантическое состояние (в текст2; или, по иной терминологии, трансформирующим ‘пре-текст’ в ‘пост-текст’, — см.: Смирнов 1985b: 19–24). При этом степень семантического сращения отдельных формальных и семических компонентов рассеянного по трансформирующему тексту имени (‘пре-текста’) с формально-семическими компонентами самого трансформирующего текста — это одновременно и степень семантической насыщенности получаемого имени — ‘пост-текста’ (бывши ‘семемой’, оно становится теперь ‘архисемой’, и хотя внешне оно совпадает с исходным, тем не менее ни семантически ни семиотически уже ему не тождественно).
Само собой разумеется, что в большинстве случаев мы имеем дело с, так сказать, редуцированным текстом, т.е. с трансформирующим звеном без вычлененного ‘пре-текста’ и с искомым ‘пост-текстом’ (роль первого берет на себя, как правило, лингвистический уровень такого текста; что касается ‘пост-текста’, то он образуется в процессе читательской интерпретации; см.: Faryno 1987a) или же, как в случае сонета Вячеслава Иванова «Есть мощный звук: немолчною волной...» из цикла «Золотые завесы» (Иванов 1976, 197–198; его разбор см. в: Аверинцев 1976: 48–49; Faryno 1980: 150–152; Топоров 1987: 222–223), с трансформирующим звеном только без ‘пре-текста’: [Маргарита1] → мир и текст сонета [постепенно перестраивающийся или артикулирующийся в одну финальную архисемо-лексему] → “(Сирена) Маргарита”2.
Как видно, предел паронимных и анаграммных построений и таких трансформаций и сворачиваний — вбирающая в себя семантику трансформирующего текста и стремящаяся обособиться и подменить его собой новая архилексема (полученное имя), которая по своему статусу — не что иное как новая ‘мифологема’ или ‘культурема’ очередной более усложненной генерации. В случае отрыва от текста и самостоятельного функционирования её семантикой будет как раз породивший её и подменяемый ею текст, по крайней мере те единицы текста, из которых вычленились её составные элементы, а шире — те системы внутритекстовых эквивалентностей, оппозиций и предикаций, в которых она участвовала.
Иначе говоря, традиционное текстопостроение, трансформируя, шифрует и порождает новые культуремы, т.е. перестраивает и усложняет семантику имеющихся общекультурных и общелингвистических единиц. Такой смысл, в частности, стоит за поиском индивидуальных поэтических образов Пушкина, Тютчева и Баратынского в «Поэзии слова» Белого (1922: 7–19 и след. или 1983: 551–556) — ср.:
Так же, видимо, следует понимать и идею ‘памяти слова’ о его прежних контекстах (см.: Бахтин 1982: 165–166 или 1972: 346 и др.). Став общеупотребительной, такая лексема-‘культурема’ выдает свою память косвенно: в виде расширенной или суженной сочетаемости, способности быть предикатом, нового стилистического узуса и т.д.
Но если в классическом тексте построение такой ‘архилексемы’ — предел его трансформаций, а иногда и его формальный конец (текст уже замкнут и не может ни продолжаться, ни внутренне перестраиваться), и если в данном случае новый текст — уже некий отдельный другой текст с другой ‘архилексемой’, в результате чего порождающая их культура — культура множества текстов, сворачивающихся в такое же множество культурем, которые и создают некий новый более сложный вторичный уровень в рамках данной культуры, её семантический универсум, то постсимволистский, или авангардный, текст начинает именно с унаследованной архисемы (культуремы, мифологемы) и трансформирует — дешифрует — её вспять, двигаясь к ‘пре-текстам’ вплоть до исходных предъязыковых или вообще предсемиотических инстанций. Поскольку предел дешифровки — одни и те же семио- и культурогенные инстанции, то теперь культура в целом из разрозненного набора сильно индивидуализированных текстов или культурем (идеолектов, кодов) возвращается к своему исходному единству (так, внешне разительно несхожие Ахматова и Кручёных, Мандельштам и Хлебников, Пастернак и Цветаева и т.д. обнаруживают глубокое родство не только по свойственной им установке на дешифровку, но и прежде всего по открывающейся финальной картине мира).
В пределах слова его семантика расслаивается на актуальное (вариантное) и инвариантное значения с позицией последнего как эксплицированной и реализованной ‘семы’. Актуальное же значение устраняется, что часто получает также и сюжетное решение. Так, в «Женах смерти» (Хлебников 1971, IV НП: 161; курсив мой — Е.Ф.) первый череп — вариант (атрибут и частный признак персонажа), а второй — инвариант, понятие (сущность):
Не сложно понять, что за этой операцией стоит выявление системной единицы языка — означаемого (или: понятия, концепта; ср. в то же время сформулированную дуальность языкового знака в «Курсе общей лингвистики» Соссюра — 1977: 98–103, 144–150) и что здесь налицо стремление поменять местами речь и язык, парадоксальное стремление авангардистов „говорить на langue”, а не „на parole”, с одной стороны, а с другой, — строить не конкретную картину мира, а вскрывать стоящую за ней инвариантную модель (ср. ведущий лозунг авангарда — „слово как таковое” и “вещь без имени”; ср. также не до конца рассекреченную сущность перехода авангарда на langue в «Антимонии языка» Флоренского — 1986: 141–154).
Такое же расслоение наблюдается и по отношению к плану выражения (к означающему). Так, по крайней мере в теоретических концепциях Хлебникова, выявляются и реализуются чисто ментальные сущности или инвариантные значимости (условно говоря, ‘фонемы’ и ‘графемы’), а не вариантные их актуализации, т.е. не звуки и буквы. Если и тут не забывать о контексте тогдашнего языкознания (Бодуэн де Куртенэ, Крушевский, Соссюр — см. хотя бы лекции «Звук и значение» в: Якобсон 1985: 30–91 и там же — 331–347 — статью о Крушевском), то искомому Хлебниковым плану выражения отвечает чисто ментальный смыслоразличительный (дистинктивный) “акустический образ” или “означающее” словесного знака. С данной точки зрения становится более отчётливой та интуиция Хлебникова, которая заставляла его именовать свою искомую систему Азбукой ума или заумным языком. В этом свете иначе представляется и вся “звукопись” авангарда — на деле она не артикуляторная и не акустическая (не речевая), а именно языковая, смыслоразличительная, и в итоге — ментальная, умосозерцательная. Она — не речь, а система, и по отношению к речевым звукам и буквам авангардные ‘звуки’ и ‘буквы’ — их сущностные ‘семы’, их ‘внутренняя форма’ (правда, ещё не “фонемы”, как не были ещё фонемами даже “фонемы” Бодуэна де Куртенэ; ср.: Якобсон 1921: 48; Janecek 1985; Matejka 1986: 536–540). У речевого ‘ч’ может быть сколько угодно вариаций-реализаций, у Хлебниковского же ‘Ч’ — только один единственный инвариант, и этот инвариант не ‘архисема’ (он не объединяет в себе значений всех слов, в которых встречается), а архесема, некая изначальная и всюду неизменно повторяющаяся элементарная значимость (см. статьи «Разложение слова», «Перечень. Азбука ума» или «Художники мира» в: Хлебников 1972, III V: 202, 207, 217–218, 219 и др.).
Такое движение вспять к архесеме ещё заметнее в случае фактических этимологии, когда восстанавливается по крайней мере ближайший этимон (обычно называемый забытой внутренней формой слова). Так, например, в главе 4, части третьей «Охранной грамоты» (Пастернак 1982: 263) „бульвар” предицируется „Пушкиным” и „Никитской”, но он одновременно эксплицируется как Bollwerk, т.е. ‘городской вал’, ‘бастион’ с очередной экспликацией сем ‘пушка’ и ‘победа’. Примечательно при этом, что именно такая задача ставилась и лингвистами того времени в поисках закономерностей в области диахронной системности языка (ср. хотя бы главы «Аналогия и эволюция» и «Народная этимология» в: Соссюр 1977: 203–211 или разрабатываемую Потебней теорию внутренней формы слова — Потебня 1976).
Анаграмматические построения встречаются у авангардистов сплошь и рядом, но они менее формальны и более спонтанны, чем классические, и с принципиально противоположной задачей. Вместо того, чтобы сворачивать текст в имя, они, наоборот, выносят такое имя-текст в ‘пре-текст’ (чаще всего в заглавие или в посвящение), а сам текст становится их дешифровкой, их семантической экспликацией, т.е. заданное исходное имя разворачивается в текст:
Таковы, например, стихотворения «Памяти Рейснер» Пастернака (1965: 212–213), «Имя твое — птица в руке...» из «Стихов к Блоку» или «Небо катило сугробы...» из посвященного Илье Эренбургу цикла «Сугробы» Цветаевой (1980: 227; 1982: 160), „уголовный роман” Кручёныха «Ванька-Каин и Сонька-Маникюрщица» (Крученых 1973: 407–428) и др. (ср. ряд разборов в: Топоров 1987; Rister 1985, 1987; Faryno 1987b, 1988a, b, с). Но, в отличие от традиционных анаграмм, ни заданное, ни опознаваемое читателем имя не дает разгадку текста: знание имени и его этимонов обеспечивает лишь связность тексту и его мотивно-семической парадигме. Имя в этом случае ставится в одном ряду со всеми иными исходными культуремами и мифологемами. Системы предикатов и сюжетов, сформировавшие такое имя или такую мифологему, превращаются в эксплицированные семы, которые в свою очередь подвергаются очередным экспликациям (очередным разложениям) на ещё более элементарные и часто фактически более архаичные семы. Так, пушкинский пророк у Хлебникова («Одинокий лицедей» — Хлебников 1968, II III: 307) продлевается вспять через библейскую ситуацию к мифу о Тезее и Минотавре (т.е. движется к ‘пре-текстам’ Пушкинского «Пророка»). К тому же критскому лабиринту — через «Комедию» Данте — уводят и пастернаковские блуждания-лабиринты в венецианских главах «Охранной грамоты» (см.: Faryno 1988d, e).
Само собой разумеется, что, в отличие от научной реконструкции, художественная дешифровка этимологии, имён или мифологем не обязана повторять и не повторяет шифровавшего их пути, создавших их контекстов, наоборот — чаще всего эти унаследованные шифровки оспариваются и вместо них предлагаются новые (более “правильные”) прочтения культуры. И тут как раз реализуется авангардом интертекстуальный диалог с культурным наследием (ср.: Смирнов 1985b). Так, в «Теме с вариациями» Пастернака (1965: 161–167) со сфинкса и сирен снимаются популярные представления-предикации в пользу иных, более истинных, сем. Сфинкс оказывается “предком поэта” (Пушкина) и уже как ‘предок’ выявляет свою ещё более архаическую сущность “предка-кузнечика” (чем, отчасти, реализуется тютчевское „Природа — сфинкс”, но, с другой стороны, опровергается “губительность искуса природы-сфинкса”); с сирен же снимается такая „дичь” как „чешуя” и „рыбий хвост” („Он чешуи не знает на сиренах, / И может ли поверить в рыбий хвост / Тот, кто ...?”) и восстанавливается якобы более исконная их сема “мировой любовной страсти, экстаза”.
Переход с предикации на экспликацию ставит предикат в роли толкования дешифруемой словоформы, в роли её семы. Это значит, что такая конструкция обретает семантическую симметричность и что она обратима и допускает двустороннее чтение, но с семиотической асимметрией (ср. возможность обратного прочтения Цветаевского „Минута: ми́нущая: минешь!” как „минешь: ми́нущая: Минута!” — Цветаетва 1983: 92), т.е. чтение по принципу палиндрома. Если под палиндромом понимать только результат обратного чтения (в этом смысле термин ‘палиндром’ употребляется в: Алексеев 1951), то тогда все авангардные построения и авангардные чтения культуры — не что иное, как именно палиндром. Поэтому вовсе не случайно в авангарде воскрешается и классический жанр палиндрома, правда, в ограниченном объёме (отдельные замечания и некоторые опыты истолкования палиндрома у авангардистов см. в: Якобсон 1921: 66; Jakobson 1981: 575; Markov 1962: 157; Смирнов 1979: 341; Cooke l980: 22; Lönnqvist 1986: 299–301; Флоренский 1986: 151–153).
Классический палиндром (от греч. palindromeō — ‘бегу назад’, ‘возвращаюсь’) или, в русскоязычном варианте, перевертень — это такое речевое образование, обратное прочтение которого (т.е. прочтение вспять) даёт полноценный осмысленный текст вплоть до тождественности исходному речевому образованию в его нормативном порядке чтения.
В своем классическом виде палиндром мало продуктивен и даже у авангардистов не так уж и распространён. Тем не менее внимание авангарда к этому маргинальному и к тому же формально чрезвычайно жёсткому жанру значимо уже само по себе: нельзя исключить, что в механизме палиндрома авангард видит одну из реализаций собственного глубинного тексто-смысло-дешифрующего механизма. Поэтому целесообразно присмотреться к нему несколько пристальнее.
Наиболее строго жанр палиндрома выдержан в поэме Хлебникова «Разин» (она датирована 2. VII. 1920; в: Хлебников 1968, II: 202–215, комментарии на с. 318; ср. также автокомментарии Хлебникова в статье «Свояси» — там же; III: 8–9), — за исключением пролога, каждый из её стихов дает один и тот же ‘текст’ в обоих направлениях чтения. Кроме того, она читается и с конца, но на этот раз с обратным ‘сюжетным ходом’: если сюжет нормативного порядка состоит из глав «Путь» — «Бой» — «Дележ добычи» — «Тризна» — «Пляска» — «Сон» — «Пытка», завершается стихом Мы низари летели Разиным и соотносится с историей Разина, то сюжет обратного порядка соотносится, по словам Lönnqvist (1986: 300–301), с самим Хлебниковым как “Разиным навыворот”: он начинается с мены Мы на Разиным — ‘мы (низаР) и ((летел)и) (разин)ым’, после чего следуют «Пытка» — «Сон» — «Пляска» — «Тризна» — «Дележ добычи» — «Бой» — «Путь», который завершается прологом, ставшим теперь “эпилогом” со значением во головах свеча, боль; мене ман, засни заря, т.е. р“астворения в запредельном”, и с меной “заклинательной формулы” пролога на ‘сему’ Валтазарова пира (мене ман явственно отсылает к прочтению пророком Даниилом как конец проступивших на стене огненных письмён „МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН” и означающих „исчислил Бог царство твоё и положил конец ему”, „ты взвешен на весах и найден очень лёгким”, „разделено царство твоё и дано Мидянам и Персам” — Даниил, 5: 25–31), что соотносит теперь “Хлебникова-Разина-навыворот” с царём Дарием и пророком Даниилом (что отражалось в отсутствующем стихе Я Разин и заря, где заря — не только сущность Хлебниковского “Я”, но и эквивалент полученной Даниилом „багряницы” и провозглашения его „третьим властелином в царстве”).
Состоящий из двух стихов пролог «Разина» интересен тем, что читаемый вспять по отдельности каждый из его стихов дает иной текст, чем в прямом порядке чтения:
| стих 1а | Я Разин со знаменем Лобачевского логов |
| гоко | |
| даёт фразу 1б | ‘во||голо ||свеча||боль||мене||ман||з сни||зарЯ’, |
| ваха | |
| а стих 2а | Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря |
| ахав | |
| даёт фразу 2б | ‘Я||разин||с знаменем||ьЛобачевс о||логоВ’, |
| оког |
| 1а | Я Разин со знаменем Лобачевского логов. |
| 2а | Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря → |
| ахав | |
| 2б | ‘Я Разин с знаменем ьЛобачевс о логов. |
| оког | |
| гоко | |
| 1б | Во голо свеча, боль; мене ман, з сни заря.’ |
| ваха | |
Обоюдное чтение позволяет сказать, что нормативная фраза 1а является на деле фразой 2б (т.е. извлеченной из 2а), а 2а — фразой 1б (т.е. извлеченной из 1а). Во всяком случае, стих 2а не самостоятелен, он — извлечение из стиха 1а и играет по отношению к нему роль его семантического содержания. Сомнительна, конечно, и самостоятельность семантики стиха 1а — по отношению к стиху 2а он, в свою очередь, есть извлечение из стиха 2а и играет роль его семантического содержания. Несовпадение семантики текста с семантикой, извлекаемой при его обратном чтении, и манифестируется в этом исключительном для всей поэмы прологе: его композиция даёт ключ к соотношению текста и смысла поэмы. Чтение в прямом порядке вводит план выражения, строит некий мир, чтение же в обратном порядке этот же план выражения и этот же мир возводит в ранг плана содержания, семантики (если вспомнить палиндромы-“раки” европейского барокко, где обратное чтение часто отрицало смысл прямого прочтения и где палиндром уподоблялся по функции зеркальному отражению, выявляющему “истинное положение вещей” и “суетность мира сего”, то отношение между прямым и обратным чтением можно определить как отношение “кажимости” и “истины”; тогда прямой текст надо бы рассматривать как “ложный” или ‘не текст’, а обратный — как “истинный” или ‘текст’).
Если стих 2а читать как 1б, т.е. как извлечение из 1а, картина станет ещё более сложной и выдаст ещё одну особенность данного “ключа-пролога”. Всё это построение теряет свою аддитивность — стих 2а не присоединяется к стиху 1а и не продолжает его, а повторяет его, но уже на уровне извлечённой из него семантики. Это значит, что и тут реализуется механизм экспликации, с той только разницей, что эксплицируемая сема выводится не благодаря знаниям этимонов подлежащего экспликации, а при помощи более простого трансформирующего механизма — заданного обратного чтения. В отличие от анаграммных построений, тут наличествуют и ‘пре-текст’ и ‘пост-текст’, искомым же оказывается трансформирующее звено — не имеющие самостоятельного текстового выражения жанровые модальные рамки: ч‘итай в обе стороны’, или ‘палиндром’. Совпадение обоих прочтений тут не должно смущать: при прямом порядке имеется в“ариант”, “актуальное значение”, при обратном — “инвариант”, “означаемое”, “сущность” (как “п‘лощадь’ площади” или “‘череп’ черепа” — см. примеры выше). Вызванный же линейностью речи эффект их аддитивности оборачивается эффектом транссемиотического коллажа (ср.: Oraić 1987) или расщеплённого знака, когда к единице речи (parole) присоединяется единица языка (langue) и когда некое целое образуется путём присоединения семантики одной семиотики к плану выражения другой семиотики. Элементарнейший пример такого “коллажа” — так называемая реализация тропа (в частности, метафоры или сравнения), например, в эпизоде со стаканом в «Ошибке Смерти» (Хлебников 1968, II IV: 256):
Заданная линейностью речи последовательность (мнимая аддитивность) сохраняет некие внешние признаки сюжета или наррации. Но у этого сюжета или у этой наррации нет ни “героя”, ни “предмета высказывания” (референта) — они подменяются “семантикой иной семиотики”, в результате чего “сюжетом” становится тут сама семантическая экспликация или, точнее: транссемиотическая лестница (но об этом речь пойдет в очередной статье).
Несовпадение плана выражения: Я Разин со знаменем Лобачевского логов с его “семантикой” (Во головах свеча, боль; мене ман, засни заря) сигнализирует, что формально тождественное не есть тождественное и в остальных палиндромных стихах, что, например:
| Сетуй утес! | ‘!сету й|| утеС’ | ‘ ‘Сетуй утес!’ ’ | ||
| и | т.е. | |||
| Утро чорту! | ‘!утро||ч ортУ’ | ‘ ‘Утро чорту!’ ’ |
В случае идеального совпадения обоюдных чтений соблазнительно было бы говорить о том, что в этом случае план выражения отождествляется с планом содержания (семантикой). Дело, однако, в том, что “план содержания” (‘семантика’) взят тут из иной семиотики. Это особенно сильно ощущается в таких кратчайших палиндромных стихах как
| Оно. | дающее | ‘.онО’, | т.е. | ‘ ‘Оно.’ ’, |
| И | дающее | ‘N’, | т.е. | ‘ ‘И’ ’, |
| Я | дающее | ‘R’, | т.е. | ‘ ‘Я’ ’. |
Итак, если расхождение прямого и обратного чтений показывает нетождественность семантик обоих “текстов”, то их совпадение делает более отчётливым и нетождественность их семиотик. Другими словами, обратное чтение и иносемантично (если сема ‘ропот’ становится семой ‘топор’, то и сема ‘потоп’ не тождественна семе обратного прочтения ‘потоп’), и иносемиотично (если ‘ропот’ стал словоформой ‘топор’, то и ‘потоП’ — единица иного языка), а в итоге — “иноязычно”, независимо от степени омонимии между этими “языками”, а сам палиндром — образование “двухъязычное” или “двусемиотичное”.
Сказанное может вызвать ложное впечатление, будто палиндром обнажает условность языка или “языков”. Тем временем между этими “языками” тут устанавливается жесткая взаимная обусловленность. Более того, чтение вспять, дающее такое же сообщение (или слово), что и чтение нормативное (типа “кабак” — ‘кабак’, “казак” — ‘казак’), обычно воспринимается как подтверждение безусловности языка, раз и навсегда установленной некоей высшей инстанцией заданности. Такая инстанция в одних культурах может быть интерпретирована как родственная, например, божественному Логосу, в иных же — как абсолютная языковая компетенция или как проявление разных свойств правого и левого полушарий мозга (ср.: Лотман 1984: 20–22). И если совпадение обратного прочтения с прямым расценивается как показатель “исконности” или “истинности” данного слова (сообщения), то совпадение с другим имеющимся в языке словом (“ворон” — ‘норов’, “ропот” — ‘топор’, “Разин” — ‘низар’) или же отсутствие удобочитаемого и внятного результата тем более воспринимается как тайный смысловой план этого слова (сообщения), заложенный в нём инстанцией, которая создала язык. По этой причине в ряде культур чтение вспять может быть и желательным и противопоказанным. В обоих случаях, однако, оно расценивается как попытка разгадать устройство языка, овладеть его секретом и сверхчеловеческой мудростью, т.е. некими потусторонними знаниями, — безразлично, соотносимыми ли со сферой сакрального и покровительствующего или же со сферой демонического, колдовского, опасного, и в обоих случаях на обратное чтение налагается строгий запрет: оно допускается только в определенных обстоятельствах и, как правило, закреплятеся за носителями особой санкции (это обычно мудрецы, прорицатели, жрецы, знахари, кудесники, колдуны, ведьмы и т.д.).
Обратное чтение (произнесение) соотносится с нормативным как искаженное ↔ неискаженное; тайное ↔ явное; сверхъестественное, нечеловеческое (сакральное либо демоническое) ↔ человеческое; непостижимое (“за-умное”) ↔ постижимое, а сам акт обратного чтения (произнесения) понимается как имеющий влияние на такое же “искажение ↔ исправление” носителя нормативной формы имени, названия или сообщения. Переиначенное, а тем более обратное произнесение имени, — один из наиболее оскорбительных (реже — возвышающих) актов по отношению к носителю, оно функционирует как лишение носителя его естественного статуса “человека”, и чаще — как причисление его к “звериному” уровню (реже — к “сакральному”). Поэтому палиндром целесообразно рассматривать в более широкой системе культурных актов, и прежде всего — в системе нормативных и обратных (изнаночных) действий.
Общеизвестно, что такие обратные действия могут совершаться как с вредоносной целью — заколдовать, остановить некий процесс, сообщить ему ложный ход, так и с целью устранить порчу, расколдовать, вернуть естественное положение вещей, возобновить правильный ход и т.д. Само собой разумеется, что и во вредоносной, и в апотропаической функции обратного акта имеет место одна и та же операция с устойчивым, так сказать, инвариантным значением: “остановить ↔ возобновить” “нежелательное ↔ желательное” состояние пациенса или хода событий. Не сложно также заметить, что обратный акт несамостоятелен, он акт “высшего ранга”, “метадействие”. Аналогичен в этом отношении и палиндром: он тоже “метатекстовая операция”, проведенная на нормативном тексте, а результат обратного произнесения (прочтения) — несамостоятельное “сообщение сообщения”, т.е. сообщение, извлеченное из сообщения.
Выйдя из дому и увидев перебегающую дорогу чёрную кошку, следует вернуться, лучше всего — пятясь. Вернувшись же — немного побыть дома и затем снова отправиться в путь. Редуцированные варианты: плюнуть три раза через левое плечо, перекреститься или, по крайней мере, подождать, пока этот “след кошки” не пересечёт некто другой, кто её не видел и кому поэтому такое пересечение безвредно.
Покойника выносят из дому ногами вперед, ни в коем случае — головой.
Завершив некое действие, полагается сделать некий “замыкающий” знак, например, — завязать узел. Начиная же — производят знак “открывающий”, в частности, развязывают узел. А начатое дело остерегаются прерывать на его недискретной фазе.
Задачи препятствующих сил в волшебных сказках не только строго лимитированы временем, но и внутренне недискретны, безструктурны — они состоят из бесконечной итеративности действий и поэтому безрезультатны и неисполнимы (задача толочь воду в ступе, собирать зёрна рассыпанного мака, прясть, наматывать веретена и т.д.).
Вынос покойника ногами вперед означает его “выход из дому” и предотвращает его возврат (вынесенный головою вперед непременно вернётся). Так же заходя в опасное место задом наперед, входящий обеспечивает себе возможность выхода оттуда.
Завязывая узел, исполнитель не только завершает, но и “замыкает” действие, и тем самым обеспечивает “устойчивость”, “необратимость” уже сделанного. Творя же знак “начала”, — “открывает” возможность дальнейших действий и их желательного хода.
Вернувшись домой, возвращаются к исходной точке начатого пути и тем самым аннулируют возмущающее влияние перебежавшей дорогу кошки, после чего могут возобновить свой путь уже с правильным решением.
Временнáя лимитированность итеративных сказочных задач подразумевает аморфность или беспрограммность таких действий, а тем самым — их непродуктивность и неисполнимость.
Во всех этих случаях, как видно, обратность действия аннулирует неправильный шаг в процессе порождения этим действием его результата, возвращает к генерационному узлу, начиная с которого данное действие можно предпринять сызнова уже с правильным (эффективным) исходом. Вредоносность же заключается в том, чтобы вмешаться в процесс генерирования, прервать его и задать ложную генерацию. О том, что дело тут именно в “правильной генерации”, свидетельствуют магические практики, которые строятся на дублировании реальных процессов: таковы телодвижения, сопутствующие некоему действию, производимые либо самим исполнителем, либо вообще сопровождающим партнером (дублером); таков муж, повторяющий родовые корчи жены. При этом именно дублирующие действия считаются важнее реальных — у некоторых племен преобладает убеждение, что ребенка рождает не женщина, а дублирующий роды муж; на этом древнем смысле покоятся и некоторые цирковые номера, согласно которым фактическим исполнителем действия признается имитирующий дублер, а физический исполнитель — всего лишь “инструмент”, “орудие” исполнения (с каскадерами в кино включительно).
Прервать правильный ход генерации и направить его по ложному пути — задача сил вредоносных. Прервать неправильный ход генерации, вернуть его в исходный узел и возобновить правильную генерацию — задача сил содействующих. Функция сказочных помощников, например, как раз в том и состоит, чтобы следить за правильной генерацией — будить героя в нужный момент, напоминать в случае его забывчивости, выполнять невыполнимое в нужный срок, указывать (прокладывать) путь и т.д., а волшебные атрибуты играют роль замыкающих и открывающих генерацию (брошенные за собой платок или гребешок создают узлы, замыкающие уже проделанный путь и запирающие путь погоне).
Знахари, кудесники или колдуны не столько преодолевают кризисный момент пациенса (по образу современной медицины), сколько возвращают к предыдущей точке, к исходному состоянию. При этом изгоняемой хвори задается ложная программа — путь в“ поле, лес, болото”, а пациенс считает себя “вовсе не болевшим” (так, кстати, усыпленные сказочные персонажи просыпаются в той же кондиции, в какой и были усыплены, — даже если они и спят годы, это время в их биографию не засчитывается).
Желательность и целесообразность наоборотных (изнаночных) действий в случае неправильного хода событий (процесса) и, с другой стороны, запрет на такие обратные действия в случае правильного хода позволяет сформулировать их статус (или даже механизм) следующим образом:
• Обратность несамостоятельна; она производна от нормативной последовательности неправильной генерации и являет собой “негацию негативного” (погашение нежелательного);
• “Негация негативного” — не простое прекращение неправильного, а возврат, по крайней мере, к ближайшему генерационному узлу, с которого данный процесс может быть генерирован сызнова и уже в правильном (желательном) решении;
• Генеративный же узел определяется как такая точка в процессе порождения или в некоторой последовательности действий, где одна дискретная фаза (шаг) завершена, а другая ещё не начата и где порождение очередной фазы (шага) может получить как желательное решение (ход), так и нежелательное. В лингвосемиотике этой точке соответствует понятие катахрезы (см.: Smirnov 1984; Смирнов 1986; Biti 1987; о катахрестическом мышлении в системе авангарда см. в: Деринг-Смирнова, Смирнов 1982: 72–130).
Если теперь взглянуть на обрядовый годовой цикл народной славянской культуры как на порождающий процесс, то станет ясно, что вся обрядность и все табу, в том числе и табу на обратность, имеют своей целью поддерживать и регулировать правильную генерацию как природного (вегетативного), так и социального мира. Изнаночные акты включаются только тогда, когда возникает необходимость либо обмануть противника, либо вернуться с ложного пути и начать правильную генерацию заново. Это особенно хорошо видно на примере святочного изнаночного поведения (получившего распространенное толкование в терминах карнавала), когда один годовой цикл заканчивается и начинается другой. Как раз в этот момент народная обрядность изобилует наоборотностью: наоборотность (изнаночность) и значит тут возврат к мировому генерационному узлу, в точку космической катахрезы. Тут как раз вывернутый наизнанку мех обладает магическими свойствами генеративности, “плодородия” (поэтому каждый из участников такого обряда пытается выдернуть клок шерсти и сохранить его как гарантию обилия, приплода и т.д.). Возврат в генерационный узел, и есть возврат к началу начал, к тому моменту, где возобновляется очередной мировой цикл и начинается его новая правильная генерация. В славянской народной культуре это исходное катахрестическое состояние, это начало начал, персонифицируется в виде мирогенной инстанции, мира-божества, получившего в научной этнографической литературе имя Велеса-Волоса. При этом необходимо помнить, что все, так сказать, промежуточные генерационные узлы годового цикла обладают основными свойствами этой же исходной катахрестической мирогенной инстанции и фактически являются более или менее отчетливо выраженными её вариантами. Поэтому и персонификации этих узлов так или иначе сохраняют и повторяют свойства (признаки) исходного божества и тоже должны рассматриваться как его варианты-ипостаси. Так объясняются, в частности, функциональные сходства с Велесом-Волосом, например, домовиков или русалок, с одной стороны, а с другой, — таких более поздних славянско-христианских божеств, ведающих генерацией мира и отдельных годовых его стадий, как, например, Параскева-Пятница-Мокошь, св. Никола (вешний и зимний), св. Егорий (весенний и осенний), св. Илья и т.д.
Накопившийся опыт описаний и концептуализации художественной и декларативной практики авангарда позволяет определить её как манифестацию катахрестического сознания, сознания, локализованного в инициальной или промежуточной точке, там, где “нет ещё ничего” и “есть уже всё”, где бытие и небытие слиты воедино, где нет ещё никакой дифференцированное, но откуда возможен выход как в бытие (порождение мира, неких его чувственно воспринимаемых форм), так и в небытие (полное растворение и исчезновение). Таковы, во всяком случае, отчетливые и часто тематизированные на сюжетном уровне “мёртвые точки”, типа: ‘коромысла’, ‘рычага’, ‘безмена’, ‘восьмёрки’ и т.п. у Хлебникова, Цветаевой, Пастернака, Заболоцкого и многих других авторов (см. хотя бы: Деринг-Смирнова, Смирнов 1982; Lönnqvist 1979; Faryno 1985, 1986, 1988a–b; Rister 1988). Так могут объясняться и типологические переклички авангарда с культурой барокко (см.: Смирнов 1979; Bencid 1984).
Наивно, однако, было бы считать, что авангардная катахреза самостоятельна, первична, что она — исходная (отправная) точка мировосприятия и текстопорождения. Исторически она — вторична, результат всего предшествующего культурного цикла, т.е. результат исчерпания его генеративных возможностей (так сказать, свёрнутости в семантический текст-универсум, в одну сплошную мифологему, уже не способную усложняться). Исчерпанность означает информативный тупик — всё, что ещё можно сказать (генерировать), полностью предсказуемо и оборачивается повтором известного (ср.: Смирнов 1988). Сообщение как единица коммуникации потеряло свою значимость. Тем самым потерял свою коммуникативную действенность и классический коммуникативный акт, построенный на передаче дискретных сообщений (ср. авангардные драматургические опыты с их “экспериментами” на коммуникативных актах и с их дешифровкой составляющих коммуникацию — ср.: Падучева 1983). А это значит, что теперь потребовался не только новый тип общения, но и принципиально новая семиотика с иным семиозисом (так сказать, транссемиотическая лестница и транссемиотический коллаж).
И декларации, и художественная практика авангарда, особенно раннего периода, убеждают в том, что авангард перешел к стратегии дешифровки. В вербальных декларациях прежняя культура текстов и отчужденных языков (кодов) объявляется ложной и формулируются требования сломать её и сбросить с „парохода современности”. В художественной же практике эта ломка реализуется иначе: перепрочтением культуры = совокупности текстов и кодов) вспять, по принципу палиндрома. В свете изложенной экспликации изнаночных действий народной культуры, это “чтение вспять” играет роль акта, аннулирующего неправильную генерацию и возвращающего к исходному (или хотя бы к ближайшему) генерационному узлу. Так авангардисты, устремляясь вперёд, движутся к истокам культуры и повторно открывают катахрестические генерационные узлы, что на мотивно-сюжетно-жанровом уровне выражается во вторичной актуализации, например, барокко (как ближайшего на диахронической оси “катахрестического родственника”) и наиболее архаичных мифов, в том числе и славянских миро- и культурогенных инстанций, типа: леших, русалок, кузнечиков, ведунов, психопомпов, вплоть до самого Велеса-Волоса и Большой Медведицы. Но это, так сказать, первая аналитическая и сенсационная фаза. Менее очевидна и более сложна другая: новая генерация, противостоящая объявленной ложной, аннулируемой генерации культуры сообщений.
Если палиндром — вариант дешифровки, т.е. любого чтения вспять, то не трудно увидеть, что такое чтение вспять является способом получения информации из информации (“мета-информации”), а точнее — выявления моделирующего характера дешифруемого нормативного текстопорождающего устройства.
Всякая семиотическая система являет собой строго регламентированный (если не вовсе замкнутый) универсум. В пределах такого универсума допускается множество частных сообщений, информативность которых возникает за счет того, что “что-то можно не сказать” или “сказать то же самое разными способами”. Но если выйти за пределы такого универсума, тогда откроется его “секрет”: все, что в его рамках сказано так или иначе, — всё это имеет один и тот же экзистенциальный статус, одну и ту же онтологию и одну и ту же кондицию. Говоря разное, такая система говорит только системное (по определению Якобсона, язык это то, чего на нём нельзя не сказать), внесистемное же в её сообщениях отсутствует (так, например, барочная живопись кишмя кишит рыхлыми преувеличенными телесами и биологизмом, но даже античные боги в ней отнюдь не атлеты, эремитам же тут и вовсе нет места, и вряд ли совместимы с этой системой даже спортивные фигуры XX века). Вот это обязательное системное и есть моделирующий смысл данной системы, или, иначе, её семиотическая значимость. Носителю системы она дана только одной стороной — содержанием своих сообщений, её же собственная значимость невычленима (ср.: Степанов 1971: 80–116). Дабы увидеть эту значимость, надо выйти за её пределы или сделать из неё систему-посредник. Обратное чтение превращает прежний план содержания (нормативное чтение) в план выражения для иного содержания. Это иное содержание и есть содержание семиотическое. Оно отвечает на вопрос: “что есть язык, как он устроен и что он значит?” Полное описание системы должно учитывать, что и как на ней можно сообщить, что и как сообщать на ней обязательно и чего и как в её рамках сообщить невозможно (последнее являло бы собой так называемую негативную поэтику, которая и освещала бы семиотическую значимость данной системы; показательный пример выявления такой “негативной поэтики” разных семиотических систем, т.е. того, чего они не говорят, — творчество современного польского поэта Виславы Шимборской — см.: Faryno 1975, 1979).
Дешифровка, ведущая к коду, имеет смысл не как реконструкция системы (её единиц и грамматики), а именно как раскрытие моделирующего (семиотического) содержания этого кода. Эту интуитивную цель авангарда Хлебников вербализует в терминах азбуки ума | заумного языка и т.д. Обратное же чтение культуры реализуется, в частности, в виде буквального или сюжетного палиндрома (ср. “биографическую” обратность от старости до рождения в его рассказе «Мирсконца» — Хлебников 1968, II IV: 239–245). Палиндром «Разин» с этой точки зрения — самое закономерное образование в рамках семиотики авангарда, независимо от того, извлекает ли он наружу фактическую семиотическую значимость языка и сообщения в его нормативном прочтении или же всего лишь мнящееся Хлебникову. Пока существенно другое: факт, что обратное прочтение даст такой же текст, но уже и иносемантичный и иносемиотичный (кстати, самим Хлебниковым «Разин» определяется как двояковыпуклая речь | двоякоумная речь или речь в обоюдно толкуемом смысле — см.: Lönnqvist 1986: 300).
В анаграммах, акростихах или в палиндромах в первую очередь отмечается их “пространственность”, в которой и усматривается их особенность и отличие от прочих, якобы линейно и однонаправленно построенных высказываний, ср.: Lönnqvist 1986: 301; Топоров 1987; Смирнов 1979: 341, где также идет речь и о времени:
Ссылаясь на наблюдения Алексеева (1951) над китайским палиндромом, несколько иначе этот вопрос ставит Лотман (1984: 19–20):
Слова Лотмана о том, что “обозримость” палиндрома „позволяет его потом читать в обратном порядке”, заслуживают особого внимания.
Из этого явственно следует, что “обозримость” или “визуальность” — не цель, а то промежуточное звено между нормативным и обратным прочтениями (между ‘пре-текстом’ и ‘пост-текстом’), которое, возможно, и передается в ведомство правого полушария, но для того, чтобы левое смогло прежде им же созданный текст прочесть в обратном направлении. Не исключено также, что правое полушарие “следит” за полнотой перебираемых вспять элементов. Это станет более очевидным, если иметь в виду не графический (буквенный) палидром, а произносимый, устный. Если учесть частые в устной речи метатезы, а иногда и палиндромы, и иметь в виду, что даже на фонетическом уровне речь не линейна, а одновременна и иерархична (ср.: Якобсон 1985: 82 и след.; ср. о симультанности текста как семантического пространства: Топоров 1983; Николаева 1987: 34 и др.), то “обозримость ”окажется естественной и для русского — но устного — палиндрома, и как таковой, как “обозримый”, он предваряет артикуляцию и фонацию. Если, далее, считать последние за акт членения, за перевод недискретного потока в дискретный, то и обратное чтение — произнесение должно быть тем более дискретным: чтобы произнести “Разин” как ‘низар’, слово “Разин” необходимо разбить не на слоги даже, а на отдельные “фонемы”. Это значит, что палиндром трансформирует единицы речи в системные единицы языка и что ‘пост-текст’ палиндрома — текст на langue, и что он не “звучащ”, он всего лишь фонемичен в строгом лингвистическом смысле этого понятия (интерес Соссюра к анаграммам объясняется именно поиском элементарных системных единиц языка — ср. его слова: „‹...› индоевропейская поэзия анализировала звуковую субстанцию слов ‹...›” — Соссюр 1977: 641). Одинаковым образом выявляют свою системную значимость и грамматические показатели, надстраиваемые над получаемым обратным фонемическим потоком: ‘мы/низар//и /летел//и/разин//ым’, — в отличие от прямого порядка чтения: „Мы,//низари,//летели//Разиным”.
Разбирая разные типы лингвистической афазии, Якобсон постулирует различение кодирующих и декодирующих операций и, в частности, говорит:
С данной точки зрения обратное прочтение-произнесение выдает установку говорящего на слушание-декодирование, а палиндром оказывается синтезом обеих установок — говорящего и слушающего, кодирующего и декодирующего и в итоге — актом автокоммуникации (ср.: Лотман 1973). Вот тут и открывается перспектива для понимания палиндрома как диалога с самим собой при помощи такого посредника-трансформатора как правое полушарие головного мозга. Это же должно привести и к более строгому обоснованию явления катахрезы.
Авангардный говорящий субъект — это получатель в роли отправителя, слушающий в роли говорящего (см.: Faryno 1987b). Поэтому он сообщает код дешифруемого и код (язык) играет роль речи. Ср. определение Леви-Строссом (1972: 48) Баха и Стравинского как „композиторов “кода””, Бетховена и Равеля — как „композиторов “сообщения”” и Вагнера и Дебюсси — как „композиторов “мира””:
Может показаться, что барокко и авангард синтактичны. Тем временем установка на дешифровку и код свидетельствует о другом: и первая и вторая формации трансформативны, а их различие заключается в целях трансформации. Барокко все трансформирует в знаки, а знаки — в знаки знаков (зеркало превращает внешний пейзаж в картину интерьера, а палиндром превращает уже значащее слово в значащее ещё нечто). Авангард же и мир, и культуру трансформирует (эксплицирует) в первичное космогоническое и семиогенное состояние (Пастернаковское «Зеркало» — 1965: 114–115, как и палиндром Хлебникова, сначала всё “дробит”, а затем переводит в иноранговый статус).
Дешифровке, естественно, подлежит у авангардистов и их субъект с постепенной трансформацией вспять к речегенным инстанциям и к космической ‘соме’ (ср. частоту мотивов языка, горла, голоса, одышек, задыхания, черепа, мозга и распятий, растворений, пере- и раз- воплощений). В этом случае “Я” авангардистов вновь обретает свое единство с макрокосмосом при том, что этот космос, — не “всё сущее”, а “потенция всего сущего”, т.е. мировое катахрестическое состояние: мене ман, засни заря.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 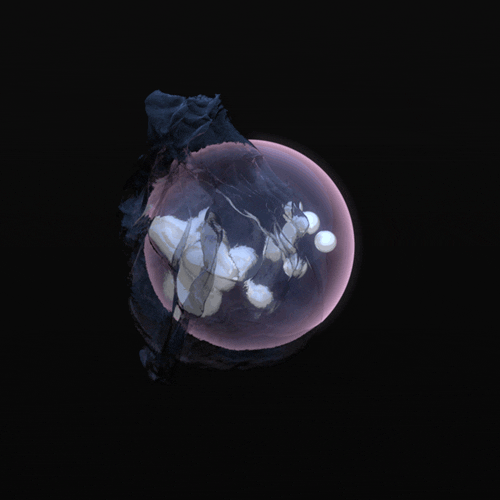 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||