

Мелкие вещи тогда значительны, когда они
так же начинают будущее, как падающая
звезда оставляет за собой огненную полосу;
они должны иметь такую скорость,
чтобы пробивать настоящее.
В. Хлебников. Свояси
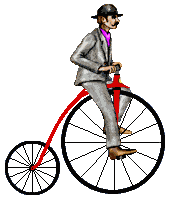 бсуждая речевое дело, с первых строк введения к «Зангези», Хлебников напоминает, что
бсуждая речевое дело, с первых строк введения к «Зангези», Хлебников напоминает, чтоРазносоставный монтаж мелких вещей и нередкая разновременность их происхождения не только не нарушают зодческого единства хлебниковских сверхповестей, но, напротив, развертывают и развивают их совокупную художественную проблематику.
Шестьдесят лет тому назад, весной 1919 г., рукопись сверхповести под заглавием «Война в мышеловке» была мне передана автором для включения в предполагавшееся издание «Всего сочиненного В. Хлебниковым». Весь текст этой рукописи был воспроизведен в стеклографированном выпуске серии «Неизданный Хлебников» (1928, №5) и в «Собрании произведений Велимира Хлебникова» (II, 1930, с. 244–258). При отсутствии дальнейших оговорок наши цитаты из писаний Хлебникова восходят к этому пятитомному изданию (Л., 1928–1933). Ссылки на единственное критическое издание авторского наследия, «Неизданные произведения Велимира Хлебникова», вышедшее под бережной редакторской рукой Н. Харджиева, (М., 1940), просто означаем 1940-м г.
Знаменательный финал всего цикла «Война в мышеловке» слагается из двух четверостиший, каждое из них под перекрестной рифмой.
Второе из обоих четверостиший сложено амфибрахическим размером, четырехстопным в начальной строке, трехстопным во всех остальных. Этому регулярно стопному размеру второго четверостишия противопоставлены пятисложные строки всего первого четверостишия с ударениями на начальном и третьем слогах в нечетных строках, на втором и конечном — в четных, т.е. антисимметрично отношение между нечетными и четными строками (особенно внутри первого двустишия) в трактовке обоих полустиший. Второе двустишие допускает легкие отступления — склонность к безударности начального слога в третьей строке (нетерпение) и факультативную ударность служебного глагола стать в среднем слоге четвертой строки; здесь сказывается взаимовлияние обеих строк в трактовке начального слога полустиший.
Первым из этих двух четверостиший открывается в свою очередь набросок стихотворения, напечатанный в сборнике «Мы» (М., 1920), с двумя дальнейшими поочередными четверостишиями — дактилическим, а затем амфибрахическим, где последняя, четырехстопная, строка противостоит трехстопному составу всех остальных.
С другой же стороны, четыре заключительные строки «Войны в мышеловке» выступают в качестве последней из двух строф восьмистишия «Мрачное», вышедшего первично в хлебниковском «Изборнике стихов 1907–1914 гг.» (СПб., 1914) и перепечатанного в «Собрании произведений Велимира Хлебникова» [II, 96] — в этом контексте четырем перекрестным амфибрахиям предшествует равно перекрестное четверостишие четырехстопных ямбов.
Тесная органическая связь обоих четверостиший, замыкающих «Войну в мышеловке», по сравнению с куда более случайным и поверхностным отношением каждого из них к тем контекстам, в которых они печатались при жизни автора (второе четверостишие в четырнадцатом году, а первое — только в двадцатом), заставляет неминуемо признать изначальную сопринадлежность обеих строф, несмотря на то, что лишь в девятнадцатом году авторская рукопись вышеназванной сверхповести наконец засвидетельствовала единство этого замечательного восьмистишия.
Видимо, непосредственно с авторской читки цикл стихов «О чем поет ветер», сложенный Александром Блоком в 1913 г., был известен Хлебникову еще до появления в «Русской мысли» 1915 г. Этот цикл и самое его заглавие могли подсказать прямолинейное отождествление ветра с пением, а строка Кого и о чем? перекликается с размышлением Блока; „Все равно все пройдет, / Все равно ведь никто не поймет, / Ни тебя не поймет, ни меня, / Ни что ветер поет нам звеня”. Наконец, Нетерпение / Меча стать мячом сродно блоковской мечте постичь „Туманный ход / Иных миров, / И темный времени полет / Следить и вместе с ветром петь”. Крутой переход от темы ветра к повторному возгласу Я умер, я умер приближается к стремительной смене отрывистых зовов в конце блоковского цикла „Идет к нам ветер от зари... Умри”.
В своих статьях о языке и литературе Хлебников рассказывал на разные лады, как он изучал образчики самовитой речи и нашел, что число пять весьма замечательно для нее; столько же, сколько и для числа пальцев руки [V, 185]. Пятиричное строение сказывается и на звуковом, и на грамматическом, и на словарном, и на непосредственно стиховом уровне художественной речи. Частью показательно сходными, частью, напротив, явственно различительными особенностями обоих четверостиший полнится двустрофный финал «Войны в мышеловке». Вкрадчиво пятисложный строй первых четырех строк разительно контрастирует с неотступно амфибрахическим метром последующей строфы.
Разверстка двух основных морфологических категорий — имен существительных и лексических глагольных форм — ощутимо характеризует сходство и различие обеих строф. Обе содержат по пяти имен существительных (то есть лексических, неместоименных субстантивных форм); ветер, пение, нетерпение, меча, мячом в первой строфе и со-ответственно во второй кровь, латам, потоком, воина, оком. Отметим, что имен существительных лишены две симметрично расположенные строки восьмистишия — вторая с начала и вторая с конца.
В противовес конечному четверостишию с его пятеркой лексических глагольных форм (умер, умер, хлынула, Очнулся, Окинув) начальное четверостишие вовсе лишены таковых. Глагольная связка статъ (равно как и вариант быть мячом в тексте сборника «Мы») явно не входит в круг форм лексических. Взаимная близость всех пяти глагольных форм скреплена участием гласного /и/ в каждой из них и полным отсутствием этой фонемы в остальных словах восьмистишия.
Две маркированные (точнее, признаковые) категории, а именно совершенный вид и прошедшее время, которыми конечная строфа наделяет все пять своих глагольных форм, еще более оттеняет глагольность этой строфы в отличие от предыдущего, безглагольного, четверостишия.
Пятиричное счисление, особенно заметное и действенное в малых формах, несомненно повышает участие грамматических категорий в поэтической символике. Так, например, мужеский род, сплачивающий пятерку имен существительных, начиная с первого слова стихов Ветер и до воина конечной строки (причем за обеими мужескими формами следуют имена среднего рода — пение, оком), красноречиво противостоит единственному примеру женского рода — кровь — и бросает свет на сложную боевую тематику обеих строф.
Три пары местоимений, чередующихся в пределах стиха или двустишия, обостряют значимость грамматических категорий мужеского рода и одушевленности. Такова контрастирующая смежность генитива кого и локатива о чем; такова выразительно-повторная формула я умер, я умер; таково, наконец, драматическое сопоставление лиц и чисел в заключительном двустишии: Очнулся я — Окинув вас.
Примечательная узкая грамматическая и композиционная связь между двумя атрибутивными генитивами одушевленного мужеского рода — вопросительным местоимением кого в начале и именем существительным воина в конце восьмистишия. Общность между этими двумя генитивами находит себе поддержку в отчетливом звуковом сходстве: Кого и о /kavo_i_a/ — воина оком / vóina ókam/. Связь между первой и последней четными строками подчеркнута также единственными примерами согласных к и в в первой строфе — кого — соответственно с обилием таковых в конце восьмистишия: Окинув вас воина оком. Вообще следует отметить зоркое распределение сходств и контрастов между согласными обеих строф, как, например, отсутствие парных звонких во всем восьмистишии, способствующее наиболее четкому качественному обособлению восприятия согласных. Относительно редкое в русской речи явление зияния представлено в обеих сопоставленных строках двойными примерами. Второе четверостишие насчитывает пять случаев зияния: помимо двух приведенных образчиков, также я умер (дважды), я иначе. Доходчива общность между огласовками кого и воина — единственными примерами о в начале зияния. Любопытно, что во всем восьмистишии зияние встречается во всех строках, наделенных местоимениями, и единственно в таких строках, причем в пяти из семи примеров зияния оно непосредственно примыкает к местоимению (кого, о чем, я... я, я). Связь местоимений, обнаженно грамматических слов, с зиянием, оголяющим гласные от промежуточных согласных, побуждает вспомнить подписанный Хлебниковым и его сотоварищами по «Садку судей» 1913 г. манифест с тезисом о гласных, понятых „как время и пространство (характер устремления)” в противоположность „краске, звуку, запаху” согласных.
Зияние предшествует последнему слову восьмистишия — оком, и с корнем ок- поэтическая этимология роднит вокальный зачин обеих заключительных на зияние ориентированных строк: Очнулся и Окинув. Вновь т.е. заново и по-новому, оживший взор павшего и воскресшего воина, вкрапленный в цветисный парономастический контекст (хЛЫНУЛа; оЧНУЛся, ИНАЧе, ВНОвь, окИНУв, окИНУВ, ВОИНА), отвечает нежданной победой на мнимо смертельный, мечом нанесенный удар и на кровь, хлынувшую ПО лаТАМ широким ПОТокОМ. Словесный образ поныне неисповедимого рока звучит глубоко хлебниковской анаграммой среди словосочетания КРОвь шиРОКим потОКом. Рок, оседланный и взнузданный, берегись! — писал автор в 1916 г. — Еще удар ветра, и начнется новая дикая скачка погони всадников рока [V, 144].
Наиболее откровенны парономазии первого четверостишия, где синтаксические зависимости существенно приглушены, а повествование подменено двойным вопросом: Кого и о чем? Рифма, охватывающая обе нечетные строки за вычетом их начального согласного, Ветер — пение / Нетерпение, навязывает сопоставленным словам цепкое семантическое единство, подобно тюркскому “украшению слова добавочным почти равным членом”, согласно определению Хлебникова, лыки-мыки — это мусульманская мысль [1940, 369].
Меч и мяч — излюбленные парные слова в творчестве Хлебникова, один из примеров его парономастической теории внутреннего склонения, позволяющей вскрыть в далеких по значению словах-родичах их общее содержание наряду с изменением направления [V, 171 сл.]. Уже в поэме «Хаджи Тархан», написанной „не позднее 1911–1912 гг.” и напечатанной впервые в 1913 г., оба слова знаменательно сопоставлены: Война и меч, вы часто только мяч / Лаптою занятых морей [I, 119]. В «Детях выдры» (1911–1913) игра в мяч, связанная со свечой именем разум, противопоставлена сочетанию лозунгов Меч в ладонь свою возьми, / Мудрецов же сонных брось [II, 146 и 150]. Поэма 1910 г., «Война-смерть», начинающаяся новым грохотом мечей, внезапно и резко меняет тона, лишь только На землю падает, чернея, мяч [II, 187 и 189]. С темы Меч забыли для мяча открывается и ее же временным сдвигом — Меч забудут для мяча — кончается эпический набросок, написанный до 1911 г. [II, 222].
При всех семантических вариациях образ мяча связан для Хлебникова с круговой линией в противовес неровному, изобилующему углами пространству “грубого”, разрушительного меча.
В конце письма, посланного в 1916 г. двум японским юношам, Хлебников пишет: Но это прекрасно, что вы бросили мяч лапты в наши сердца. Это потому хорошо, что дает нам право сделать второй шаг, ‹...› так как в возврате мяча заключается игра в меч. Окровавленному, раздирающему тела, ширящему войну и смерть мечу Хлебников противопоставлял космически безгранный образ мяча, сулящего овладение мерой мирового времени. Перековка ветра чумы на ветер сна и победа числом и словом над войной и смертью — такова тематика Хлебникова, переплетающаяся с мифом о преображении меча в мяч. Попутно с образом ветра чумы отметим равномерное звукообразное воздаяние поэмы «Гибель Атлантиды» двум жестоким силам — мечу и чуме [I, 94–103].
Падежные формы меча и мячом, вызывая звуковое совпадение обоих безударных корней, крепят ориентацию на графический, буквенный состав стихов и в то же время идут навстречу поэтической страсти к разгадке омонимов; полисемия слов — рычаг поэзии Хлебникова: Коса то украшает темя, спускаясь на плечи, то косит траву [II, 93].
Намеренно симметричен переход от четы омонимов к, казалось бы, просто-напросто реитеративному построению следующей строки: Я умер, я умер, — тогда как по сути повторное умер превращается в очнулся иначе. Воином будущего именовал себя Хлебников в последнем письме к Елене Гуро от 12.1.13 (1940, 364), а несколько месяцев спустя, в письме о ее кончине, он спрашивал, мертвые ли должны оплакивать живых или живые мертвых [1940, 366].
В восьмистишии, послужившем впоследствии финалом «Войны в мышеловке», умерший было герой очнулся, окинув вас воина оком. А согласно размышлению Хлебникова «О простых именах языка», первое значение слова Вы — нападающая сторона, вторгающаяся [IV, 205]. Форма вас, последняя в местоименной череде восьмистишия, неизбежно бросается в глаза как единственный здесь пример винительного падежа при полном отсутствии иных переходных глаголов, помимо деепричастия окинув. Воин, чаявший превращения меча в мяч, одерживает верх.
Непривычное узловое словосочетание: оЧНулся я иНаЧе. Из пяти наличных аффрикат ч три прочих принадлежат первой строфе. Все пять появляются по соседству с носовыми согласными — во второй строфе, как отмечено, по близости от н, а в первой — по близости от л: о ЧеМ, МеЧа и МяЧоМ.
Сопоставление аффрикаты ч с носовыми согласными нашло себе обширное место в творческих опытах Хлебникова. Рифма его поэмы «Русалка и поэт» с излишком использовала редкостное в начале русских слов сочетание носового согласного и аффрикаты: Смеху время! ЗвездаМ Час! / Восклицали, ветроМ Мчась [I, 151]. Относительная смежность аффрикат с носовыми богата разнообразными вариациями. Стихи русалки в «Лесной тоске» гласят: Верю, ветер любит Не о ЧеМ, / Грустить НеуЧеМ [I, 166]. Особенно обильны схожими стыками согласных заумные строки Хлебникова. Именно таков звуковой состав речей, влагаемых автором сверхповести «Зангези» в уста разноплеменных богов. Так, Велесу приписана реплика пеНЧь, паНЧь, пеНьЧь, а Эроту — эМЧь, аМЧь, уМЧь! дуМЧи, даМЧи, доМЧи. Боги летят, восклицая: юНЧи, эНЧи, ук! [III, 320 и 339].
Хлебников прилагал неустанные усилия, чтобы путем сравнения слов одного языка или даже целого круга языков найти общее значение отдельных звуков речи, веря, что каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя. В частности, как поучают итоги его разысканий [V, 234 — 237], ч есть не только звук, ч есть имя, неделимое тело языка. Если окажется, что ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решен вопрос о мировом языке, убежденно провозглашал Хлебников: собрав и сравнивая слова на ч, мы видим, что все они значат одно тело в оболочке другого; ч — значит оболочка.
Герой повести «Ка» Эхнатен, умирая, вскрикивает: МаНЧь! МаНЧь! МаНЧь! [IV, 67]. В цитированной выше статье итогов, «Наша основа», Хлебников замечает, что такие слова не принадлежат ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но все-таки существующее. ‹...› То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным [V, 235]. Однако показательное признание об этом самом примере заумной речи приносят автобиографические записи, «Свояси» Хлебникова: Во время написания заумные слова умирающего Эхнатена „манч, манч!” из «Ка» вызвали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего — я сам не знаю [II, 9]. Нельзя не вспомнить мигающий свет (не то “молния”, не то “ничто”) старшего и схожего звукового облика, каковым был пушкинский, по-своему заумный, смертоносный аНЧар.
Знаменитый палиндромон Хлебникова [II, 43], «Перевертень», впервые опубликованный во втором «Садке судей», искусно строит свою четвертую строку на трех ч, двух м и четырех к, и центром служит инструментальная форма мечем (ЧиН зваН МеЧеМ НавзНиЧь, параллельная номинативному центру пятой строки (голод ЧеМ МеЧ долог). Ср. сплав десятка м с девяткой ч в обоюдотолкуемом поведании поэта о пытке Разина: МеЧи биЧеМ! / МуЧ ЧуМ. / МеЧет, теЧь ЧеМ? / Мать ЧеМ МеЧтаМ [I, 214]. На строки «Садка судей», несомненно сродные с восьмистишием о мече, мяче и очнувшемся иначе воине, «Свояси» дали проникновенный ответ: Я в чистом неразумии писал «Перевертень» и, только пережив на себе его строки “чин зван... мечем навзничь” (война) и ощутив, как они стали позднее пустотой, “пал а народ худ и дух ворона лап”, понял их как отраженные лучи будущего, брошенные подсознательным “я” на разумное небо [II, 8 сл.].
Весной 1919 г. в связи с подготовкой к печати собрания сочинений Хлебникова шли оживленные беседы поэта с редактором задуманного издания, и именно в связи с этими беседами были написаны вступительные страницы под новоизобретенным заглавием «Свояси». Как в них, так и в устных дебатах, а также в красноречивых намеках позднейших хлебниковских записных книжек [см. V, 255–275] ярко отразились вопросы, и в то время, и после неотступно тревожившие стрелочника на путях встречи Прошлого и Будущего, согласно тяжелой задаче, возложенной на себя будетлянином [V, 163]. Об испытании зауми временем вновь и вновь уведомляли «Свояси», и ссылкою на этот искус заканчивался (или скорее обрывался) мой опыт предисловия к книге собранных творений Хлебникова, набросанный и тою же поздней весной обсужденный в Московском лингвистическом кружке (см. R. Jakobson. Selected Writings, V. The Hague — Paris — New York, 1979, p. 354)
Именно послу Земного Шара Хлебникову оказалось дано ясновидение связи и разрыва времен в человечьей речи с ее неустанными превращениями заумного поля в разумное, сказочного предвосхищения в действительность, чуда в будень и обихода в чудо, рассудительности в издевку, а ругани в ласку. Он проверял на пушкинском творчестве колебательный закон времени [V, 272]. Закаленный речетворец ведал, что вещь, написанная только новым словом, не задевает сознания, но в то же время понимал, что слова особенно сильны, когда они живые глаза дня тайны, и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл.
В «Воспоминаниях» гр. В.А. Соллогуба (1813–1882) воспроизведен со слов его гостя Тургенева любопытный биографический эпизод:
„Люблю побаловать себя иногда русским словцом. Никогда не забуду я маленького происшествия, случившегося со мною по этому поводу в Лондоне”. Осевший в Англии Н.М. Жемчужников, брат поэта, пригласил Тургенева пообедать „в одном из высокотонных клубов”, где писателя немедленно „обдало холодом подавляющей торжественности” и где вокруг обоих пришельцев принялись священнодействовать трое дворецких.
Вот, в передаче Соллогуба, ядро тургеневского повествования о достопамятном клубном „пассаже”: „Я чувствовал, что у меня по спине начинают ходить мурашки; эта роскошная зала, мрачная, несмотря на большое освещение, эти люди, точно деревянные тени, снующие вокруг нас, весь этот обиход начинал выводить меня из терпения”. Близился апогей. „Мною вдруг обуяло какое-то исступление; что есть мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать:
— Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша! Каша!”
Эта „вспышка Тургенева”, как ее окрестило очередное издание «Воспоминаний» Соллогуба, образует семерку восклицательных голофраз из семи существительных женского рода в именительном падеже единственного числа с окончанием -а и с ударением на предыдущем слоге. Пятерке неодушевленных имен, двум начальным, двум конечным и одному центральному, противостоят непосредственно по обеим сторонам центрального слова два одушевленных существительных; оба выделены звонким превокальным б ударного слога, и в обоих корень сам по себе несет сексуальную информацию: Кобыла! Баба!
Ни в одном из семи слов нет округленных гласных. Центральное имя Репа разделяет с начальным Редька схожее сочетание /re/, которому в промежуточных словах вторит подударное ы, образуя своего рода опоясанную рифму /e-i-i-e/.
Все словоизлияние насчитывает пять задненебных согласных, а именно пять глухих взрывных /k/, сосредоточенных в трех начальных и двух конечных именах. Та же словесная цепь наделена пятью губными, охватывающими все слова от второго (Тыква!) до пятого (Баба!). Таким образом, губные согласные тяготеют к центру выкрика, тогда как задненебные расположены по его краям. Взрывными согласными начинаются пять из семи слов, а также пять из семи ударных слогов.
Следует вспомнить настойчивое показание Велимира Хлебникова: Я изучал образчики самовитой речи и нашел, что число пять весьма значительно для нее; столько же, сколько и для числа пальцев руки. Оказывается, например, что в начальном четырехстрочном предложении поэтова «Кузнечика», помимо желания написавшего этот вздор, звуки у, к, л, р повторяются пять раз каждый. Этому закону свободно текущей самовитой речи Хлебников находит параллель в пятилучевом строении пчелиных сотов и морских звезд.
Строй двух крайних троесловий — начального и заключительного — резко расходится. В отличие от конечной тройки слов первая характеризуется вариацией в числе слогов и в ударном гласном, притом постоянно отличном от безударного, а сверх того, эти три слова обнаруживают искусно слаженное разнообразие согласных.
Три начальных слова содержат по три, а остальные по два согланых. Репертуар консонантных классов, обнаруживаемых в трех первых словах, т.е. в словах, заключающих по три согласных, состоит из плавных (/r'/ и /l/), губных (/v/ и /b/), зубных (/t/ и /t) и велярных (/k/).
Состав и порядок, в котором согласные различных классов выступают в начальном слове (плавный — зубной — велярный), соответствуют составу и порядку [согласных] тех же классов в начале всех трех первых слов (плавный — зубной — велярный).
Состав и порядок последних согласных в конечном [третьем] слове (велярный — губной — плавный) соответствуют составу и порядку [согласных] тех же классов перед заключительными гласными всех трех первых слов.
Состав и порядок согласных во втором слове (зубной — велярный — губной) соответствуют составу и порядку тех же консонантных классов в середине всех трех первых слов.
Короче говоря, между местом всех трех согласных в слове и местом слова в составе вступительного троесловия неуклонно царит строгая симметрия.
Начальный и последний согласный первого слова (плавный — велярный) образуют зеркальную симметрию с начальным и последним согласным третьего слова (велярный — плавный). Велярный занимает в трех начальных словах зеркально симметричное положение (3-2-1) по отношению к порядку этих слов (1-2-3). В пределах слова велярному может предшествовать только зубной, а следовать за велярным только губной. Итак, распределение согласных в трех вступительных словах следует неотступной схеме:
| плавный зубной велярный |
| зубной велярный губной |
| велярный губной плавный |
Безударный вокализм всех имен последовательно сводится к фонеме /а/; таковы, например, оба безударных гласных слова Кобыла. В трех заключительных словах фонема /а/ выступает не только в безударных, но и в ударных слогах, тогда как мы отметили, что в остальных словах безударному /а/ противопоставлены подударные /é/, /i/. Заключительная трехчленная серия вообще отличается тенденцией к однородности, а именно повторением слов (Кáша! Кáша!), непосредственным повтором слогов (Бáба!), тождеством гласных ударных и безударных сквозь всю серию (/á — а — á — а — á — а/). Компактность ударного гласного во всем заключительном троесловии и опять-таки компактность обоих согласных (велярного и палато-альвеолярного) в конечном двоекратном слове создают вершину консонантной и вокальной компактности: Баба! Каша! Каша!
„Мочи моей нет!” — гласит, согласно Соллогубу, тургеневский комментарий к заклинательному экспромту: „Душит меня здесь, душит!.. Я должен себя русскими словами успокоить!” Так непритязательная баба с кашей оказывается победоносно противопоставлена троим величественным дворецким и двоим обедавшим в зале джентльменам „еще более одеревенелого вида”. Женский род и пол в тургеневском выпаде контрастирует с мужским укладом чопорного клуба.
Связка сельских овощных имен, перерастающая в исступленную тягу к бабе-вершительнице и каше, вершинному достижению русской народной кулинарии, отвечала на священнодействия („другого слова, — говорит Тургенев, — я употребить не могу”), творимые троицей дворецких, походивших гораздо более „на членов палаты лордов, чем на дворецких” . Чтобы выразить, как, торжественно блюдя ритуал неукоснительной диеты, предписанной бедняге Жемчужникову, „самый важный дворецкий” ставил за одним блюдом следующее одного и того же содержания блюдо с поочередным величественным возгласом: First cutlet, Second cutlet,Third cutlet; для всего этого, по словам Ивана Сергеевича, „нет слов на человеческом языке”, и пятерка велярных согласных тургеневского лихорадочного языкоговорения с его заключительным словцом. Каша! Каша! непосредственно перекликается и аллитерирует с троекратно раздававшимся cutlet при обрядном появлении неизменного яства на серебряном блюде под серебряным колпаком.
Может быть, в повествовании вкрались позднейшие тургеневские прикрасы и домыслы, как намекает Соллогуб, ссылаясь на „безукоризненную благовоспитанность” Ивана Сергеевича; изрек ли он или только надумал свою семисловесную застольную формулу? Возможно, наконец, что в некоторых “преувеличениях” повинен сам мемуарист, но неимоверно трудно предположить, чтобы этот мастерский опыт творческой спайки „бессвязных русских слов” не был создан отважным и могучим художником „свободного русского языка”.
Срыв чаемого consummatum, характерный мотив тургеневской жизни и творчества («Отчего я не ответил ей» и т.д.), сказался в поздней периферической деятельности писателя не одной только клубной выходкой, но и теми гротескными “сказками” (des chos bien invraisemblables [‘совершенно невероятные вещи’]), которые на рубеже 70–80-х годов Клоди (1852–1914), дочь Полины Виардо, получала в форме писем от Тургенева: „ton vieux qui t’adore” [„твой старик, который тебя обожает”] или же „ton éperdument ahuri Iv. Tour.” [„твой совершенно обезумевший Ив. Тур.”]. В связи с заумной символикой этих сказок парижский комментатор недаром сулил им приобщение „к сюрреалистическим антологиям”.
Под стать рассказу Тургенева об испуге сотрапезника — „Он подумал, что я лишился рассудка” — должна была действовать на молодую адресатку эпистолярных épanchements [‘излияний’] подстановка общей и сказкам, и басням Тургенева безудержной скатологии взамен высокотонной эротики. Таково, например, повествовательное письмо от 3 сентября 1882 г., где „бледный юноша au teint maladif [‘с нездоровым цветом лица’]” возносит мольбу к возлюбленной немке-девственнице, мечтая покончить с собой, как только она дозволит ему разделить с ней вместо недоступного ложа по крайней мере ее кабинет уединения или же ее отхожее прибежище „на лоне природы”, причем этот вязкий мотив развертывается в цветистый диалог. Напрашивается сопоставление с индейским ритуальным запретом женщине отправлять естественные потребности там, где до того мочился мужчина.
И в лондонском сумасбродстве, и в бредовой фантасмагории французских посланий — и в том, и в другом случае упрощенческий сдвиг расцвечен прихотливыми словесными фигурами, придающими тексту, казалось бы шальному, внезапную неоспоримую убедительность, подобно заумной мудрости в силке, вдохновившей, за полвека до Хлебникова, тургеневский „рассказ о соловьях” — например, о „десятом колене” соловьиного искусства: „У хорошего, нотного словья оно еще вот как бывает: начнет — тии-вить, а там тук! Это оттолчкой называется. Потом опять — тии-вить... тук! тук! Два раза оттолчка — и в пол-удара, эдак лучше; в третий раз тии-вить — да как рассыплет вдруг, сукин сын, дробью или раскатом — едва на ногах устоишь, обожжет!”
| Персональная страница Р.О. Якобсона на ka2.ru | ||
| карта сайта | 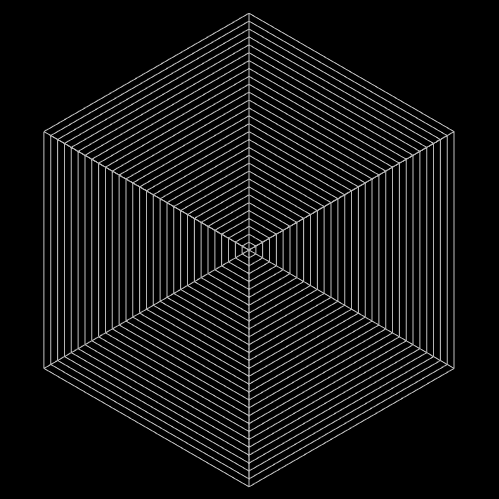 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||