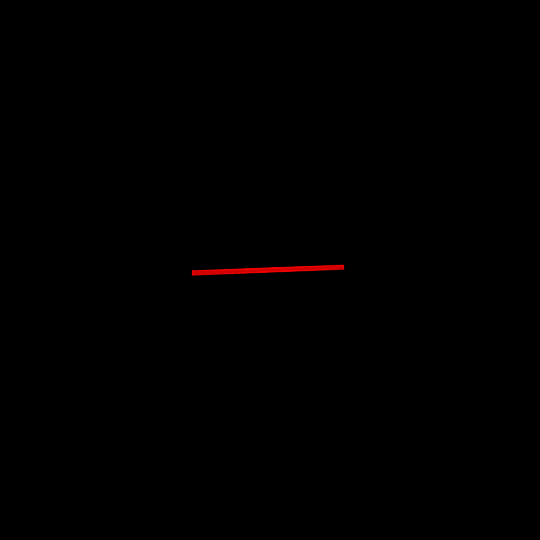Хенрик Баран
К проблеме идеологии Хлебникова: мифотворчество и мистификация
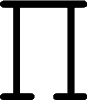
ричины приобщения Велимира Хлебникова уже на раннем этапе творчества к области мифопоэтического были, по-видимому, достаточно разнообразны: это и непосредственный контакт благодаря связям с
городом предков, многоязычной Астраханью,
1
с традициями калмыков и других народов России; и воздействие мировоззрения и культуры символизма, особенно идей Вячеслава Иванова о роли мифа;
2
и стремление понять “истинные” причины исторических и общественных потрясений, которыми оказалось столь богато уже первое десятилетие нашего века;
3
и тяга к прообразам, архетипам, утопиям, с одной стороны, и
кривым Лобачевского — с другой;
4
и, наконец, установка на обновление поэтического языка путём активизации потенциально присущих ему элементов, нестандартные сочетания которых (неологизмы) легко вызывают из небытия отдельные мотивы, сюжеты, мифологемы.
5
Эти и другие факторы, повлиявшие на неординарное мировоззрение крупнейшего представителя футуризма, уже обсуждались в литературе;
6
в последние годы стали появляться работы, в которых этот аспект его творчества вписывается в более широкий контекст мифологизма авангардистских группировок;
7
ещё впереди рассмотрение хлебниковского мифологизма на фоне разнообразного опыта работы с мифом в мировой литературе в XX веке (особенно в литературе модернизма).
8
Легко перечислить главные традиции, к которым регулярно обращался Хлебников в поисках персонажей или эпизодов, способных представить в образной форме его идеи о строении времени или Вселенной, — это славянские древности, античная мифология, древний Египет, индуизм и буддизм, религии Ирана. Уже немало сделано для того, чтобы определить характер работы поэта с мифологическим материалом как этих, центральных для его творчества, традиций, так и других, более периферийных.9
Постепенно становится ясно, что источником хлебниковских заимствований чаще всего являются специализированные тексты в данной области, и их выявление — по мере возможности — не просто дань исследовательскому самолюбию или педантизму, а необходимое условие для адекватного анализа и реконструкции его мифологем. Как и в случае других поэтов, опирающихся на фольклорный или мифологический слой культуры, научные или околонаучные труды XIX–XX вв., фиксирующие этот слой, сыграли важнейшую роль для Хлебникова.
Однако, как заметил В.П. Григорьев, мифотворчество Хлебникова „не сводится к простому пересозданию сюжета или воспроизведению модели мифа“.10 Глобальное воображение поэта с лёгкостью сочетало научные понятия с религиозными представлениями разных народов, события древней и новейшей истории с сюжетами, заимствованными из литературы, микромир, атом, клетку ткани с макромиром, небом, вселенной — любое явление могло быть претворено в символически значимый образ, взято за основу отдельной мифологемы. И по диапазону материалов, к которым он обращается, и по смелости, с которой создает новые миры из осколков старых (по знаменитой формулировке Ф. Боаса), Хлебников выделяется даже среди поэтов и прозаиков нашего столетия, столь охотно обращавшихся к “альтернативным историям”, столь сильно ощущавших потребность в наложении мифологической схемы на калейдоскоп современной жизни и столь часто стремившихся к созданию мифологизированных художественных текстов-энциклопедий.
Глобальное воображение поэта с лёгкостью сочетало научные понятия с религиозными представлениями разных народов, события древней и новейшей истории с сюжетами, заимствованными из литературы, микромир, атом, клетку ткани с макромиром, небом, вселенной — любое явление могло быть претворено в символически значимый образ, взято за основу отдельной мифологемы. И по диапазону материалов, к которым он обращается, и по смелости, с которой создает новые миры из осколков старых (по знаменитой формулировке Ф. Боаса), Хлебников выделяется даже среди поэтов и прозаиков нашего столетия, столь охотно обращавшихся к “альтернативным историям”, столь сильно ощущавших потребность в наложении мифологической схемы на калейдоскоп современной жизни и столь часто стремившихся к созданию мифологизированных художественных текстов-энциклопедий.
В настоящей статье, представляющей собой частичный результат работы над реконструкцией идеологического уровня в модели мира Хлебникова, мы рассматриваем два небольших семантических комплекса, заимствованных поэтом из сферы славянских древностей, славянской культурной общности. В творческой лаборатории Хлебникова эта область наделена особым статусом. С одной стороны, она является одним из главных источников в его попытках обновить словарный состав русской поэзии. И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья — славянские языки, и о сплющенном во одно, единый, общий круг, круге-вихре — общеславянском слове? [Творения: 580], — спрашивает Хлебников в программном очерке «Курган Святогора» (1908), широко вводя лексический материал других славянских языков в свои тексты11 и опираясь на их морфологические средства в своих словотворческих разработках. С другой стороны, она связана с его публицистической деятельностью (до начала мировой войны), которую в значительной мере спровоцировали балканские кризисы 1908–1913 гг. и напряжённые отношения между Германией и Австро-Венгрией и славянским миром,12
и опираясь на их морфологические средства в своих словотворческих разработках. С другой стороны, она связана с его публицистической деятельностью (до начала мировой войны), которую в значительной мере спровоцировали балканские кризисы 1908–1913 гг. и напряжённые отношения между Германией и Австро-Венгрией и славянским миром,12 а также с его взглядами, исследованными далеко не полностью, на внутриполитическую ситуацию в России.
а также с его взглядами, исследованными далеко не полностью, на внутриполитическую ситуацию в России.
Последняя фраза нуждается в пояснении. Следует отметить, что идеологические моменты в биографии и творчестве Хлебникова до сих пор остаются окончательно не прояснёнными. Такая ситуация, на наш взгляд, есть результат своеобразного “джентльменского соглашения” исследователей, придерживавшихся принципа “De mortuis nil nisi bene” и стремившихся в советскую эпоху “легализовать” Хлебникова и защитить его наследие от вполне реальных политических опасностей.13 В результате такой установки некоторые тексты, в особенности относящиеся к довоенному периоду, остались не напечатанными или же были напечатаны с купюрами.14
В результате такой установки некоторые тексты, в особенности относящиеся к довоенному периоду, остались не напечатанными или же были напечатаны с купюрами.14 Некоторые “неудобные” с политической точки зрения высказывания и поступки поэта либо объявлялись якобы второстепенными эпизодами его биографии, либо объяснялись его склонностью к пародированию, утопизму, мифологизму. При этом как бы забывалось, что утопии и мифы, как социальные, так и литературные, глубоко родственны друг другу и что за их различными проявлениями в культуре нашего столетия — будь то в художественных произведениях, будь то в лозунгах, тиражируемых многомиллионными массовыми изданиями, — обычно скрывается вполне серьёзное отношение к окружающей действительности и стремление радикально преобразовать её на новый лад. При анализе текстов Хлебникова, сколь бы экзотическим или фантастическим ни казалось их содержание, эту потенциальную связь поэтической образности с “внешним” миром — Россией на пороге “настоящего XX века” — следует постоянно иметь в виду.
Некоторые “неудобные” с политической точки зрения высказывания и поступки поэта либо объявлялись якобы второстепенными эпизодами его биографии, либо объяснялись его склонностью к пародированию, утопизму, мифологизму. При этом как бы забывалось, что утопии и мифы, как социальные, так и литературные, глубоко родственны друг другу и что за их различными проявлениями в культуре нашего столетия — будь то в художественных произведениях, будь то в лозунгах, тиражируемых многомиллионными массовыми изданиями, — обычно скрывается вполне серьёзное отношение к окружающей действительности и стремление радикально преобразовать её на новый лад. При анализе текстов Хлебникова, сколь бы экзотическим или фантастическим ни казалось их содержание, эту потенциальную связь поэтической образности с “внешним” миром — Россией на пороге “настоящего XX века” — следует постоянно иметь в виду.
1
Первой значительной теоретической работой Хлебникова является «Учитель и ученик. О словах, городах и народах. Разговор 1» (1912) — произведение, построенное по модели философского (платоновского) диалога, в котором он излагает ряд собственных новаторских идей о поэтическом языке (внутреннее склонение слов) и о повторяемости исторических событий.15 В последней части этого текста Хлебников переходит к полемике: его мишенью оказываются современные писатели, представители различных направлений, творчество которых, по мнению поэта, идёт вразрез с духовными установлениями русского народа. В нескольких таблицах поэт противопоставляет самовлюбленность (мерило вещей — последняя книжка, не Россия), пессимизм (писатели уличают: дворянство I; военных II; чиновников III; купцов IV; крестьян V; молодых сапожников VI), пацифизм (проклинают военный подвиг, а войну понимают как бесцельную бойню) и увлечение тематикой смерти таких писателей, как Д. Мережковский, Ф. Сологуб, Л. Андреев и др., — позиции, выраженной в народной песне, которая уличает русских писателей, славит военный подвиг и войну, а мерилом вещей считает Россию [Творения: 589–591].
В последней части этого текста Хлебников переходит к полемике: его мишенью оказываются современные писатели, представители различных направлений, творчество которых, по мнению поэта, идёт вразрез с духовными установлениями русского народа. В нескольких таблицах поэт противопоставляет самовлюбленность (мерило вещей — последняя книжка, не Россия), пессимизм (писатели уличают: дворянство I; военных II; чиновников III; купцов IV; крестьян V; молодых сапожников VI), пацифизм (проклинают военный подвиг, а войну понимают как бесцельную бойню) и увлечение тематикой смерти таких писателей, как Д. Мережковский, Ф. Сологуб, Л. Андреев и др., — позиции, выраженной в народной песне, которая уличает русских писателей, славит военный подвиг и войну, а мерилом вещей считает Россию [Творения: 589–591].
Полемическая часть статьи открывается следующим обменом реплик между Учеником, alter ego самого поэта, и его собеседником:
Учитель: Ты говоришь как дитя. Но ещё что ты думал в это время?
Ученик: Я думал, Моране или Весне служит русское искусственное слово.
Ты помнишь имена этих славянских богинь?
[Творения: 589]
Эти же имена снова возникают в конце выпада Ученика против современной литературы:
Почему русская книга и русская песня оказались в разных станах?
Не есть ли спор русских писателей и песни спор Мораны и Весны?
Бескорыстный певец славит Весну, а русский писатель Морану, богиню смерти?
Я не хочу, чтобы русское искусство шло впереди толп самоубийц!
[Творения: 591]
Естественно возникает вопрос: каких именно богинь имел в виду Хлебников? По-видимому, ответ на него казался столь очевидным редакторам изданий, в которых публиковался «Разговор», что они ограничились лишь минимальными сведениями. „Морана — богиня смерти (славянск‹ая› мифол‹огия›)“, — отмечает Н.Л. Степанов в подготовленном им пятитомнике [СП V: 349]. В дальнейшем эта информация лишь слегка дополняется и варьируется: „Морана (Морена, Марона, мора, мара) — у славян олицетворение смерти“ [Творения: 705]; „Морана (Морена, мара) — в славянской мифологии олицетворение смерти“ [Утёс: 255]. При этом ни в одном издании специально не оговаривается божественный статус олицетворенной весны, упоминаемой в произведении Хлебникова.
Между тем обращение к материалам по славянской мифологии заставляет усомниться в полноте подобного комментария. Действительно, как отмечают Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, разновидности имени Морана зафиксированы в разных традициях:
Марéна, Марáна, Морéна, Маржáна, Маржéна — в славянской мифологии богиня, связанная (по первоначальному этимологическому сходству или по вторичному звуковому уподоблению) с воплощением смерти (см.
Мара), с сезонными ритуалами умирания и воскресения природы ‹...› В весенних обрядах западных славян М. называлось соломенное чучело — воплощение смерти (мора) и зимы, которое топили (разрывали, сжигали ‹...›), что призвано было обеспечить урожай. В западнославянской мифологии известно сезонное божество Маржана, отождествляемое польским хронистом 15 в. Длугошем с римской Церерой; Морана, отождествляемая в глоссах из ‘Mater verborum’ с греческой Гекатой, чеш. Marena ‹...›; в вост.-слав. традиции ср. укр. М. — соломенное чучело, рус. былинную ведьму Маринку и др. персонажи с фонетически сходными именами.
16
Однако, несмотря на чрезвычайно важную роль весны в календарном цикле и на обилие связанных с ней обрядов,17 на самом деле она не выступает в качестве отдельного персонажа в языческом пантеоне славянских народов. Этот факт резко противоречит формулировке вопроса в «Учителе и ученике» — Ты помнишь имена этих славянских богинь?, — где божественный статус обоих персонажей упоминается как хорошо известный факт, причём очевидно известный не только Учителю, но и читателю разговора.
на самом деле она не выступает в качестве отдельного персонажа в языческом пантеоне славянских народов. Этот факт резко противоречит формулировке вопроса в «Учителе и ученике» — Ты помнишь имена этих славянских богинь?, — где божественный статус обоих персонажей упоминается как хорошо известный факт, причём очевидно известный не только Учителю, но и читателю разговора.
Можно, разумеется, допустить, что Хлебников, в соответствии с каким-то замыслом, самовольно “заполнил” некоторый “пробел” в славянской мифологии, тем более, что тема весны часто возникает в его текстах,18 при этом в некоторых из них, как, например, в стихотворении «Словарь цветов», она непосредственно связана с фольклорно-мифологической сферой. Однако в случае «Учителя и ученика» такое предположение кажется маловероятным. Как показал ряд предыдущих исследований в области ономастики Хлебникова, несмотря на фонетические искажения, которым могут подвергаться в его произведениях заимствования из разных традиций, для него весьма характерно стремление к достоверности, к сохранению той семантической нагрузки, которой вводимые в текст божественные имена обладали в своём изначальном культурном контексте. Тем более актуальным оказывается вопрос об источнике сочетания Мораны и Весны.
при этом в некоторых из них, как, например, в стихотворении «Словарь цветов», она непосредственно связана с фольклорно-мифологической сферой. Однако в случае «Учителя и ученика» такое предположение кажется маловероятным. Как показал ряд предыдущих исследований в области ономастики Хлебникова, несмотря на фонетические искажения, которым могут подвергаться в его произведениях заимствования из разных традиций, для него весьма характерно стремление к достоверности, к сохранению той семантической нагрузки, которой вводимые в текст божественные имена обладали в своём изначальном культурном контексте. Тем более актуальным оказывается вопрос об источнике сочетания Мораны и Весны.
Им оказывается так называемая «Краледворская рукопись» (Rukopis královédvorský) — тетрадь с четырнадцатью поэтическими произведениями на древнечешском языке, предположительно датируемыми XIII в., которую якобы обнаружил в церкви города Dvůr Králové в 1817 г. молодой чешский учёный Вацлав Ганка (1791–1861). В некоторых из этих текстов отражены события средневековой истории — прежде всего эпизоды борьбы чехов за национальную независимость против поляков («Ольдрих и Болеслав»), татар («Ярослав») и немцев («Бенеш Германов»). В других стихотворениях более ощутимо присутствие лирического элемента, при этом если в таких текстах, как «Олень» или «Збигонь», он сосуществует с эпическими мотивами (здесь действие происходит в языческую эпоху), то в остальных («Роза», «Кукушка» и др.), сильно напоминающих русскую народную лирику, он играет центральную роль. Названия нескольких разделов в тетради позволяют предположить, что она представляет собой лишь часть не дошедшей до нас книги.
Весна и Морана упоминаются вместе в шестом произведении в «Краледворской рукописи» — стихотворении «Забой и Славой»:
I kak sě zdě v cuzej vlasti ot jutra po večer
tako be se zdieti dietkam i ženam;
i jedinu družu nám imieti
po púti všej z Vesny po Moranu.
В одном из русских изданий памятника, к которому вероятнее всего и обращался Хлебников, последняя строчка комментируется следующим образом: „Vesna и Могаnа — названия двух божеств, олицетворяющих собою Молодость и Смерть. В Mat. Verb. vesna, vezzna, vezna — ver; morana — hecate. Богиня смерти была вместе с тем и богинею зимы, а равно и старости. В данном месте Крал. рук. под весною разумеется юность, а под мораною — старость, смерть и зима...“.19 Кроме того, образ Мораны встречается и отдельно — при описании исхода единоборства героев в поэме «Честмир и Власлав»:
Кроме того, образ Мораны встречается и отдельно — при описании исхода единоборства героев в поэме «Честмир и Власлав»:
Vlaslav strašno po zemi sě koti,
i v bok, i v zad, vstáti nemožeše:
Mořena jej sipáše v noc črnu.
Согласно примечанию к последней строчке этого отрывка, „Морана усыпляла его (т.е. Власлава. — Х.Б.) в чёрную ночь, т.е. смерть постепенно омрачала его“.20
Заметим, что Хлебников мог узнать ключевую строчку «Краледворской рукописи» не только из самого памятника, но и из труда А.Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу».21 В главе «Народные праздники», где подробно обсуждаются народные представления о временах года и связанные с ними ритуалы, Афанасьев посвящает Весне и Зиме несколько страниц, где и цитируется интересующая нас фраза. Приведём фрагмент из этого раздела: „В Краледворской рукописи встречаем выражение: „i iedinu družu nam imiéti po puti wšei z wesny po moranu” = и единую подругу иметь нам на пути от весны до мораны, т.е. от юности до смерти. Юность представляется здесь в поэтическом образе весны, согласно с обычным и почти у всех славян распространенным эпическим приёмом изображать Весну прекрасным юношею или девою, а Зиму беловласым и дряхлым старцем. ‹...› Очевидно, что в приведённых выражениях Краледворской рукописи и народных песен Морана, противополагаемая Весне = юности, означает не только Смерть, но и Зиму = старость“.22
В главе «Народные праздники», где подробно обсуждаются народные представления о временах года и связанные с ними ритуалы, Афанасьев посвящает Весне и Зиме несколько страниц, где и цитируется интересующая нас фраза. Приведём фрагмент из этого раздела: „В Краледворской рукописи встречаем выражение: „i iedinu družu nam imiéti po puti wšei z wesny po moranu” = и единую подругу иметь нам на пути от весны до мораны, т.е. от юности до смерти. Юность представляется здесь в поэтическом образе весны, согласно с обычным и почти у всех славян распространенным эпическим приёмом изображать Весну прекрасным юношею или девою, а Зиму беловласым и дряхлым старцем. ‹...› Очевидно, что в приведённых выражениях Краледворской рукописи и народных песен Морана, противополагаемая Весне = юности, означает не только Смерть, но и Зиму = старость“.22
И всё-таки, несмотря на то что имя Ганки не встречается в известных нам произведениях Хлебникова, едва ли знакомство поэта с памятником, который пользовался в России широкой известностью и был доступен не только в подлиннике, но и в нескольких переводах,23 ограничивалось цитатой в научном тексте-посреднике.
ограничивалось цитатой в научном тексте-посреднике.
Следует вспомнить некоторые исторические обстоятельства, которые должны были вызвать интерес Хлебникова, перешедшего в 1909 г. на славяно-русское отделение Санкт-Петербургского университета (по которому он числился до 1911 г.). «Краледворская рукопись» относится к эпохе чешского национального возрождения (конец XVIII – первая половина XIX вв.) — общественного движения, возникшего в результате реформ австрийского императора Иосифа II и нацеленного на борьбу с германизацией чешского общества и культуры, с одной стороны, и восстановление народного самосознания, с другой, благодаря активным усилиям выдающихся учёных, поэтов и публицистов (И. Юнгманн, Й. Добровский, П.Й. Шафарик, В. и К. Там, А. Пухмайер, Я. Коллар и др.), чешский язык, на протяжении почти двух столетий после битвы под Белой горой (1620) вытесняемый немецким и практически полностью утративший свой социальный статус, снова стал языком литературы и науки. В борьбе за национальную самобытность найденная Ганкой тетрадь сыграла очень важную роль: она свидетельствовала о существовании богатой древнечешской литературы (особенно если учесть, что тетрадь со стихотворениями была лишь уцелевшим фрагментом большого сборника), подтверждала высокие художественные и этические характеристики этого наследия и играла роль своеобразного эталона для современных литераторов. Обнародование «Краледворской рукописи» (так же как и опубликованной в 1818 г. «Зеленогорской рукописи» [Rukopis zelenohorský], содержащей датируемую X веком поэму «Суд Либуши») было воспринято чешской общественностью с энтузиазмом. Неоднократно переиздававшаяся после первой публикации в 1819 г., она стала сильнейшим стимулом для чешской культуры. Как отметил в своё время Р.О. Якобсон, никакое другое произведение не вдохновило столь многих чешских композиторов и художников и не повлияло столь глубоко на дальнейшее развитие поэзии и литературного языка.24
Успех «Краледворской» и «Зеленогорской рукописи» тем более примечателен, что на самом деле это были подделки оссиановского типа, главным автором которых почти наверняка был сам Ганка, обладавший, по словам Якобсона, поразительной филологической интуицией и редким поэтическим талантом.25 Однако их появление оказалось настолько своевременным, оно настолько соответствовало “социальному заказу” на героическую национальную мифологию, что на протяжении десятилетий общественное мнение было почти целиком на стороне Ганки, который пользовался огромным авторитетом не только у себя на родине, но и за границей, в частности в России.26
Однако их появление оказалось настолько своевременным, оно настолько соответствовало “социальному заказу” на героическую национальную мифологию, что на протяжении десятилетий общественное мнение было почти целиком на стороне Ганки, который пользовался огромным авторитетом не только у себя на родине, но и за границей, в частности в России.26 Сомнения в подлинности «Зеленогорской рукописи», высказанные патриархом чешской филологии Й. Добровским, лишь повредили ему самому в глазах чешских патриотов. В 1850-е годы на защиту памятника от новых сомнений встали Ф. Палацкий и П.Й. Шафарик. В 1859 г. Ганка, обвиненный в подделке рукописей пражской немецкоязычной газетой «Tagesbote aus Böhmen», выиграл иск против её редактора, который был осуждён на два месяца тюремного заключения. В 1880-х, после того как Т. Масарик и филолог Я. Гебауер вместе с другими учёными окончательно доказали, что памятники были подделкой и общественное мнение резко обернулось против наследия Ганки, накал полемики заставил Масарика отказаться от назначения на место редактора чешского энциклопедического словаря, а националистическая пресса заклеймила будущего президента Чехословакии как изменника чешскому народу.27
Сомнения в подлинности «Зеленогорской рукописи», высказанные патриархом чешской филологии Й. Добровским, лишь повредили ему самому в глазах чешских патриотов. В 1850-е годы на защиту памятника от новых сомнений встали Ф. Палацкий и П.Й. Шафарик. В 1859 г. Ганка, обвиненный в подделке рукописей пражской немецкоязычной газетой «Tagesbote aus Böhmen», выиграл иск против её редактора, который был осуждён на два месяца тюремного заключения. В 1880-х, после того как Т. Масарик и филолог Я. Гебауер вместе с другими учёными окончательно доказали, что памятники были подделкой и общественное мнение резко обернулось против наследия Ганки, накал полемики заставил Масарика отказаться от назначения на место редактора чешского энциклопедического словаря, а националистическая пресса заклеймила будущего президента Чехословакии как изменника чешскому народу.27
В марте 1913 г. Хлебников выступает в газете «Славянин» с заметкой «О расширении пределов русской словесности». Русской словесности вообще присуще название „богатая, русская”. Однако более пристальное изучение открывает богатство дарований и некоторую узость её очертаний и пределов [Творения: 593], — заявляет поэт в начале этого текста. Далее он перечисляет разные темы, до сих пор не востребованные литературой,28 из истории и быта не только русских, но и других славянских и неславянских народов, входивших в состав России, и заключает: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым [Там же]. Столь успешная мистификация Ганки — сотворение поэтических текстов, прославляющих героическое прошлое своего народа, — по сути предвосхищает ту программу создания новых “глав” из русской Библии, к осуществлению которой активно стремился Хлебников.
из истории и быта не только русских, но и других славянских и неславянских народов, входивших в состав России, и заключает: Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым [Там же]. Столь успешная мистификация Ганки — сотворение поэтических текстов, прославляющих героическое прошлое своего народа, — по сути предвосхищает ту программу создания новых “глав” из русской Библии, к осуществлению которой активно стремился Хлебников.
И, наконец, Хлебникова, в довоенные годы сильно увлекавшегося панславистскими идеями и выступавшего в печати с проповедью грядущего конфликта между славянством и германскими державами, могли привлечь и антинемецкие мотивы в «Краледворской рукописи», и славянофильские и русофильские взгляды самого Ганки, характерные, впрочем, и для других деятелей чешского национального возрождения.
Благодаря отсылке к “открытию” Ганки, мифологическая пара, использованная в «Учителе и ученике», получает дополнительное осмысление. Весна в этом тексте — это юность, молодость: она входит в один парадигматический ряд с народным творчеством, с народным духом, приветствующим военный подвиг и войну, и, как явно подразумевает автор, с футуристами, будетлянами, смехачами.
Установление связи хлебниковского разговора с литературной мистификацией чешского учёного, поэта и патриота позволяет по-другому взглянуть и на окончание произведения:
Учитель. Но что за книга у тебя на коленях?
Ученик. Крижанич. Я люблю говорить с мёртвыми.
[Творения: 591]
По-видимому, упоминание Ю. Крижанича (ок. 1618–1683) вызвано не только тем, что он был автором “разговоров” на философско-исторические темы,29 но и тем, что он выступил первым идеологом той идеи славянского единства, которая привлекала Ганку и которая является важнейшей частью идеологии раннего Хлебникова.
но и тем, что он выступил первым идеологом той идеи славянского единства, которая привлекала Ганку и которая является важнейшей частью идеологии раннего Хлебникова.
Насколько нам известно, имя Морана не встречается в других произведениях Хлебникова, хотя фигура смерти в разных ипостасях (Мава и дедер из украинского фольклора, Барышня-Смерть, Горе и др.) возникает в его творчестве регулярно, начиная со времен первой мировой войны. Что касается слова Весна, то, несмотря на достаточно высокую частоту его употребления в корпусе хлебниковских текстов, случаев его написания с заглавной буквы, т.е. как имени собственного, совсем немного. Среди опубликованных произведений оно встречается в одной из лингвистических статей 1912–1913 гг.:
§ 1. Ухо словесника улавливает родословную пот и потею и прах и порох, пороша. Отсюда нетрудно вывести хороший от хотеть; хороший — значит желанный.
§ 2. Клянусь усами Весны: ты любопытен.
[НП: 330]
Мотивировка этого шутливого образа остается неясной; возможно, что это не более чем парономастическая игра.
Другой случай использования образа Весны поэтом мы встречаем в одной из его ранних черновых тетрадей,30 до сих пор целиком не разобранной, хотя многие стихотворения из неё публиковались неоднократно. В небольшом стихотворном фрагменте — одном из ряда текстов, в которых поэт изображает политические конфликты своего времени, — Весна связана с пробуждением инстинктивной силы, обозначенной неологизмом Буйна:
до сих пор целиком не разобранной, хотя многие стихотворения из неё публиковались неоднократно. В небольшом стихотворном фрагменте — одном из ряда текстов, в которых поэт изображает политические конфликты своего времени, — Весна связана с пробуждением инстинктивной силы, обозначенной неологизмом Буйна:
Убито горнее чуймо
Проснулось красное буймо
За светом темных окон
Но чудилась Весна
Равноком
Восстала алая Буйна.31
Здесь в образ Весны, по-видимому, вкладывается тот же смысл, что и в «Учителе и ученике».
В своё время в заметке «Примечание к статье Маяковского» Н.И. Харджиев высказал предположение,32 что образ девы Словии (в газетной публикации «Воззвания учащихся славян») и белоликой Славии (в статье «Западный друг») “восходит” к поэме (точнее, поэтическому циклу. — Х.Б.) «Дочь Славы» («Slavy dcera», 1824) Яна Коллара (1793–1857) — крупнейшего представителя чешского классицизма, известного, как и Ганка, своим панславистским мировоззрением. Хотя, как впоследствии отметил А.Е. Парнис, подобная атрибуция является достаточно спорной,33
что образ девы Словии (в газетной публикации «Воззвания учащихся славян») и белоликой Славии (в статье «Западный друг») “восходит” к поэме (точнее, поэтическому циклу. — Х.Б.) «Дочь Славы» («Slavy dcera», 1824) Яна Коллара (1793–1857) — крупнейшего представителя чешского классицизма, известного, как и Ганка, своим панславистским мировоззрением. Хотя, как впоследствии отметил А.Е. Парнис, подобная атрибуция является достаточно спорной,33 дальнейшие поиски связей между славянскими увлечениями Хлебникова и чешским национальным возрождением кажутся достаточно перспективными. Одна любопытная проблема: параллели между программой Й. Юнгманна по обогащению чешского литературного языка лексическим материалом из других славянских языков и одной из задач, перечисленных Хлебниковым в программном письме 1913 г. к А.Е. Кручёных:
дальнейшие поиски связей между славянскими увлечениями Хлебникова и чешским национальным возрождением кажутся достаточно перспективными. Одна любопытная проблема: параллели между программой Й. Юнгманна по обогащению чешского литературного языка лексическим материалом из других славянских языков и одной из задач, перечисленных Хлебниковым в программном письме 1913 г. к А.Е. Кручёных:
8) Заглядывать в словари славян, черногорцев и др. — собирание русского языка не окончено — и выбирать многие прекрасные слова, именно те, которые прекрасны.
[СП V: 298]
Другая — возможное отражение идей чешского славянофильства, пусть и опосредованное через панславизм начала XX века, в программных записях в упоминавшейся черновой тетради поэта: в заметке о славянском вечере34 (в котором участвовали не только Вяч. Иванов, С. Городецкий и сам Хлебников, но и видные деятели панславистского движения В.А. Бобринский и Д.Н. Вергун) и в сочиненном Хлебниковым “обращении” петроградских учимиц в Славянское Благотворительное Общество.35
(в котором участвовали не только Вяч. Иванов, С. Городецкий и сам Хлебников, но и видные деятели панславистского движения В.А. Бобринский и Д.Н. Вергун) и в сочиненном Хлебниковым “обращении” петроградских учимиц в Славянское Благотворительное Общество.35
2
Обращение Хлебникова к литературной мистификации Ганки обусловлено его общей идеологической и эстетической ориентацией на мифологизированное прошлое славянства; пример, который нам предстоит рассмотреть, имеет и более специфическую политическую подоплеку.
В списке потенциальных тем, перечисленных в статье «О расширении пределов русской словесности», имеется и такой пункт: Управда как славянин или русский (почему нет?) на престоле второго Рима также за пределами таинственного круга [Творения: 593]. Этот фрагмент статьи редакторы «Творений» комментируют следующим образом (со ссылкой на публикацию и примечание в НП): „Управда — по легенде, первоначальное имя имп‹ератора› Византии Юстиниана I (527–565), к‹ото›рый якобы был славянином или русским“ [Творения: 705].
Сохранился незавершенный набросок «Управда! Ты русский!..» (1912, согласно Н. Харджиеву и Т. Грицу [НП: 303–304]), который свидетельствует об обращении Хлебникова к до того не востребованному в русской литературе образу Юстиниана. Их комментарий к этому тексту разъясняет исторический фон намеченного сюжета:
Материалом для этого драматического наброска послужил эпизод из царствования императора Византии — Юстиниана (527–565 гг.). Существовала легенда, опровергнутая позднейшей историографией, о том, что Юстиниан был по происхождению славянин и носил первоначально имя Управды. ‹...›
В печатаемом отрывке разработан эпизод из так называемого “восстания ника” (532 г. ‘Ника’ — ‘побеждай!’, возглас, которым публика подбодряла возницу во время бегов, — девиз восставших). Начавшись 13 января в цирке, восстание вскоре охватило всю столицу. Благодаря энергии императрицы Феодоры Юстиниан отказался от бегства, его полководцы Велисарий и Мунд 18 января окружили гипподром и выбили оттуда восставших, которых погибло около 30 000 человек.
Среди бумаг Хлебникова сохранились заготовки, в которых зафиксированы и другие эпизоды из биографии Юстиниана.
[НП: 456]
Эта историческая справка является сжатой парафразой (причём очень близкой) соответствующих мест в статье о Юстиниане в словаре Брогкауза–Эфрона.36 Р.В. Дуганов, включивший набросок в свою подборку хлебниковской прозы, в основном излагает те же факты, что Харджиев и Гриц, уточняя лишь, что „побуждаемый императрицей Феодорой Юстиниан отказался от бегства...“ [Утёс: 243].
Р.В. Дуганов, включивший набросок в свою подборку хлебниковской прозы, в основном излагает те же факты, что Харджиев и Гриц, уточняя лишь, что „побуждаемый императрицей Феодорой Юстиниан отказался от бегства...“ [Утёс: 243].
Имя Управда в сочетании с другими именами встречается ещё в нескольких текстах Хлебникова. В статье «Время мера мира» [1916], в которой поэт привлекает широкий фактический материал для пояснения своей теории о повторяемости исторических событий, он отмечает: Так 30 декабря 533 г. сборник законов “Управды, сына Белениссы и Истока” получил силу закона ‹...› [ССIII: 450]. Почти та же формулировка возникает в стихотворении «Дважды сменилась веселья зарница...»:
Стан плясуньи не ленися:
Одевайся дружбой звонов —
Сын высокой Белениссы
Написал устав законов.
[СП V:43]
И, наконец, в незавершённом трактате «Отрывок из Досок судьбы, Лист 2-й»:
Точно так же “сын Белениссы и Истока” Управда дал свои законы, чтобы повязать ими как ожерельем царьградское горло морей в 533-м году...
[СС III: 499]
Откуда взял поэт имена родителей Юстиниана-Управды? Сразу отметим, что они отсутствуют в словаре Брокгауза-Эфрона; их нет и в популярной, но выполненной с полным учетом основной литературы обзорной статье П.Г. Виноградова.37 Последний текст важен как своего рода свидетельство: к концу XIX в. вопрос о славянском происхождении Юстиниана был решён отрицательно, и Виноградов, перечисляя основные источники своей работы, даже не упоминает об исторической концепции, полностью разрушенной десятью годами ранее известным английским историком Дж. Брайсом (1838–1922).38
Последний текст важен как своего рода свидетельство: к концу XIX в. вопрос о славянском происхождении Юстиниана был решён отрицательно, и Виноградов, перечисляя основные источники своей работы, даже не упоминает об исторической концепции, полностью разрушенной десятью годами ранее известным английским историком Дж. Брайсом (1838–1922).38
Обратимся к статье, с которой Хлебников вполне мог быть знаком и которая могла послужить причиной его интереса к фигуре Управды, — подробному изложению открытия Брайса, написанному византинистом А.А. Васильевым:
В 1623 г. учёный книгохранитель (custos) Ватиканской библиотеки Николай Алеманн издал ‹...› сочинение известного византийского писателя VI века Прокопия Кесарийского ‹...› Historia Arcana. Издание этого сочинения, представляющего из себя настоящую хронику императорского дома, где выводятся просто чудовищные обвинения на Юстиниана и его знаменитую супругу Феодору, было снабжено прекрасными критическими и историческими примечаниями самого издателя Алеманна. В этих-то примечаниях он одиннадцать раз упоминает о каком-то Феофиле, наставнике Юстиниана, аббате ‹...› и о составленном им жизнеописании этого императора (Justiniani vita). Из последнего, на основании свидетельства Алеманна, мы узнаем, что Юстиниан ‹...› 30-ти лет от роду явился в столицу ‹...› что многие родственники Юстиниана и он сам назывались у себя на родине особыми именами: ‹...› мать Юстиниана называлась Bigleniza ‹...› отец последнего, известный у греческих писателей под именем Савватия ‹...› назывался Исток — Istokus ‹...› имя самого Юстиниана было Управда — Upravda ‹...› Вот что сообщает, по свидетельству Алеманна, жизнеописание Юстиниана, написанное аббатом Феофилом, который ещё до вступления своего питомца на престол успел сделать его опытным в богословских познаниях.
Что это был за аббат Феофил и написанное им жизнеописание Юстиниана, оставалось до последнего времени тайной.
39
Далее Васильев перечисляет некоторые дополнения, которые внесли в этот вопрос поверившие в достоверность свидетельства Алеманна учёные из разных стран (в том числе и Э. Гиббон, который объяснил имена Юстиниана и Савватия „готским и даже почти английским языком“). Существенным для нас является тот факт, что в XIX в. среди них были славяноведы — представители недавно сформировавшейся научной дисциплины. Так, например, в своём капитальном труде «Славянские древности» П.Й. Шафарик констатировал, что „Юстиниан в своей родине назывался Управда“,40 хотя не включил туда никаких сведений о семье Управды. Зато в другой, более поздней, работе А. Гильфердинга мы обнаруживаем не только дополнительные сведения, но и изрядную долю пафоса, близкого к хлебниковской интонации в прозаическом отрывке:
хотя не включил туда никаких сведений о семье Управды. Зато в другой, более поздней, работе А. Гильфердинга мы обнаруживаем не только дополнительные сведения, но и изрядную долю пафоса, близкого к хлебниковской интонации в прозаическом отрывке:
Престол кесарей занимает великий законодатель, знаменитейший из императоров восточного Рима. Сын
Истока, он назывался прежде
Управдою, а теперь перевели имя и зовут его Юстинианом; родом из поселян деревни
Ведряны ‹...› Он возвысился покровительством прежнего императора, своего дяди, Юстина, который сам когда-то, молодым земледельцем, пришел пешком из Ведряны в Византию, с одним тулупом на плечах, и потом перевел туда жену свою, прозвищем
Лупкиню, сестру
Бегленицу, мать Управды, и племянницу
Бегленицу же, по-римски Вигиланцию. ‹...›
Стало быть, в VI веке на императорском престоле в Византии сидел Славянин, окруженный Славянскою семьею; Византийские войска имели вождями Славян, и Славяне служили в рядах их; Славянин защищал северную границу империи на Дунае, а на противоположном берегу Дуная стояли Славяне огромным племенем, готовые нахлынуть на земли Восточной Римской империи.
41
Ср. начало текста Хлебникова:
Управда! Ты русский! Твоя кровь могущественна в белой пустыне среди дубрав между семью морями. Страна, в которой ранами и сечами своего дяди ты вознесен править народом, вдовицей век оплакивает, когда среди могущества и чести был жив её покойный муж. Да, Рима нет. Померк сей образ светлый.
[Утёс: 73]
Мы не будем настаивать на том, что Хлебников почерпнул сведения о Юстиниане именно из труда Гильфердинга — это не более чем один из ряда широко известных научных текстов (которых не так уж много), содержащих данные о Юстиниане и его семье. Кроме того, приходится учитывать, что непосредственным источником для поэта могло послужить и какое-нибудь промежуточное произведение, например, публицистического характера. Важно, однако, то, что представления Хлебникова об Управде вписываются в контекст славянофильских течений в XIX в. и являются своеобразным продолжением или возрождением одного из компонентов мифологизированной романтической концепции о героическом прошлом славянских народов.
Как выяснил Брайс, работавший в Риме в 1883 г. над историей эпохи Юстиниана, концепция эта уходит ещё глубже в прошлое. Английский учёный так и не обнаружил в Ватиканской библиотеке рукописи Феофила, однако в книгохранилище дворца Барберини ему удалось найти небольшой манускрипт под заглавием «Vita Justiniani». Это произведение, якобы являющееся переложением оригинала на “иллирийском языке”, который был написан аббатом Богомилом (т.е. Феофилом) и хранится в одном из афонских монастырей, излагает раннюю биографию Юстиниана — славянина Управды, „из рода и фамилии Св. Константина ‹...› великого царя Римлян и величайшего из христианских монархов“ (С. 475). К нему же приложен ряд объяснений, сделанных неким Иоанном Томком Марнавичем (Мрнавичем, 1579 — 1639?); в основном это толкования различных имен, которые встречаются в жизнеописании.
Не вдаваясь в подробности рассуждений Брайса и Васильева, приведём их основные выводы. Наставник Юстиниана Феофил — лицо вымышленное; Алеманн имел возможность пользоваться манускриптом, который и обнаружил Брайс; нет никаких доказательств существования исходного подлинника на Афонской горе; вероятнее всего, автором «Vita Justiniani» — не только толкований, но и жизнеописания — был сам Марнавич.
Этот уроженец далматинского города Шибеника получил образование в Риме, где „благодаря своим замечательным способностям вскоре привлек к себе внимание многих выдающихся лиц того времени“ (С. 481). В дальнейшем он долго служил славянским переводчиком в Риме, написал ряд сочинений и сделал вполне солидную церковную карьеру, дойдя до поста епископа Боснии. “Общественное положение” Марнавича „давало ему полную возможность быть знакомым с массой рукописей“ (С. 484), в том числе и славянских. Какими-то из них, по-видимому, он воспользовался при составлении «Vita Justiniani», так как некоторые из упомянутых в ней славянских имен были ранее известны в литературе. Как можно заключить из характера рукописи, Марнавич не ставил себе далеко идущих целей: „Судя по нашему отрывку, он верит в своего Богомила. Если бы наш манускрипт был полною намеренной фальсификацией, то он, вероятно, был бы издан, чего с ним однако не было. Кроме того, весь отрывок не производит впечатления чего-нибудь цельного, стройного, преследующего какую-нибудь определенную, заранее намеченную цель; напротив, это есть ряд довольно беглых замечаний, не приведённых в какую-либо систему“ (С. 484).
Как заключает Васильев вслед за Брайсом, „рассказ отрывка имеет полумифический, романтический характер и в некоторых случаях сильно отступает от исторической истины“ (С. 490). Тип легендарного героя, обрисованного в рукописи, имеет свои аналоги в разных культурах: „разбираемый здесь отрывок вводит нас в цикл славянских легенд, связанных с именем Юстиниана, подобных другим славянским легендам об Александре В‹еликом›, аквитанским о Карле В‹еликом›, германским о Теодорихе и Аттиле, британским об Артуре, итальянским о Тотиле“ (С. 491).
Итак, обращение Хлебникова к фигурам славянина Управды и его семейства, как и к образам “двух славянских богинь” из «Краледворской рукописи», является примером восстановления в его поэтической системе более ранних мифологических наслоений, возникших в результате обработки элементов народных поверий в среде книжников. Ранний, довоенный, этап творческой биографии поэта, в котором столь заметное место занимают поиски и разработка героической парадигмы, вначале славянской, а затем универсальной, — на самом деле воспроизводит аналогичные общественные стремления в предшествующей культурной истории славян.42
Однако набросок «Управда! Ты русский!..» свидетельствует о том, что интерес поэта к фигуре Юстиниана был вызван не только его якобы славянской родословной, но и восстанием 532 г., одним из наиболее важных событий его царствования. Произведение, построенное как диалог Юстиниана и Феодоры, открывается речью императрицы, которая, напомнив супругу о его славянской крови, сопоставляет восставший народ с бабром (тигром) и настаивает на применении против него самых жестких мер:
Стыдись, ты кто? забыл ли ты, как ночью я шептала, как нужно править [народом]? Взглядом и бичом смиряй его, бабра заставь, как кошку, ластиться у ног, мурлыкать, песню петь, как будто бы с лежанки спрыгнул домашний кот. Сильный покорен только сильному; с бабрицей будь более, чем она, бабрицей, с народом будь более, чем он, народ. Советам моим следуй, и снова ложе брачное повторим среди укрощённых взглядом повелителя зверей.
Они собрались; тридцать тысяч. Вели полководцу жечь, колоть глаза, изрубить их, и тигр взвоет от ярости, но покорится, почувствовав сильнейшего; рубить их прикажи, — святош, беснующихся, законников и всю ту масть цветов бабровых, которая зовётся мятежом. Сожги те зданья, где они; осироти весь город, — тогда почувствуют. Сегодня придут лукавые вельможи, усмешкой язвя и вспоминая то время, когда я пела и плясала им. Я их заставлю благословлять мой след, целовать мои ноги за то, что оставляю власть и не лишаю жизни их, свидетелей доцарственной судьбы, и, великолепная, я усмирю их новой вспышкой красот и дерзости. Если я знала их поцелуи, как плясунья и певица, они узнают тут меня, как их повелительницу. Ударом бича усмиряй толпу, казни и отымай, дари и даруй, — вот мудрость.[Утёс: 73–74]43
Этот фрагмент имеет некий исторический прототип: согласно повествованию Прокопия Кесарийского о “восстании ника” (в «Войне с персами»), в критический для Юстиниана момент во время совещания его сторонников наиболее решительным лицом оказалась императрица, выступившая со следующей речью:
Сейчас, я думаю, ‹...› не время рассуждать, пристойно ли женщине проявить смелость перед мужчинами и выступить перед оробевшими с юношеской отвагой. Тем, у кого дела находятся в величайшей опасности, ничего не остается другого, как только устроить их лучшим образом. По-моему, бегство, даже если когда-либо и приносило спасение и, возможно, принесёт его сейчас, недостойно. Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо. Да не лишиться мне этой порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой! Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — лучший саван.
44
Фразу Феодоры об отказе расстаться с верховной властью Хлебников развёртывает в короткую зарисовку её отношений с византийской знатью, дополненную перечислением мер, впоследствии принятых против восставших. Однако в дальнейшем на первый план поэт выдвигает реплику Юстиниана, которая не имеет исторического источника. В ответ на увещевания жены император даёт согласие на подавление восстания и признает необходимость подкрепить силой свою законодательную деятельность:
— Убийства, смерти, казни! Без них нельзя вести людей? Как стройно всё в законах и как законов плащ багрянцем казней окружает жизнь. ‹...› Ты права: пусть укро‹тится› царственный мятеж. Итак, меч против поднявших меч. Меч и горе, и слёзы тех, и вечный плач уж неутешных вдов и матерей! Что делать: законы не везде всё предусмотрели и иногда их покрывает кровь. Пусть воин завоюет власть, почёт и уваженье. Законоизмышлять это то же, что устанавлять теченье звёзд, и лишь народ, как море бурное, теченье звёзд согласных нарушает. Ещё ни одно лицо красивое зеркалом так не было искажено, обезображено, как законодателя предначертания страной. Что ж, меч рассудит, кто прав.
[Утёс: 74]
Хотя выступление Юстиниана вполне мотивировано ситуацией, трудно отказаться от мысли, что здесь имеется и дополнительный исторический фон, что Хлебников проецирует на подавление восстания в Византии свою оценку революционных событий, которые несколькими годами ранее потрясли Россию. Вполне возможно, Управда для него важен не только как славянин, но и как властитель, который прославился законодательной мудростью и одновременно оставил потомкам пример того, как следует обращаться с мятежами.
Такое прочтение текста подсказано общей направленностью “славянских” и “патриотических” взглядов поэта и в особенности его попыткой публикации произведений малороссиянки Милицы.45 Как известно, Хлебников настоятельно рекомендовал М.В. Матюшину напечатать во втором «Садке судей» несколько стихотворений тринадцатилетней начинающей поэтессы. В результате три её текста появились в этом важнейшем альманахе кубофутуристов, однако Матюшин отказался от стихотворения «К Государю», которое здесь публикуется впервые:
Как известно, Хлебников настоятельно рекомендовал М.В. Матюшину напечатать во втором «Садке судей» несколько стихотворений тринадцатилетней начинающей поэтессы. В результате три её текста появились в этом важнейшем альманахе кубофутуристов, однако Матюшин отказался от стихотворения «К Государю», которое здесь публикуется впервые:
О наш великий Государь,
Наш православный русский царь!
Тебя люблю я всей душою,
Любовью детскою, простою.
Вели — умру, вели же буду жить,
Всем буду верить, всех любить.
Вели себя закую в латы
Надену шлем и меч возьму
И на врага ударив смело
На поле битвы я умру.
Пусть говорят тогда: там дева пала!
Она за Государя смерти ждала,
За родину свою.
И счастлива в гробу
Тогда я буду,
Недаром же я русскою зовусь
И к Государю всей душою я стремлюсь.
46
В своём письме Матюшину от 5 октября 1912г. (т.е. приблизительно в период создания наброска «Управда» и других текстов славянской тематики) Хлебников подчёркивает, что стихотворение Милицы раскрывает, как над маленьким сердцем нашего времени тяготеет образ Орлеанской девы. ‹...› Оно описывает трогательную решимость лечь костьми за права речи и государственности и полны тревожным трепетом предчувствия схватки за эти права [СП V: 294].
О том, что политическая позиция Хлебникова в довоенный период сильно отличалась от взглядов других членов «Гилеи», свидетельствует письмо к нему Матюшина от 5 февраля 1913 г., в котором последний указывает, что другие члены редакции „не пожелают слишком молодого и неумного сотрудника, да ещё с такой восторженно‹й› ...ну, скажем, запоздалой что ли тенденцией к царизму“.47 Об „остро выраженном в то время“ национализме Хлебникова пишет в своих воспоминаниях А. Кручёных, который отмечает, что в строчках „нож хвастлив / взоры кинул / и на стол / как на пол / офицера опрокинул / умер он“ из его известного примитивистского стихотворения «Старые щипцы заката...»48
Об „остро выраженном в то время“ национализме Хлебникова пишет в своих воспоминаниях А. Кручёных, который отмечает, что в строчках „нож хвастлив / взоры кинул / и на стол / как на пол / офицера опрокинул / умер он“ из его известного примитивистского стихотворения «Старые щипцы заката...»48 Хлебников „усмотрел оскорбление армии и безуспешно настаивал на замене ‘офицера’ — ‘хроникером’(!)“.49
Хлебников „усмотрел оскорбление армии и безуспешно настаивал на замене ‘офицера’ — ‘хроникером’(!)“.49
3
Анализируя мифотворчество Хлебникова, следует учитывать и психологический момент, который как бы накладывается на момент идеологический. Об этом свидетельствует Янко Лаврин (1887–1986) — журналист, деятель славянского движения и близкий знакомый Хлебникова в период его сотрудничества в газете «Славянин»,50 который приводит в своих небольших воспоминаниях о поэте один любопытный факт (речь идёт о стихотворном тексте, сюжет которого основан на знаменитой истории самоубийства в замке Майерлинг в 1889 г. австрийского эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной):
который приводит в своих небольших воспоминаниях о поэте один любопытный факт (речь идёт о стихотворном тексте, сюжет которого основан на знаменитой истории самоубийства в замке Майерлинг в 1889 г. австрийского эрцгерцога Рудольфа и его возлюбленной):
Однажды он мне читал вслух своё стихотворение «Мария Вечора» и спросил меня, не могу ли я дать ему какие-нибудь новые данные о ней и её трагической смерти. Я ответил, что знаю только то о ней, что уже известно. В то же время я возразил, что её фамилия не Вечора, а Вецера (Wétzera) и что она была, вероятно, греческого происхождения. Хлебников сейчас же запротестовал и сказал, что он написал это стихотворение с тем бóльшим интересом, что считал её славянкой. Для него она была Вечора, а не Вецера. О каком-либо изменении её фамилии на неславянский лад он и слышать не хотел.
51
Для Хлебникова, переделавшего историю о самоубийстве обоих любовников в сюжет о похищении девушки и о гибели её похитителя, мнимое славянское происхождение героини позволяло подвести ситуацию под идеологическую парадигму отношений между германским и славянским миром. Неудивительно, что и в случае с Управдой (а также в случае «Краледворской рукописи») упорство поэта, его готовность проигнорировать результаты научной работы и поддержать опровергнутую легендарную традицию, не сводимы к литературной игре, но вызваны глубинными, хотя и весьма наивными, идеологическими ориентирами.
Следует отметить, что верноподданнические настроения Хлебникова исчезают достаточно быстро. В цитированных выше более поздних случаях использования поэтом имени Управды в произведениях периода войны упоминается только его законодательная деятельность — о насильственном подавлении “восстания ника” нет и речи. 10 марта 1917 г. Хлебников откликается на февральскую революцию и отречение Николая II стихотворением, в котором он вновь обращается к той же самой оппозиции правитель (государь)/народ, что и в наброске «Управда! Ты русский!..», однако здесь она получает противоположную разработку:
Народ поднял верховный жезел,
Как государь идёт по улицам.
Народ восстал, как раньше грезил.
Дворец, как Цезарь раненый, сутулится.
В мой царский плащ окутанный широко,
Я падаю по медленным ступеням,
Но клич „Свободе не изменим!“
Пронесся до Владивостока.
Свободы песни, снова вас поют!
От песен пороха народ зажегся.
В кумир свободы люди перельют
Тот поезд бегства, тот, где я отрекся.
Крылатый дух вечернего собора
Чугунный взгляд косит на пулеметы.
Но ярость бранного позора —
Ты жрица, рвущая тенета.
Что сделал я? Народной крови темных снегирей
Я бросил около пылающих знамен,
Подругу одевая, как Гирей,
В сноп уменьшительных имен.
Проклятья дни! Ужасных мук ужасный стон.
А здесь — о, ржавчина и цвель! —
Мне в каждом зипуне мерещится Дантон,
За каждым деревом — Кромвель.
[Творения: 107–108]
Октябрьская революция создаёт новые возможности для мифологизации фигуры вождя (см. образ Ленина в поэме «Ночь в окопе»), однако Хлебников, отразивший в своих произведениях ужас гражданской войны, устремлённый к разработке своих законов времени и рассматривавший себя в ряду провидцев-пророков мировой истории, совсем иначе смотрит на проблему государства, власти и своего к ним отношения. Его позиция изящно и предельно ясно сформулирована в небольшом стихотворении начала 1922 г.:
Участок — великая вещь!
Это — место свиданья
Меня и государства.
Государство напоминает,
Что оно всё ещё существует!
[Творения: 177]
Примечания 1
1 См.:
Мамаев А.А. Астрахань Велимира Хлебникова. Астрахань, 1996.
 2
2 Статью Вячеслава Иванова «О весёлом ремесле и умном веселии» Хлебников цитирует в своём письме мэтру символистов от 31 марта 1908 г., к которому он приложил несколько опирающихся на неологизмы стихотворений — мифологических картинок. О взаимоотношениях Иванова и Хлебникова см.:
Баран X. К типологии русского модернизма: Иванов, Ремизов, Хлебников // Баран X. Поэтика русской литературы начала XX века. М., 1993. С. 191–210;
Парнис А.Е. Вячеслав Иванов и Хлебников // de visu. 1992. №0. С. 39–45;
Шишкин А. Велимир Хлебников на «Башне» Вяч. Иванова // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 141–167;
электронная версия работы А.Б. ШишкинаСоливетти К., Рыжик-Набокина Э. Истоки “сверхпрозы” Хлебникова «Учитель и ученик»: затекстовые и полижанровые
плоскости // Russian Literature. XLII. Amsterdam, 1997. P. 379–412.
 3
3 Попытки осмыслить исторические и общественные сдвиги вначале привели Хлебникова к идее славянского “золотого века”, а затем — к мифологизированной концепции циклической структуры времени — одной из ряда подобных теорий, распространённых в начале столетия. См.:
Meyerhoff H. Time in Literature. Berkeley; Los Angeles, 1955;
Иванов Вяч.Вс. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974. С. 39–67.
 4 Баран X.
4 Баран X. Поэтическая логика и поэтический алогизм Хлебникова // Наст. кн. С. 19–49.
 5
5 См.:
Иванов Вяч.Вс. Славянская пора в поэтическом языке и поэзии Хлебникова // Советское славяноведение. 1986. №6. С. 62–71;
Баран X. В творческой лаборатории Хлебникова: о “тетради 1908 г.” // Баран X. Поэтика русской литературы... С. 179–188.
Перцова Н., Рафаева А. «Звучаль славянина»: сказочные мотивы в ранних произведениях Хлебникова // Вестник Общества Велимира Хлебникова. 1. М., 1996. С. 123–130;
Перцова Н., Рафаева А. Русская старина в творчестве Велимира Хлебникова // Живая старина. 1996. № 2. С. 15–17.
 6
6 См., в частности:
Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы языка поэта. М., 1986. С. 63–84.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 7
7 См., например:
Бобринская Е. Натурфилософские мотивы в творчестве Елены Гуро // Вопросы искусствознания. 1997. Т. XI. С. 159–178;
Бобринская Е. “Скифство” в русской культуре начала XX века и скифская тема у русских футуристов // Искусствознание. 1998. № 1. С. 445–467. Из работ последних лет о мифологии отдельных представителей авангарда см.:
Топоров В.Н. Миф о воплощении юноши-сына, его смерти и воскресении в творчестве Елены Гуро // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 400–427;
Гуска М. Мифологические истоки живописного мифотворчества Д. Бурлюка // Давид Давидович Бурлюк. Киев, 1998. С. 63–67.
 8
8 Этот важнейший аспект модернизма обсуждается в книге:
Bell M. Literature, Modernism and Myth: Belief and Responsibility in the Twentieth Century. Cambridge, 1997.
 9
9 Кроме упомянутых выше работ Иванова, Перцовой и Рафаевой, см., например:
Mirsky S. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs. München, 1975;
Баран Х. Фольклорные и этнографические источники поэтики Хлебникова // Баран X. Поэтика русской литературы... С. 113–151;
Тартаковский П.И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебникова. 1900–1910-е годы. Ташкент, 1987;
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruТартаковский П.И. Древнеиранская мифология в художественной структуре творений позднего Хлебникова // Хлебниковские чтения. СПб., 1991. С. 40–49;
Кравец В. Формула ВОЙНА — СМЕРТЬ И ВЕЩЬ — ТРУП МАВА в творчестве Велимира Хлебникова // Σαμβατας 1991. № 10. С. 49–134.
 10 Григорьев В.П.
10 Григорьев В.П. Словотворчество и смежные проблемы... М., 1986. С. 64.
 11
11 См., например, анализ рассказа «Закалённое сердце (Из черногорской жизни)» (1913):
Парнис А.Е. Южнославянская тема Велимира Хлебникова. Новые материалы к творческой биографии поэта // Зарубежные славяне и русская культура. Л., 1978. С. 223–251.
 12
12 «Воззвание учащихся славян» (1908), статьи «Западный друг» и «Кто такие угророссы?» (1913).
 13
13 Так, в рецензии на первый том «Собрания произведений» (1928) назвавший Хлебникова „крупнейшим поэтом XX века“ В. Друзин отметил, что помещенные в томе тексты могут быть истолкованы с разных политических точек зрения: „Возможность использования Хлебникова реакционерами так же велика, как и революционерами“ (
Друзин В. [Рец.] В. Хлебников. Собрание произведений. Т. 1. Л., 1928 // Звезда. 1928. № 9. С. 138). Спустя два года в своём отклике на следующий том того же издания И. Поступальский заявил: „Взглянем строже на знаменитую хлебниковскую архаику ‹...› Можно, конечно, трактовать её по-формалистски, видеть в ней только “привлечение свежей лексики” и т.п. В действительности же перед нами рецидив славянофильских идей, опять-таки обусловленный классовой природой поэта ‹...› Но уже при просмотре стихов, относящихся к русско-японской войне, нас поразила слитность этой стилевой архаики с мировоззрением поэта. Славянофильство В. Хлебникова даже на основании этих стихов мы вправе сблизить с Тютчевым, Майковым, Хомяковым и другими дворянскими поэтами-славянофилами“ (
Поступальский И. В. Хлебников и футуризм (к выходу II тома собр. соч.) // Новый мир. 1930. №5. С. 189). Из подобных текстов наиболее опасной была послевоенная разгромная статья Б. Яковлева «Поэт для эстетов» (Заметки о Велимире Хлебникове и формализме) (Новый мир. 1948. №5. С. 207–231).
 14
14 Так, например,
рождественская сказка «Снежимочка» (1908) была опубликована Н. Харджиевым и Т. Грицом [НП: 64–75] с рядом купюр: изъятые фрагменты раскрывали политические установки некоторых действующих лиц сказки и, как можно предположить, симпатии самого Хлебникова. Во втором
дейме (действии) в разговоре с двумя интеллигентами (один из которых,
товарищ Борис,
картавит и сюсюкает, согласно авторской ремарке) лесной
Ховун заявляет:
Мы, барин, тёмные люди чёрной сотни. Живём в лесу, а в гостях у нас либо ворон, либо вор. Не научены мы. Чуть позже, о своих собеседниках:
А... руковерхники... Качались бы, как спелые вишни... Сидели бы скромненько. Эти и другие купированные фрагменты были впервые опубликованы и прокомментированы в работе:
Baran H. Temporal Myths in Xlebnikov: From «Deti Vydry» to «Zangezi» // Myth in Literature / Ed. A. Kodjak, K. Pomorska, S. Rudy. Columbus, Ohio, 1986. P. 63–88. Полный текст пьесы был опубликован лишь в 1986 г. [Творения: 381–390].
 15
15 См. подробный анализ этого произведения в указанной выше работе К. Соливетти и Э. Рыжик-Набокиной.
 16
16 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 253.
 17
17 „Это время необычайно богато верованиями, ритуалами, гаданиями, приметами, календарное приурочение которых весьма условно и далеко не всегда мотивировано“ —
Агапкина Т.А. Весна // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 1: А–Г/ Под ред. Н.И. Толстого. М., 1995. С. 348. Ср.:
Агапкина Т.А. Весна // Славянская мифология. Энциклопедический словарь... С. 84–86.
 18
18 Например, в стихотворениях «Я видел выдел ...», «Весеннего Корана...», «Весны пословицы и скороговорки...», в поэме «Поэт» и др.
 19 Некрасов Н
19 Некрасов Н. Краледворская рукопись в двух транскрипциях текста с предисловием, словарями, частью грамматическою, примечаниями и приложениями. СПб., 1872. С. 357–358.
 20
20 Там же. С. 351.
 21
21 Ряд возможных заимствований из этого труда рассмотрен в работе:
Гарбуз А.В. В.В. Хлебников и А.Н. Афанасьев // Фольклор народов РСФСР. Уфа, 1984. С. 124–132.
 22 Афанасьев А.Н.
22 Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3-х томах. М., 1869 (репринт — М., 1994). Т. 3. С. 693–694. Сам Афанасьев опирается на исследование И.И. Срезневского (Извлечения из Краледворской рукописи, касательно религиозных верований и обрядов // ЖМНП. 1840. Ч. 28. Отд. 2. С. 115–148), которое могло быть известным Хлебникову.
 23
23 В 1840-х годах в Московском университете на занятиях по переводу с чешского языка использовалась «Краледворская рукопись» (
Лаптева Л.П. Славяноведение в Московском университете в XIX – начале XX века. М„ 1997. С. 52).
 24 Jakobson R.
24 Jakobson R. In Memory of Hanka // Jakobson R. Language in Literature. Cambridge, Mass.; London, 1987. P. 403 [перевод статьи «Памяти Ганки» (1931)].
 25 Jakobson R.
25 Jakobson R. Ibid. P. 399–400.
 26
26 Ганка был награждён российскими орденами, в том числе серебряной медалью Академии наук.
 27
27 А уже в 30-е годы нашего столетия защита подлинности рукописей стала пунктом политической платформы чешской фашистской организации «Vlajka» (
Sayer D. The Coasts of Bohemia: A Czech History. Princeton, 1998. P. 147).
 28
28 Например,
В пределах России она (т.е. русская словесность. —
Х.Б.)
забыла про государство на Волге ‹...›
Удельный строй, кроме Новгорода, Псков и казацкие государства остались в стороне от её русла. ‹...›
Великий рубеж 14 и 15 века, где собрались вместе Куликовская, Косовская и Грюнвальдская битвы, совсем не известен ей и ждёт своего Пржевальского [Творения: 593].
 29
29 В форме диалога построен главный труд Крижанича «Политика» (опубл. в России в 1859–1860 гг.).
 30
30 РГАЛИ. Ф. 527. Оп. 1. Ед. хр. 63. В интересной, хотя не бесспорной попытке Н.Н. Перцовой реконструировать предполагаемый состав “романа” Хлебникова тетрадь отнесена к 1908 – первой половине 1909гг. (
Перцова Н.Н. О ненаписанном романе Хлебникова // Язык как творчество. К 70-летию В.П. Григорьева. М., 1996. С. 89).
 31
31 РГАЛИ. Ф. 527. Оп. 1. Ед. 63. Л. 7 (опубликовано, с пропуском слова
алая, см.:
Перцова Н.Н. Там же. С. 96). Ср. иное прочтение 4-й строки,
Почудилась весна [СС 1:179].
 32 Харджиев Н.И.
32 Харджиев Н.И. Заметки о Хлебникове // Харджиев Н.И. Статьи об авангарде: В 2-х томах / Сост. Р. Дуганов, Ю. Арпишкин, А. Сарабьянов. М., 1997. Т. 2. С. 277.
 33 Парнис А.Е.
33 Парнис А.Е. Южнославянская тема... С. 227. Харджиев также предложил исправить
Словию в газетной публикации «Воззвания» (
Гряди, дивный хоровод с девой Словией как представительницей горы) на
Славию. Парнис, ссылаясь на запись в ед. хр. 63, возразил, что Хлебников, строя „звуковую метафору на характерном для него принципе
внутреннего склонения“, пользовался „двумя формами написания этого слова“ —
Словия для словян (л. 10 — в статье неправильно напечатано ‘славян’; на том же листе фраза
Всероссийский союз словян) — и что образ Славии был „широко распространен в чешской и словацкой традиции начала XIX в. ‹...› а также использовался как символ всего славянства в неославянофильской литературе начала XX в. в России“. Оставляя в стороне вопрос о датировке отдельных записей в тетради, а также готовность поэта использовать менее понятную лексему в документе, предназначенном для широкой аудитории, заметим, что образ девы (богини) Славы (Славии) приобрел широкую известность благодаря успеху поэзии Коллара и что более поздние авторы-славянофилы постоянно цитируют своих предшественников, создавая, таким образом, дополнительный механизм передачи традиции. В этой связи процитируем фрагмент из редакционной статьи в первом номере «Славянина»:
Что несёт славянство человечеству? С чем являемся мы на суд народов? ‹...› Что же заронил Всевышний в наше племя?
Наше племенное название многие производили от ‘слова’: словяне — это те, кто пользуется словом, в отличие от тех, кто не понимает нас и которых мы назвали немцами, т.е. немыми. Старый патриарх славяноведения, чешский аббат Добровский сказал: „Царство Славии — это царство Бога-Слова. Это проявление Второго Лица Божества ‹...›“
Другие производили наше название от ‘славы’. Мы не словяне, а славяне, толковали они. Но и слово, и слава производятся от одного корня ‘слыть’. Кем же мы слывем между народами? Что внесли мы до сих пор в сокровищницу человечества?
Племя правды // Славянин. 1913. № 1. С. 1.
Таким образом, обыгрывание Хлебниковым пары
слово /слава также имеет свою традицию.
 34
34 Эта заметка упоминалась в литературе о Хлебникове (
Парнис А.Е. Южнославянская тема...;
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. М., 1983. С. 200) и была частично опубликована Н.Н. Перцовой (
Перцова Н.Н. О ненаписанном произведении... С. 102–103). Эта страница тетради не поддается прочтению полностью, и порядок некоторых фрагментов может быть установлен лишь предположительно, однако в публикации отсутствует несколько существенных строк, а некоторые места мы читаем по-другому. На наш взгляд, запись должна быть расшифрована следующим образом:
Славянский вечер
Ответ распорядит‹елю›: Велимир Хлебников
Речь Вячеслава Иванова
Речь Сергея Городецкого
Речь [Велимира Хлебникова]
О путях сл‹о›вийско‹го› возрождения
Права провозглашаемые словийски‹м› созн‹анием›
Исправление русской личности
К богам возвращение
бывёл
Вергун
Бобринский
Стахович
Волшебный фонарь. Экран, Завоеван‹ие› немца‹ми› слав‹янских› земель
Пьеса
Епископ Митрофан
Еп‹ископ› Евлогий
приписано справа
Это похоже на истину, сказал Стецкий и опустившись на кресло заплакал
вписано сверху
озаконление обычая
право быть собой
школы — орудие сохранения быта.
РГАЛИ. Ф. 527. Оп. 1. Ед. хр. 63. Л. 9 35
35 Эти записи почти наверняка относятся к периоду сотрудничества поэта в газете «Славянин» (1913).
 36 Гревс И.
36 Гревс И. Юстиниан // Энциклопедический словарь. Т. 41 / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1904. С. 445, 447.
 37 Виноградов П.Г.
37 Виноградов П.Г. Империя VI века и Юстиниан // Книга для чтения по истории средних веков / Под ред. П.Г. Виноградова. М., 1896. С. 212–246.
 38 Bryce J.
38 Bryce J. Life of Justinian by Theophilus // The English Historical Review. 1887. Vol. 2. P. 657–684. Джеймс Брайс (1838–1922) — историк, дипломат, посол Великобритании в США, член Международного трибунала в Гааге, автор классического труда об американской конституции («The American Commonwealth», 1888).
 39 Васильев А.
39 Васильев А. Вопрос о славянском происхождении Юстиниана // Византийский временник. Т. 1. Вып. 3 и 4. СПб., 1894. С. 469–471 (в дальнейшем ссылки на эту работу даются прямо в тексте).
 40 Шафарик П.Й.
40 Шафарик П.Й. Славянские древности. Т. 2. Кн. 1 / Перев. О. Бодянского. М., 1848. С. 258.
 41 Гильфердинг А.
41 Гильфердинг А. История сербов и болгар // Гильфердинг А. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1868. С. 7–8.
 42
42 Заметим, что в «Славянине» под именем „Управда“ несколько раз печатался македонский политический деятель Д.П. Чуповский (1878–1940). Его пример — использование псевдонима с семантической нагрузкой, понятной для читателей газеты, — показывает, насколько серьёзнее было отношение Хлебникова к этому материалу.
 43
43 С драматическим наброском частично перекликается монолог Управды в черновике к 6-му парусу (разделу) сверхповести «Дети Выдры», в котором выступает ряд исторических фигур из славянского прошлого:
Я Управда, востока земной властелин, /
Я слышал сло‹ва›:
славянин, /
Сядь на престол слабых рим‹ских›
потомков, /
Слаб он и гол, /
Состоит из обломков. /
Я прошел златым покоем /
Между лестниц и дверей. /
Славянина успокоим /
Укрощающей зверей. /
Был мне слышен хохот тайный, /
Хохот тайный, не случайный [НП: 456].
 44
44 Цит. по:
Чекалова А.А. Константинополь в VI веке. Восстание ника. СПб., 1997. С. 211.
 45
45 По-видимому, Е.А. Дзигановская [Утёс: 256].
 46
46 Частное собрание (Москва).
 47 Крученых А.Е
47 Крученых А.Е. О Велимире Хлебникове / Публ. и коммент. А.Е. Парниса // Литературное обозрение. 1996. №5–6. С. 37. Кручёных вспоминает о „сильно сусанинском духе“ некоторых текстов юной поэтессы (С. 31).
электронная версия воспоминаний А.Е. Кручёных 48
48 Пощечина общественному вкусу. М., 1913 [1912]. С. 87.
 49 Крученых А.Е.
49 Крученых А.Е. О Велимире Хлебникове... С. 31–32.
 50
50 О нём см.:
Парнис А.Е. Хлебников: в поисках нового пространства и о преодолении Европы // Балканские чтения–2. Симпозиум по структуре текста. Тезисы и материалы. М., 1992. С. 137–143.
 51
51 «Пророческая душа». В. Хлебников в воспоминаниях современников / Подгот. текста и примеч. А. Парниса // Литературное обозрение. 1985. № 12. С. 97.
электронная версия воспоминаний Янко Лаврина
—————
Статья впервые опубликована: альманах Россия/Russia. Вып. 3[11].
Культурные практики в идеологической перспективе: Россия, XVIII–начало XX века.
М.: ОГИ., 1999. С. 261–279.
ПОСТСКРИПТУМ
Выше мы указали на статью А.А. Васильева в «Византийском временнике» как потенциальный источник сведений Хлебникова о Юстиниане и о его якобы славянском происхождении. Сейчас можно добавить и другой, на наш взгляд, более вероятный. Это достаточно популярная в начале века «История человечества» Г. Гельмольта, которой поэт пользовался в работе над повестью «Ка» (см. статью «Египет в творчестве Хлебникова» в настоящем издании) и другими текстами (например, стихотворение «Чёрный царь плясал перед народом...» — см.: [СС 1: 508]). В подробном описании царствования Юстиниана, в разделе «Эллинизм со времен Александра Великого», Р. Скала касается и вопроса о его якобы славянской родословной: коротко излагая суть открытия Дж. Брайса, он соглашается с выводами английского историка. Процитируем этот фрагмент полностью; следует отметить, что в нём упомянуты те легендарные “славянские” имена, которые возникают в разных текстах Хлебникова:
1 августа 527 года Юстиниан становится единственным повелителем империи, которая и остаётся под его управлением до 14 ноября 565 года. Родной язык императора был латинский, а фамилия (Савватий) фракийская, но ему приписывалось также и славянское происхождение. Говорили, что его первоначальное имя было Управда, которое было потом переведено по латыни ‘Юстиниан’; отца его будто звали Истоком, а мать Белениссой. Но «Жизнь Юстиниана» Феофила, вновь найденная Джемсом Брайсом в Барберинской библиотеке в Риме, является единственным источником этих позднейших и неудачных славянских образований имён, которые в лучшем случае могут лишь свидетельствовать о поздних славянских легендах, создававшихся вокруг имени Юстиниана (основавшего на сербской и болгарской территории церкви в Прицренде и Сердике), но, всего вероятнее, просто выдуманы далматом Луккари (1605) и его земляками. Таким образом, падает всякое основание для мнения о славянском происхождении Юстиниана. Скорее можем мы с полной достоверностью узнать в нем фрако-иллирийца, который, будучи рождён на рубеже упадка фракийской народности и всё большего расцвета народности иллирийской, т.е. албанской, носит фракийское имя, но проявляет чисто албанскую народную энергию.
История человечества. Т. 5. С. 39.
Следует также упомянуть о возможном знакомстве поэта с переводом известного труда французского византиниста Ш. Диля (Ch. Diehl) (Юстиниан и византийская цивилизация в VI веке. СПб., 1908), в котором коротко излагаются легенды о происхождении Юстиниана (со ссылкой на работы Брайса, Васильева и др.) (С. 35–36), а в главе о Феодоре приводится её знаменитое выступление (С. 56).
В нашей статье мы отметили эволюцию взглядов Хлебникова на взаимоотношения народа и правителя: одобрение расправы Юстиниана над “восстанием ника” в наброске «Управда! Ты русский!..» сменяется в феврале 1917 г. приятием свержения Николая II. В дальнейшем поэт приходит к отрицанию власти государства над человеческой личностью. Этой новой позиции соответствует полная перемена отношения к насилию, учиняемому государством, о чём особенно красноречиво свидетельствует рассмотренное в обстоятельной работе Р. Вроона (Vroon R. A Poet’s Abdication: Velimir Khlebnikov’s “Otkaz” and its Pretexts // Slavonic and East European Review. 2000. Vol. 78, №4. P. 671–687) стихотворение «Отказ» (конец 1921 – начало 1922 года):
Мне гораздо приятнее
Смотреть на звёзды,
Чем подписывать
Смертный приговор.
Мне гораздо приятнее
Слушать голоса цветов,
Шепчущих: „Это он!“ —
Склоняя головку,
Когда я прохожу по саду,
Чем видеть тёмные ружья
Стражи, убивающей
Тех, кто хочет
Меня убить.
Вот почему я никогда,
Нет, никогда не буду Правителем!
[Творения: 172–173]
Воспроизведено по:
Хенрик Баран. О Хлебникове. Контексты, источники, мифы.
М.: Российск. гос. гуманит ун-т, 2002. С. 68–104.
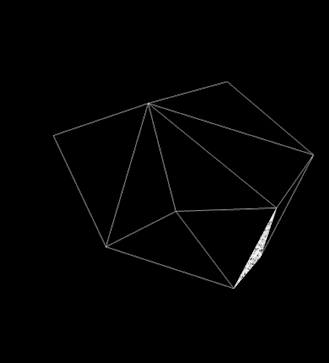
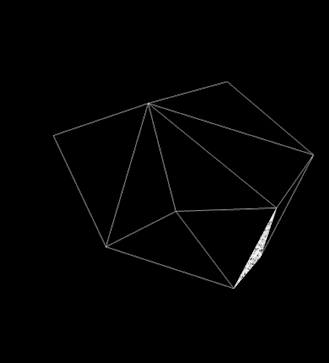
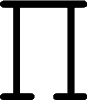 ричины приобщения Велимира Хлебникова уже на раннем этапе творчества к области мифопоэтического были, по-видимому, достаточно разнообразны: это и непосредственный контакт благодаря связям с городом предков, многоязычной Астраханью,1
ричины приобщения Велимира Хлебникова уже на раннем этапе творчества к области мифопоэтического были, по-видимому, достаточно разнообразны: это и непосредственный контакт благодаря связям с городом предков, многоязычной Астраханью,1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()