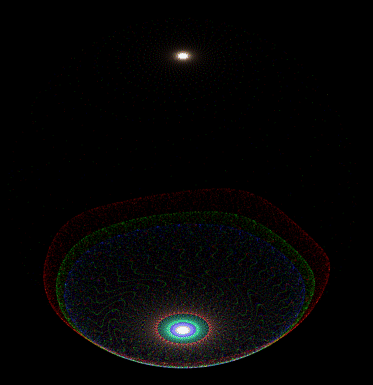Шишкин А.Б.

Велимир Хлебников на “башне” Вяч. Иванова*
1
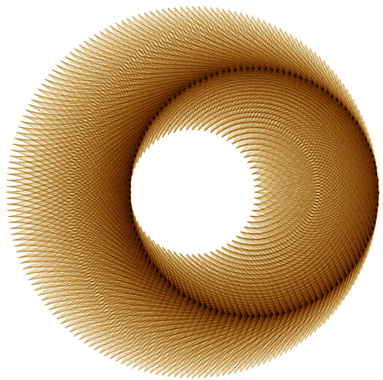
твечая в 1914 г. на анкету С.А. Венгерова, Хлебников предельно кратко сформулировал тему размышлений своего казанского периода:
В годы студенчества думал о возрождении языка.
1
Многие связанные с этой темой идеи были сформулированы в законченной уже в Петербурге в конце 1908 г. первой декларативной статье Хлебникова «Курган Святогора». Здесь Хлебников ставил вопросы о Слове и Бытии, об исполнении народом некоего завета, предписанного волями земли, о
бытийственном лике народа, о едином общеславянском слове, о числах бытия и
великом изначальном числе бытия-прообраза, о народе и его божестве.
Литературные интересы Хлебникова того времени известны. В январе 1908 г. студент Виктор Хлебников делает запись, где перечисляет прочитанные им драматические произведения А. Грибоедова, М. Горького, В. Брюсова, Вяч. Иванова, А. Ремизова и А. Блока: «Горе от ума», «На дне», «Земля», «Тантал», «Бесовское действо», «Балаганчик».
2
По свидетельству казанской знакомой поэта В.И. Дамперовой, Хлебников в университетские годы „ходил с номерами журнала «Весы»; очень любил Сологуба и любил декламировать его стихи“.
3
Но в Казани он внимательно читал также сочинения другого мэтра петербургского символизма — Вяч. Иванова, в том числе напечатанную в пятом номере журнала «Золотое руно» за 1907 г. статью «О веселом ремесле и умном веселии». Последняя, девятая главка этой статьи, центральная для того “реалистического” или “онтологического” направления русского символизма, вождем которого был Вяч. Иванов, называлась «Мечты о народе-художнике». Здесь Вяч. Иванов в афористической форме писал о будущем искусства и его предназначении, о символе и мифе народа, о народном и всеславянском языке, богопознании как конечной цели поэзии:
Искусство идет навстречу народной душе. Из символа рождается миф. Символ — древнее достояние народа. Старый миф естественно оказывается родичем нового мифа. ‹...› Чрез толщу современной речи, язык поэзии — наш язык — должен прорости и уже прорастает из подпочвенных корней народного слова, чтобы загудеть голосистым лесом всеславянского слова. Чрез пласты современного познания суждено ее (поэзии. —
А.Ш.) познанию прозябнуть из глубин подсознательного. Ее религиозной душе дано взрости из низин современного богоневедения, чрез тучи богоборства, до белых вершин божественного лицезрения.
4
В этих строках, как видим, сформулирована как бы уже вся программа раннего Хлебникова. Скорее всего, именно чтение ивановской статьи привело его к мысли искать в Вяч. Иванове как единомышленника в поисках путей возрождения языка, так и первого судью своих еще никому неизвестных литературных опытов. 31 марта 1908 г. Хлебников отправил Вяч. Иванову послание. Оно состояло из ряда стихотворений, написанных на нескольких полулистах, после которых следовало непосредственное обращение к Вяч. Иванову — в нем объяснялось, почему именно мэтру “башни” незнакомый двадцатитрехлетний поэт посылал свое первое собрание стихотворений. Первая фраза хлебниковского обращения прямо отсылала к тезису ивановской главки «Мечты о народе-художнике»: Читая эти стихи, я помнил о “всеславянском языке”, побеги которого должны прорасти толщи современного, русского. Вот почему именно ваше мнение о этих стихах мне дорого и важно и именно к вам я решаюсь обратиться.5
Осенью 1908 г. Хлебников переехал в Петербург. В письмах из Петербурга, рассказывающих о первых неделях в столице, слышно разочарование: Веду жизнь “Богемы”. Петербург действует как добрый сквозняк и все выстуживает. Заморожены и мои славянские чувства. Звучат сомнения в том, что его поэтическому призванию суждено осуществиться: В хоре кузнечиков моя нота звучит отдельно, но недостаточно сильно и, кажется, не будет дотянута до конца (письмо к матери, Е.Н. Хлебниковой, от 28 ноября 1908 г.6 ). “Побеждает” и “завоевывает” Хлебникова, по его словам, напротив, Москва, куда он едет на Новый год (письмо к ней же от 28 декабря 1908 г. — 3, с. 285). Еще в письме от 22 мая 1909 г. он писал к матери: Так как в Петербурге я incognito, то я никого не посетил и не посещу. Делаюсь сыном улицы ‹...› (3, с. 285). Но уже в следующем письме от 31 мая 1909 г. он сообщает о первом одобрении, которое пришло со стороны петербургского писателя. Им оказался Вяч. Иванов: Я виделся с Ивановым. Он весьма сочувственно отнесся к моим начинаниям (письмо В.А. Хлебникову — НП, с. 286). Письмо, посланное Хлебниковым Иванову 10 июня 1909 г., свидетельствует уже о глубокой душевной и сердечной близости. Кажется, что Хлебников близко сходится с Ивановым в течение именно 1909 г., хотя их первое знакомство состоялось еще летом 1908 года в Судаке.7
). “Побеждает” и “завоевывает” Хлебникова, по его словам, напротив, Москва, куда он едет на Новый год (письмо к ней же от 28 декабря 1908 г. — 3, с. 285). Еще в письме от 22 мая 1909 г. он писал к матери: Так как в Петербурге я incognito, то я никого не посетил и не посещу. Делаюсь сыном улицы ‹...› (3, с. 285). Но уже в следующем письме от 31 мая 1909 г. он сообщает о первом одобрении, которое пришло со стороны петербургского писателя. Им оказался Вяч. Иванов: Я виделся с Ивановым. Он весьма сочувственно отнесся к моим начинаниям (письмо В.А. Хлебникову — НП, с. 286). Письмо, посланное Хлебниковым Иванову 10 июня 1909 г., свидетельствует уже о глубокой душевной и сердечной близости. Кажется, что Хлебников близко сходится с Ивановым в течение именно 1909 г., хотя их первое знакомство состоялось еще летом 1908 года в Судаке.7 Об одном из первых появлений Хлебникова на “башне” подробно рассказывал немецкий поэт фон Гюнтер, автор написанных много лет спустя ярких, но не всегда точных мемуаров:
Об одном из первых появлений Хлебникова на “башне” подробно рассказывал немецкий поэт фон Гюнтер, автор написанных много лет спустя ярких, но не всегда точных мемуаров:
Как-то в июле
8
Иванов получил письмо от незнакомого молодого человека, который спрашивал, не может ли он его навестить. И однажды после обеда он пришел. Очень стройный, высокий, волосы соломенного цвета на пробор под высоким широким лбом, водянисто-голубой пустой взгляд чудака. Вначале бесцветный, так как небольшой, с бледными целомудренными губами рот мало что говорил. Он был студентом-естественником и писал стихи. Его попросили что-нибудь почитать. Он вытащил из кармана несколько скомканных бумажек и начал тихо читать. Он вообще говорил очень тихо и несколько запинаясь. Но то, что он читал, настолько отличалось от стихов символистской школы, что мы удивленно переглянулись. Мы — то есть Вячеслав и Кузмин, которые меня на эту встречу позвали. Никакой символики, но и никаких социалистических откровений. Там были птицы, которым он дал собственные, им изобретенные названия видов (artnomen). Там были малоправдоподобные картины и, прежде всего, очень произвольно выглядевшее интенсивное обращение с языком, которое, как бы играя, проникало до самых корней слов. Хлебниковская молчаливая сдержанность иной раз несколько беспокоила, иногда можно было думать, что этот молодой человек не совсем нормален. При этой первой встрече мы еще не поняли, что имеем дело с природным гением. ‹...› Хлебниковские стихи нам не очень понравились. Но они имели столь своеобразный чекан, что Вячеслав, рожденный kingmaker (“делатель королей”. —
А.Ш.), сразу оживился и стал стараться запутать молодого человека, который был чуть старше меня, в сети широко задуманного диспута о стихотворной просодии. Мы же с трудом могли следовать его теориям о языке, углублению в язык и дерзким корневым конструкциям. Из корня одного слова он мог логически развить десять новых прилагательных и десять новых глаголов. Вспоминаю сейчас его стихотворение, где слово ‘смех’ с такой завидной смелостью склонялось, изменялось и превращалось, что мы просто опешили. При всем том можно было сразу заметить, что у него не было никакой стихотворной школы, и ученый друг муз Иванов проповедовал Хлебникову, что тот еще много должен заниматься поэтикой формы. Но молодой человек этим совершенно не интересовался. Его одержимый, может быть магический, внутренний пыл стремился только к слову как таковому. За его запинающейся немотой скрывалась несгибаемая воля, которая держала его на выбранном пути. Когда Хлебников ушел от нас поздно вечером, нам было ясно, что мы встретили особенного человека, которому предстояла очень нелегкая дорога. Нам казалось, что он мечтает о литературном будущем, что он умен и начитан.
9
В какой-то момент лета 1909 г. тон в хлебниковских письмах меняется, слышен юношеский энтузиазм и удовлетворение: он признан, принят молодым петербургским Парнасом, свободно вращается среди известных поэтов, допущен в их высший круг, ему покровительствует Кузмин. Чувство дружества и кровного братства со своими новыми писателями-приятелями так велико, что когда честь одного из них — А.М. Ремизова — затронута, он готов драться на дуэли вместо него (см. письмо к В. Каменскому от 8 августа 1909. — НП, с. 359). Окрыленный успехом, Хлебников рассказывает о современных литературных новостях, анекдоты о петербургских поэтах — гостях “башни”, о их последних жизненных событиях, своих новых симпатиях, новоприобретенных литературных друзьях:
Я познакомился со всеми молодыми литераторами Петербурга — Гумилев, Ауслендер, Кузмин, Гофман, гр. Толстой и др., Гюнтер. ‹...› Я подмастерье и мой учитель — Кузмин (автор Александра Македонского и др.). Гумилев собирается ехать в Африку. Гюнтер собирается женить Кузмина на своей кузине. Гр. Толстой собирается написать ‹нрзб.› и освободиться от чужих влияний. У Гумилева странные голубые глаза с черными зрачками. У Толстого вода ‹так!› современника Пушкина. Некоторые пророчат мне большой успех.
Письмо к Е.Н. Хлебниковой от 16 окт. 1909 г. — 3, с. 286–287
Я буду участвовать в “Академии” поэтов. Вяч. Иванов, М. Кузмин, Брюсов, Маковский ее руководители. Я познакомился с Гюнтером, которого я полюбил, с Гумилевым, Толстым. ‹...› Я пишу дневник моих встреч с поэтами.
Письмо к А.В. Хлебникову от 23 октября 1909 г. — 3, с. 287
Показательно, что в ответах на анкету Всероссийского союза поэтов 1922 г. Хлебников отнес начало своей литературной деятельности к 1909, а не 1908 г., когда петербургский еженедельник «Весна» напечатал его первый рассказ (Хл., 1986, с. 644).10
О том же признании Хлебникова как поэта свидетельствуют отзывы с “башни”: его дарование в своем роде единственное. Эти отзывы принадлежат двум мэтрам новой петербургской литературной культуры, насельникам “башни”, — Вяч. Иванову и Кузмину. Можно думать, что две ивановские оценки хлебниковского творчества восходят уже к 1909 г., причем обе содержат слово “гениальный”: „Это мог написать только гениальный человек“ (о «Зверинце»),11 „Велимир — безусловно гениален. Он подобен автору «Слова о полку Игореве», чудом дожившему до нашего времени“.12
„Велимир — безусловно гениален. Он подобен автору «Слова о полку Игореве», чудом дожившему до нашего времени“.12 Об исключительности и гениальности поэтического дарования Хлебникова писал в своем дневнике Кузмин, сообщая подробную хронику хлебниковских посещений “башни”:
Об исключительности и гениальности поэтического дарования Хлебникова писал в своем дневнике Кузмин, сообщая подробную хронику хлебниковских посещений “башни”:
12 сентября 1909 ‹...› Пришел Хлебников... Он читал стихи; говорят, что я ему покровительствую, но в его вещах есть что-то яркое и небывалое.
17 сентября 1909. Пришли ‹Модест› Гофман и Хлебников. Модеста цукали, второго оставили мне, как protege. Дурили, рядились, играли в petits jeux, прислуга плясала, горели свечи, был крендель и ati spumante. ‹...› Было хорошо.
20 сентября 1909. Приехал Хлебников ко мне, но Вяч. взял его к себе, приплелся и я туда. Читал свои вещи гениально-сумасшедшие.
30 сентября 1909. ‹...› Пришел Макс ‹Волошин› и Хлебников. Я играл «Куранты» до прихода гостей. (Среди гостей были: Гумилев, Ауслендер, Потемкин, Нувель, Зноско-Боровский, Сомов. Читали стихи).
11 октября 1909. ‹...› задержан Хлебниковым и Гюнтером. Сидели они очень долго.
15 октября 1909. ‹...› У нас был Хлебников и Гюнтер, я слушал ‹...› потом учил Хлебникова. Пришли Толстой и Белкин, тоже Мксенок какой-то. Читал и Толстой до бесчувствия, я играл разные разности. Любик говорит, что мой голос его волнует.
29 октября 1909. Дома были Любик и Тамамшев. Любик массу написал.
30 октября 1909. Все приглашенные были, с прибавкою Хлебникова и Юраши. Рассказ Толстого очень хорош.
5 ноября 1909. Холодно, туманно, топят печи. Нужно заниматься. Пришел Сережа в голубой рубашке, Хлебников, Веньямин, наконец Толстые; читал «Иосифа» и пел «Куранты». Кажется, понравилось.
10 декабря 1909. ‹...› Пришел Хлебников, Потемкин и Нувель. Было не очень приятно. Пели «Кармен».
22 декабря 1909. ‹...› Сомов приехал вместе со мною, потом явился Хлебников и, наконец, Потемкин с переводом. Сидели до 4-х часов.
27 декабря 1909. ‹...› Дома застал Судейкина. ‹...› Был и Хлебников.
1 января 1910. ‹...› Явился Хлебников. Было человек 25. ‹...› Читали стихи, но было плохо. Когда часть гостей ушла, я пел «Мудрую встречу». Аничков, Юраша и Хлебников сидели очень долго.
6 января 1910. ‹...› Вечером пришел Потемкин и Валечка, но ничего не читали, так изнывали. Был Хлебников и Сюннерберги. Гадали.
13
А. Ремизов, вероятно, в том же 1909 году, перечисляя писателей, которые посещали его дом в Малом Казачьем переулке, вспоминал о появлении В. Хлебникова с гораздо меньшим энтузиазмом: „В Казачьем появился Н.С. Гумилев ‹...› о ту же пору Яков Годин привел А.Н. Толстого. ‹...› Пришвин с Коноплянцевым, М.А. Кузмин с С.С. Поздняковым, Гр.П. Новицкий, автор «Необузданные скверны», потом Вас.Вас. Каменский, В. Хлебников, с которым слова разбирали“.14
За неделю до последней записи дневника Кузмина, в канун истекающего 1909 года, Хлебников подводил итоги своего первого года жизни в невской столице:
Что дал мне прошлый год? Усталость, беспечность, бесшабашность. Кто-то сказал мне, что у меня есть строки гениальные, кто-то [В. Иванов], что в моей груди Львиное сердце. Итак я — Ричард Львиное Сердце. Меня зовут здесь Любек15 и Велимир
и Велимир ‹...›
Я пришлю вам визитную карточку с Велимиром вместо зачеркнутого Виктора.Письмо к семье от 30 декабря 1909 г. — 3, с. 289
Здесь звучат несколько связанных друг с другом идей: признание гениальности хлебниковского поэтического творчества; сравнение его с английским королем, прославленным своим благородством и отвагой (не связано ли оно с “рыцарской” защитой Хлебниковым Ремизова — вплоть до намерения защищать честь писателя на дуэли?); наконец, признание его прозваний-имен, из которых второе — ‘Велимир’ — кажется, особенно важно в это время для Хлебникова: именно этим именем он подписал свое письмо к Вяч. Иванову от 10 июня 1909 г., содержащее поэму «Зверинец» (НП, с. 357), — это, насколько мне известно, первое использование данного имени Хлебниковым. Почти идентична фразе Меня зовут здесь Любик и Велимир строка Его величают Vlimir’ом (НП, с. 424) в поэме того же 1909 г. «Передо мной варился...», где описывается собрание петербургских поэтов на ивановской «башне».
В раннем, “эстетическом” русском символизме 1890-х гг., как и в “мифопоэтическом” или “религиозно-философском” символизме “второго поколения”, номинация была главной функцией художника как творца или демиурга нового мира. Вяч. Иванов писал в стихотворении «Творчество» (кн. «Кормчие звезды» 1902 г.):
И ликам реющим их имя нареки
Творца безвольным произволом,
И сокровенное Явленьем облеки,
И Несказанное Глаголом.
(1, с. 536)
В статусе уже не поэта, а теоретика символистской эстетики Вяч. Иванов в 1908 г. писал о том, как символическая значимость имени героини пушкинской поэмы «Цыганы» соответствовала внутреннему смыслу поэмы (4, с. 299–302).16 
Номинация — правда, всегда в других эстетических, философских и т.д. контекстах — стоит также в центре поэтики Хлебникова;17 имя писателя у него могло представать как “символ его мира, понимаемого как миф”.18
имя писателя у него могло представать как “символ его мира, понимаемого как миф”.18
В высшей степени вероятно, таким образом, что приобретение собственных имен на “башне” 1909 г. имело в поэтическом сознании Хлебникова исключительно большое значение.
Случайно ли то обстоятельство, что именно на “башне” впервые прозвучали хлебниковские имена? Был ли изобретателем этих имен сам Хлебников или кто-то из поэтов-законодателей “башни”? Каков символический смысл этих имен и как они соотносятся с хлебниковской поэтической картиной мира? — Эти вопросы мы рассмотрим в следующей главке.
2
Два звука в имя сочетать умей.
Вяч. Иванов. Золотые завесы.
Насколько поэтическое слово как орудие познания и творчества было в центре интересов и занятий на “башне”, несмотря на множество последних публикаций, в должной мере еще не выяснено до конца. На “башне” — этой в своем роде уникальной “духовной лаборатории” серебряного века — могли совмещаться и сталкиваться самые различные подходы к слову: философские, мифологические, герменевтические, филологические. Неслучайно председатель многих “сред” философ Н. Бердяев утверждал, что художественное творчество имеет онтологическую, а не психологическую природу. Поиски смысла могли двигаться от метафоры к символу и затем к мифу и от поэтической формы к создавшему ее исконному религиозному культу и ритуалу. Одной из главных задач, объединявшей собиравшихся на “башне”, был поиск неизвестного, образцом башенных собеседований служил платоновский симпосион, где слово — logos sympoticos — есть попытка освободиться от закрытого, завершенного текста, вернуть слову его творящую космогоническую функцию.
Одним из проявлений напряженного интереса к слову как орудию познания и творчества была игра, которая для поэтов “башни” была не только поэтической шуткой или фокусом. В августе 1909 г., когда Хлебников начинал регулярно ходить на “башню”, Ю. Верховский послал Вяч. Иванову сонет с опущенными последними словами строк, требуя ответа „на те же рифмы“. В дневнике от 12 августа Вяч. Иванов записал: „От Юрия Верховского сонет без рифм, которые я прочел без труда, а Кузмин долго с трудом склеивал“ (2, с. 788). Иванов и Кузмин справились с отгадкой и написали Верховскому по сонету на разгаданные слова;19 замечательно при этом, что в “скрытой” и “нескрытой” частях сонета Верховского обыгрывались названия пяти книг Вяч. Иванова, а также обычаи и занятия башенных собраний.
замечательно при этом, что в “скрытой” и “нескрытой” частях сонета Верховского обыгрывались названия пяти книг Вяч. Иванова, а также обычаи и занятия башенных собраний.
Несколько раньше поэты на “башне” занимались анаграмматической игрой с именами собственными. В 1906 г. Сологуб послал Иванову стихотворение, представляющее собой различные возможные разгадки его имени: „Что звенит? / Что манит? / Ширь и высь моя! / В час дремотный перезвон / Чьих-то близких мне имен / Слышу я. ‹...› Вящий? Вещий? / Прославляющий ли вещи? / Вече иль венец? / Слава? Слово или слать? / Как мне знаки разгадать? ‹...› В сочетаньи вещих слов, / В сочетаньи гулких слав, / В хрупкий шорох ломких трав, / В радость розовых кустов / Льется имя ВЯЧЕСЛАВ“.20 Вяч. Иванов записал в дневнике от 2 июня 1906 г.: „Неожиданное письмо от Сологуба, полное какой-то двоящейся любви-ненависти, с красивыми стихами на имя “Вячеслава”. Какая-нибудь новая попытка колдовства. Игра в загадки, за которой таится нечто, глубоко им переживаемое“ (2, с. 745). В ответ Вяч. Иванов написал стихотворение, которое сам определил как „поэтический апотропей против чар Сологуба“ (дневник от 4 июня 1906 — 2, с. 746; “апотропеем”, по-гречески “отвращающим беду”, в архаической древности называли волшебный оберегающий талисман), противопоставляя себя — поэта солнца и дня — Сологубу — поэту солнечного заката и ночи, поэту-солнцеборцу (см. стихотворение «Змий, царящий над вселенною...»). Эту же идею демонстрировала изощренная игра с именем и псевдонимом Сологуба: исконное имя поэта Федор по-гречески означает “Божий дар”, а принятый им псевдоним “Сологуб” с помощью анаграмматической перестановки букв преобразовывается в нечто прямо противоположное дарованному ему при крещении имени: “СОЛнцеГУБитель”. В отосланном автору «Навьих чар» “магическом” стихотворении это мифопоэтическое “истолкование имени” было раскрыто прямо в заглавии: „Федору Сологубу (в истолковании: Божидару, нарекшемуся Солнцегубителем)“,21
Вяч. Иванов записал в дневнике от 2 июня 1906 г.: „Неожиданное письмо от Сологуба, полное какой-то двоящейся любви-ненависти, с красивыми стихами на имя “Вячеслава”. Какая-нибудь новая попытка колдовства. Игра в загадки, за которой таится нечто, глубоко им переживаемое“ (2, с. 745). В ответ Вяч. Иванов написал стихотворение, которое сам определил как „поэтический апотропей против чар Сологуба“ (дневник от 4 июня 1906 — 2, с. 746; “апотропеем”, по-гречески “отвращающим беду”, в архаической древности называли волшебный оберегающий талисман), противопоставляя себя — поэта солнца и дня — Сологубу — поэту солнечного заката и ночи, поэту-солнцеборцу (см. стихотворение «Змий, царящий над вселенною...»). Эту же идею демонстрировала изощренная игра с именем и псевдонимом Сологуба: исконное имя поэта Федор по-гречески означает “Божий дар”, а принятый им псевдоним “Сологуб” с помощью анаграмматической перестановки букв преобразовывается в нечто прямо противоположное дарованному ему при крещении имени: “СОЛнцеГУБитель”. В отосланном автору «Навьих чар» “магическом” стихотворении это мифопоэтическое “истолкование имени” было раскрыто прямо в заглавии: „Федору Сологубу (в истолковании: Божидару, нарекшемуся Солнцегубителем)“,21 а в публикации в «Золотом Руне» (1909. №2—3), напротив, скрыто, но ключ для разгадки выделен графически. Кажется, на это увлечение Вяч. Иванова словесными загадками и разгадками намекала эпиграмма на него Сологуба того же 1906 г.: „Из леса криптомерии / Встает Комплиментарий ‹...›“;22
а в публикации в «Золотом Руне» (1909. №2—3), напротив, скрыто, но ключ для разгадки выделен графически. Кажется, на это увлечение Вяч. Иванова словесными загадками и разгадками намекала эпиграмма на него Сологуба того же 1906 г.: „Из леса криптомерии / Встает Комплиментарий ‹...›“;22 по составляющим слово “криптомерии” греческим корням ‘скрытый’ и ‘часть’ оно могло указывать на криптограмматические опыты Вяч. Иванова.23
по составляющим слово “криптомерии” греческим корням ‘скрытый’ и ‘часть’ оно могло указывать на криптограмматические опыты Вяч. Иванова.23
Хлебников мог читать опубликованный в 1907 г. в «Цветнике Ор» цикл Вяч. Иванова «Золотые завесы», где скрываемое имя было анаграмматически разъято и рассредоточено по всему тексту, причем читателю несколько раз указывалось, что он должен пытаться разгадать его; это имя — Маргарита, Маргарита Сабашникова, к которой обращен цикл.24 Стихи с анаграммами на “башне” писал и Кузмин («Петь начну я в нежном тоне...»,25
Стихи с анаграммами на “башне” писал и Кузмин («Петь начну я в нежном тоне...»,25 1909, посвященное падчерице Вяч. Иванова В.К. Шварсалон, и др.).
1909, посвященное падчерице Вяч. Иванова В.К. Шварсалон, и др.).
В такую среду, провоцирующую поиски смысловых возможностей слова, окунулся молодой Хлебников, когда с осени 1909 г. начал регулярно посещать “башенные” собрания.
Переходя к вопросу, откуда взялись хлебниковские прозвища-псевдонимы, следует прежде всего остановиться на одном поэтическом свидетельстве самого Хлебникова, непосредственно относящемся к загадке его имен. Опубликованное Н.И. Харджиевым в 1940 г., оно до сих пор не становилось предметом специального рассмотрения. Речь идет о стихотворении «Охотник скрытых долей...», последнем среди тех поэтических опытов, которые были посланы Вяч. Иванову 31 марта 1908 года; оно находилось непосредственно перед прозаическим обращением к Иванову, где объяснялось, почему именно к мэтру “башни” адресуется тогда ему незнакомый Хлебников. Иными словами, этот текст был в достаточно выделенной, сильной позиции. Тему «Охотника» можно определить как познание онтологического через проникновение в мир живой Природы или одухотворенного Космоса, открытие реальной жизни как чуда и мистерии в некоем визионерском видении. Эта “надреальная” визионерская нота и весь мифопоэтический тон26 отчасти напоминают “магические” стихотворения Сологуба и Вяч. Иванова (что, конечно, не более, чем совпадение: стихи Иванова и Сологуба Хлебников в 1907 году знать не мог). Едва ли не самое существенное, однако, — двукратное указание в начальных строках на нечто скрытое, спрятанное, загадочное. Вот это стихотворение:
отчасти напоминают “магические” стихотворения Сологуба и Вяч. Иванова (что, конечно, не более, чем совпадение: стихи Иванова и Сологуба Хлебников в 1907 году знать не мог). Едва ли не самое существенное, однако, — двукратное указание в начальных строках на нечто скрытое, спрятанное, загадочное. Вот это стихотворение:
Охотник скрытых долей, я в бор бытий вошел.
Плескались тайно соли, тонул и гаснул дол.
И навиков скаканье в вместилищах воды.
И любиков смеянье в грустилищах зари.
И веток трепетанье и воздуха смеянье
Там, где проскользнули жарири
И своим огнистым свистом
Воздух быви залили.
Тонул и гаснул дол...
— И велям вейных волей весь мир — покорный вол.
(НП, с. 117)
В этом стихотворении можно обнаружить оба имени Хлебникова, которые признаны за ним на “башне” и которые он называл в письме от 30 декабря 1909 г.: Любик (4 строка) и Велимир (10 строка). И то и другое имя могут быть представлены как анаграммы: Велимир составляется из иВЕЛям ВЕйных ВоЛЕй Весь МИР — покорный ВоЛ, а имя Любик из фамилии поэта: хЛеБнИКов.
Теперь перед нами встает обычный для исследователей анаграмм вопрос: были ли анаграммы Хлебникова сознательными, сознавал ли наличие анаграмм в «Охотнике» его автор, когда весной 1908 г. отсылал свои сочинения Иванову, или же имена молодого поэта, напротив, были анаграмматически составлены мэтром “башни”, который сохранил стихи и письмо Хлебникова в своем архиве и припомнил их, когда автор „ярких и небывалых“ стихов в 1909 г. стал его частым посетителем? Не напоминает ли своим методом анаграмматическое составление имени из фамилии — хЛеБнИКов — ЛюБИК — другое, осуществленное в 1906 г.: СОЛоГУБ — СОЛнцеГУБитель? Далее, когда Хлебников в октябре 1908 г. дебютировал в петербургском еженедельнике «Весна», он подписывался именем Виктор;27 псевдоним “Велимир” он стал употреблять только после первой серьезной встречи с Вяч. Ивановым на “башне”. Подтверждает приоритет последнего в этом наречении и достаточно достоверное свидетельство Н. Асеева (оно восходит, по всей вероятности, к встречам с мэтром символизма осенью 1914 г.), что „“Велимиром — повелителем миров” назвал Хлебникова именно Иванов“.28
псевдоним “Велимир” он стал употреблять только после первой серьезной встречи с Вяч. Ивановым на “башне”. Подтверждает приоритет последнего в этом наречении и достаточно достоверное свидетельство Н. Асеева (оно восходит, по всей вероятности, к встречам с мэтром символизма осенью 1914 г.), что „“Велимиром — повелителем миров” назвал Хлебникова именно Иванов“.28 С другой стороны, анаграммы можно найти в сочинениях Хлебникова начиная с того же 1908 г. (Благословляй или РОСИ Яд, / но ты останешься одна. — / Завет морского дна — / РОССИЯ. — «Снежимочка», 1908 и «Курган Святогора», 1908), а несколько позднее и анаграмматическую игру с именами собственными (КУЗМИн — аМИЗУК, ВЯЧЕСЛАВ — ВсеЧЕлоВЕЧЕСкий Вплетает СтрАх — поэма «Передо мной варился вар...» 1909 г., «Руку, товаРИЩ ВаСиЛИЙ, пожаРИЩ ВеСеЛИЙ» — письмо к В.В. Каменскому 1910 г. — 3, с. 291).
С другой стороны, анаграммы можно найти в сочинениях Хлебникова начиная с того же 1908 г. (Благословляй или РОСИ Яд, / но ты останешься одна. — / Завет морского дна — / РОССИЯ. — «Снежимочка», 1908 и «Курган Святогора», 1908), а несколько позднее и анаграмматическую игру с именами собственными (КУЗМИн — аМИЗУК, ВЯЧЕСЛАВ — ВсеЧЕлоВЕЧЕСкий Вплетает СтрАх — поэма «Передо мной варился вар...» 1909 г., «Руку, товаРИЩ ВаСиЛИЙ, пожаРИЩ ВеСеЛИЙ» — письмо к В.В. Каменскому 1910 г. — 3, с. 291).
Представляется, однако, что у нас не хватает материалов для окончательного решения, и, не вдаваясь в трудноразрешимые загадки бессознательного в поэзии, констатируем, что отправленный на “башню” текст Хлебникова был в весьма большой степени ориентирован на поиски в нем криптограмм, и что имена “Велимир” и “Любик” возникли в поле взаимодействия этого текста с ориентированной на загадки и разгадки криптограмм поэтической культурой “башни”.29
Теперь настало время перейти к последнему вопросу о символическом смысле имен “Любик” и “Велимир” и о том, как они соотносятся с поэтической картиной мира Хлебникова. Если в написанном в те же годы стихотворении «О достоевскиймо...» Хлебников шел от имени писателя (Достоевского, Пушкина, Тютчева) к картине Космоса, то здесь специфическая картина Космоса определяет смыслы имен. Смысл первого имени в стихотворении ясен: навики, которые скачут в стихии воды, являются жителями мертвого царства30. Им противопоставлены любики — природа этих смеющихся созданий, которые причастны стихиям огня и воздуха, определена как последующими строками, так и позднейшими хлебниковскими трактатами о значении звуков языка.
В поэтической филологии Хлебникова любовь манифестируется “мягким Л” — “Эль”,31 есть как бы производное от “Л”. Она является как идеальным принципом строительства социальных отношений, принципом познания,32
есть как бы производное от “Л”. Она является как идеальным принципом строительства социальных отношений, принципом познания,32 так и той силой или энергией, с которой одна душа передает другой свое движение и трансформирует одномерный мир одного человека в двумерный мир двух людей.33
так и той силой или энергией, с которой одна душа передает другой свое движение и трансформирует одномерный мир одного человека в двумерный мир двух людей.33 Из стихотворения «Охотник скрытых долей» следует, что референт хлебниковского имени — Любовь, носителем творческих энергий Любви является сам поэт, ибо идея Любви непосредственно присутствует в одном из его поэтических имен. Такого рода заключение подтверждается и другими текстами Хлебникова.34
Из стихотворения «Охотник скрытых долей» следует, что референт хлебниковского имени — Любовь, носителем творческих энергий Любви является сам поэт, ибо идея Любви непосредственно присутствует в одном из его поэтических имен. Такого рода заключение подтверждается и другими текстами Хлебникова.34
Подобным же образом стихотворение «Охотник скрытых долей» дает ключ к тому смыслу, который сам Хлебников вкладывал в свое второе имя, ставшее впоследствии его признанным псевдонимом. Современный исследователь писал о “загадке хлебниковского псевдонима”;35 для такого утверждения есть, кажется, основание. Имя “Велимир” вообще может обладать двумя, казалось бы, противоположными смыслами: “тот, кто велит миру”, и “вели мне, мир”. С большой долей приблизительности эта антиномичность могла бы быть обозначена цепочкой Поэт — Слово — Мир — Бытие — Воля — Божество; кажется, что именно подобного рода антиномичность присутствовала в некоторых текстах Хлебникова 1908 г. В этом отношении близким к идеям стихотворения «Охотник скрытых долей» оказывается другой текст, созданный в начале 1908 г.:
для такого утверждения есть, кажется, основание. Имя “Велимир” вообще может обладать двумя, казалось бы, противоположными смыслами: “тот, кто велит миру”, и “вели мне, мир”. С большой долей приблизительности эта антиномичность могла бы быть обозначена цепочкой Поэт — Слово — Мир — Бытие — Воля — Божество; кажется, что именно подобного рода антиномичность присутствовала в некоторых текстах Хлебникова 1908 г. В этом отношении близким к идеям стихотворения «Охотник скрытых долей» оказывается другой текст, созданный в начале 1908 г.:
И я свирел в свою свирель,
И мир хотел в свою хотель.
Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток.
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. 36 
У “ранних” символистов 1890-х гг. и “декадентов”, равно как и “левых” футуристов, особенно послеоктябрьской эпохи, художник-демиург узурпирует место Бога-творца или как демиург анти-мира аннигилирует данный мир, созданный положительным миротворцем. Совершенно отлична позиция религиозно-мифопоэтического символизма, где семантическая и символическая система искусства интегрируется в систему религии или мифологии.37 В приведенном выше стихотворении «Творчество» Вяч. Иванов неслучайно писал о „безвольном произволе“ творца-художника, а в теоретических статьях утверждал, что „теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать свою волю на поверхность вещей — есть высший завет художника, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей“ («Две стихии в современном символизме», 1908. — 2, с. 538–539). В том же 1908 г. Иванов афористически писал, что „Художник угадывает волю Творца миров“ («Спороды», — 3, с. 115).
В приведенном выше стихотворении «Творчество» Вяч. Иванов неслучайно писал о „безвольном произволе“ творца-художника, а в теоретических статьях утверждал, что „теургический принцип в художестве есть принцип наименьшей насильственности и наибольшей восприимчивости. Не налагать свою волю на поверхность вещей — есть высший завет художника, но прозревать и благовествовать сокровенную волю сущностей“ («Две стихии в современном символизме», 1908. — 2, с. 538–539). В том же 1908 г. Иванов афористически писал, что „Художник угадывает волю Творца миров“ («Спороды», — 3, с. 115).
Хлебников поразительным образом оказывается близок к идеям религиозно-философского символизма и особенно его вождя Вяч. Иванова: художник исполняет “рок” (в «И я свирел...») или “волю” (в «Охотнике») мира и благодаря этому становится его господином.
Те же идеи возникают в завершенной в конце 1908 г. статье «Курган Святогора». Религиозный и мифологический текст этого манифеста (или “статьи-проповеди”, по определению В. Григорьева — Хл., 1986, с. 704) о Слове и Бытии замечательным образом содержит идеи и словоформы, которые отсылают нас к стихотворениям Хлебникова 1908 г. о Поэте — Мире — Воле — Божестве:
Не следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, чаруя ими себя ‹...› и прозревая сквозь них великие изначальные числа бытия-прообраза? ‹...› И не станем ли мы тогда народом божичей, сами зоревея вечностью, а не пользуясь лишь отраженным? Обратимте наши очи к лучам земных воль; если же мы воспользуемся заимствованным светом, то на нашу долю останется навий свет, добрые же лучи достанутся на потребу соседей. Мы не должны быть нищи близостью к божеству ‹...›
Хл., 1986, с. 581
3
Признание дарования, признание нового имени, особенно имени с такими вселенскими императивами, связаны с идеей посвящения, инициации. Рассказ о какого-то рода посвящении, прохождении через испытание — тема первой части поэмы «Передо мной варился...». В основе поэмы, как можно думать, лежали записи позднее утраченного хлебниковского дневника встреч с поэтами в 1909 г.38 Поэма представляет собой, по определению Н. Харджиева, „протокольное описание “среды” у Вяч. Иванова“ (НП, с. 18). Но в своем “описании” Хлебников играл неоднозначными оценками увиденного, художественно показывая свое очень дифференцированное и порой критическое отношение к вождям различных течений русского символизма — от восхищения до неприятия — и к символистской культуре в ее разных направлениях: к символистскому отношению к слову и к символу, к совмещению в жизни сакрального и бытового, к игре с высоким идеальным образом Вечной Женственности, игре, которая вошла в моду с «Незнакомки» А. Блока.39
Поэма представляет собой, по определению Н. Харджиева, „протокольное описание “среды” у Вяч. Иванова“ (НП, с. 18). Но в своем “описании” Хлебников играл неоднозначными оценками увиденного, художественно показывая свое очень дифференцированное и порой критическое отношение к вождям различных течений русского символизма — от восхищения до неприятия — и к символистской культуре в ее разных направлениях: к символистскому отношению к слову и к символу, к совмещению в жизни сакрального и бытового, к игре с высоким идеальным образом Вечной Женственности, игре, которая вошла в моду с «Незнакомки» А. Блока.39
Изобразительный ряд поэмы, некоторые ее остраненно-примитивистские образы в чем-то напоминают искусство живописи левого авангарда 1910-х гг., поэма в целом построена по законам уже сформировавшейся у Хлебникова футуристической поэтики и близка к написанной в ту же пору драме «Маркиза Дэзес». Хлебников изображен в поэме в двух лицах — простеца с российской окраины, чуть ли не завсегдатая “скотного двора” (см. строки 23—24, 28) (которому можно язвительно задать вопрос: Скажите, вы где изволили вкусить блага наук?), и изысканно одетого светского “денди”. Подобным же образом могут двоиться или, по крайней мере, стремиться к неоднозначности хлебниковские изображения Кузмина и Вяч. Иванова.
Мифопоэтическому рассказу о своем дебюте на “башне” Хлебников посвятил начальные 36 строк поэмы. Герой поэмы находится в аду и должен оправдать свершенное им в жизни перед неким божественным поваром — существом, видимо, демоническим, властелином земли, которую он трижды обернул ‹...› своим крылом. Грозное божество (не мифологизированный ли образ “грозного судии” поэтов-дебютантов на “башне”, то есть ее хозяина?) после специального разбирательства увенчивает поэта венцом: О поэт, поэт ‹...› // ‹...› прийми венец! Эпизод с присуждением высшей награды, которая может ожидать поэта — увенчание его лавровым венком — иронически повторяется в вариантах поэмы: оказывается, что лаврами награждают едва ли не всех пришедших на ивановскую “башню” молодых поэтов:
Здесь Гумилев, Потемкин, Ауслендер, я.
И каждому из нас с мечтательною улыбкой
Лавровый венок из лавровы‹х› ‹листьев› муз предлагает насмешливая семья.
(НП, с. 423)
Герой Хлебникова изображен перед котлом,40 который предназначен для жарения быка. Кажется, что подобным быку, обреченному на ритуальное заклание,41
который предназначен для жарения быка. Кажется, что подобным быку, обреченному на ритуальное заклание,41 как-то иронически ощущает себя поэт, ожидающий суда/посвящения; между прочим, как следует из последней строки стихотворения «Охотник скрытых долей», образ быка в виде своего символического антитезиса — вола — каким-то образом мог входить в семантический ореол имени “Велимир”:42
как-то иронически ощущает себя поэт, ожидающий суда/посвящения; между прочим, как следует из последней строки стихотворения «Охотник скрытых долей», образ быка в виде своего символического антитезиса — вола — каким-то образом мог входить в семантический ореол имени “Велимир”:42
10Божественный повар
Готовился из меня сотворить битки,
Он за плечо меня взял, и его мышцы были здоровы.
Готовясь в печь меня швырнуть,
Сладкоголосого в земные дни поверг в кипящую смолою глубь.
Я умолял его вернуть
К реке Сладим текущей
Мимо с цветами и птицами кущи,
Но он ответствовал сурово:
— О, блудодей словес, что делал ты на трижды обвернутой моим крылом земле?
Что делал, что знал ты?
(НП, с. 197)
Последующая часть поэмы — рассказ о том, что следовало на “башне” после выступления Хлебникова. Это “речи” Вячеслава Иванова (строки 37—44) и М. Кузмина (строки 45—50), которые оценивают прочитанное Хлебниковым, и затем описание поэтов, пришедших на “башню”, — это в основном те самые поэты, имена которых он перечислил в письмах к родным от 16 и 23 октября 1909 г.
Первые слова Вяч. Иванова о прочитанном Хлебниковым „Но ведь это — прелесть“ несколько двусмысленны: в поэтике дважды разумной, двоякоумной-двуумной речи Хлебникова слово ‘прелесть’ могло обладать двумя значениями — как прямым, позитивным,43 так и “перевернутым”, магически-негативным, архаическим и могущественным — “бесовская прелесть”. Затем, однако, следует оценка безусловно положительная: Иванов признает, что видит в услышанном Челюсть каких-то старых страшных глав // Я заметил в этом глаз ‹...› Но вслед за этим в тексте Хлебникова следует смысловой поворот, по функции чем-то напоминающий прием авангардистского монтажа: оказывается, что Иванов (а тремя строчками ниже Кузмин) восторгается каким-то совсем другим хлебниковским стихотворением — кажется, о женственном духе воздуха:
так и “перевернутым”, магически-негативным, архаическим и могущественным — “бесовская прелесть”. Затем, однако, следует оценка безусловно положительная: Иванов признает, что видит в услышанном Челюсть каких-то старых страшных глав // Я заметил в этом глаз ‹...› Но вслед за этим в тексте Хлебникова следует смысловой поворот, по функции чем-то напоминающий прием авангардистского монтажа: оказывается, что Иванов (а тремя строчками ниже Кузмин) восторгается каким-то совсем другим хлебниковским стихотворением — кажется, о женственном духе воздуха:
42Не правда ли, она прекрасно улеглась
Красивостью небесных струй,
Которых ждет воздушный поцелуй?
Кузмин готов к тому, что другие поэты на “башне” поставят под сомнение его одобрение прозвучавшей поэзии Хлебникова, но решительно присоединяется к реплике "прекрасно" Вяч. Иванова:
45Да. Я тоже нахожу
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47И, может, глупость, что я скажу,
Но только мне кажется, что понравилось. Очень.
Он вдруг покраснел и был, казалось, сильно озабочен.
Общий разговор на минуту касается личности самого Хлебникова, с которым заговаривает В. Брюсов.44 Московский поэт допускает обмолвку, вызывающую общий хохот (строки 53–64) и какие-то насмешливые действия Гумилева (строки 65–74). Стихи из второй главы «Новый Ролла» читает Кузмин (строки 74–76),45
Московский поэт допускает обмолвку, вызывающую общий хохот (строки 53–64) и какие-то насмешливые действия Гумилева (строки 65–74). Стихи из второй главы «Новый Ролла» читает Кузмин (строки 74–76),45 на него одобрительно смотрит ясница с голубыми глазами, в которой угадывается облик Веры Шварсалон.
на него одобрительно смотрит ясница с голубыми глазами, в которой угадывается облик Веры Шварсалон.
Часть хлебниковского описания собрания поэтов на “башне” составляют своеобразные портреты В. Брюсова, Н. Гумилева, А.Н. Толстого (последнего — в дополнительных вариантах — НП, с. 423), Вяч. Иванова, М. Кузмина. Особенно интересны изображения последних двух поэтов.
Вяч. Иванов нимало не напоминает подобие грозного демона, как в начале поэмы. “Футуристический” портрет Иванова, созданный Хлебниковым, рассказывает и об освобождающем от „человеческого, только человеческого“, дионисийском хмеле, который был воплощен в хозяине “башни”, о его речи, возвещающей „откровение лозы“, то есть религию Диониса, и об амбивалентном совмещении в его облике черт юного духом любителя веселья, забав, игры и розыгрышей и ученого-“олимпийца”. Поэтическое искусство Хлебникова предваряет живописные композиции его друга М. Матюшина: изображение человеческой внешности может быть совмещено с пластическим изображением неких идеологем, концепций и пр., которые составляют внутренний сущностный элемент личности, что мы имеем в строках 91–93, где речь идет, как представляется, о ивановских идеях и мироздании, числе, времени и конце времени:
84Свой взор струит, как снисходительный указ,
Смотрящий сверху Вячеслав.
Он любит шалости проказ,
От мудрой сухости устав.
С буйством хмеля в глазах
Освобожденного от уз невольника
90Кто-то всечеловеческий вплетает страх
В немного странную игру природы: треугольник,
Которого катеты, сроки и длина
Чудесно связаны с последних дней всего забвением.
Столовая немного удивлена
95Внезапным среди лозы и кудрей откровением.
И укрощает буйство быстрое речей ‹...›
Речи Вяч. Иванова или последующий совместный разговор среди гостей “башни” наводят М. Кузмина на какие-то очень далекие размышления — он
98‹...› прилег болванчиком
На голубом диванчике.
100Он в красной рубашке,
И мысли ползают по его глазам, как по стеклу букашки,
Он удивлен речей началом,
И мысли унесены его на одиннадцатую версту,
Где лен прикреплен мочалом
105К шесту.
Затем гостя в черных воротничках просят читать стихи (строки 106–111), и тот с осанкой лорда декламирует три стихотворения (строки 114–121). Этот гость оказывается вновь Хлебниковым46 — подобный аристократический облик поэта в эпоху “башни” также засвидетельствовал Городецкий, который вспоминал, как „на вечерах у Вячеслава Иванова появился, „как дэнди лондонский одет“, еще один поэт — Велимир Хлебников“.47
— подобный аристократический облик поэта в эпоху “башни” также засвидетельствовал Городецкий, который вспоминал, как „на вечерах у Вячеслава Иванова появился, „как дэнди лондонский одет“, еще один поэт — Велимир Хлебников“.47
Бьет два часа ночи, а гости едва начинают собираться к ужину (строки 130–132). Описание пиршественного круга амбивалентно — оно возвышенно и одновременно иронически снижено: уселись за стол как полководцы, // Ученики военных училищ, — // У них отсутствуют мечи лишь (строки 133–135). Наконец, начинается общий разговор о человеке и вере48 — перед этим разговором из божницы появляется и после его начала уходит Богородица (строки 138–148).
— перед этим разговором из божницы появляется и после его начала уходит Богородица (строки 138–148).
Смысл этого эпизода, без сомнения, первостепенен. Разговор о человеке и вере вызывает чувство стыда (строка 141) у Богородицы, и в горе Она покидает собравшихся (строка 146). На первый взгляд может показаться, что здесь — некий суд и осуждение Хлебниковым собрания на “башне”. Уж не из-за присутствия ли среди поэтов декадента и “дьяволиста” Брюсова?49 Но вся поэтика хлебниковской пьесы препятствует однозначным оценкам. С точки зрения литературной, в эпизоде сошествия Богородицы с иконы заключается ироническая реминисценция из блоковской пьесы «Незнакомка», где непосредственно перед явлением в гостиную небесной посетительницы Поэт читал стихотворение:
Но вся поэтика хлебниковской пьесы препятствует однозначным оценкам. С точки зрения литературной, в эпизоде сошествия Богородицы с иконы заключается ироническая реминисценция из блоковской пьесы «Незнакомка», где непосредственно перед явлением в гостиную небесной посетительницы Поэт читал стихотворение:
Уже сбегали с плит снега,
Блестели, обнажаясь, крыши,
Когда в соборе, в темной нише,
Ее блеснули жемчуга.
И от иконы в нежных розах
Медлительно сошла она...
50
У Блока Поэт встретил деву-звезду Марию (связь ее с образом Богородицы более или менее очевидна51 ) и не узнал ее. Это причина того, почему она, непризнанная, удалилась. У Хлебникова причина ухода Богородицы иная — это сам разговор поэтов на “башне” — хотя, с другой стороны, тот же разговор, кажется, побудил Ее первоначально сойти из божницы...
) и не узнал ее. Это причина того, почему она, непризнанная, удалилась. У Хлебникова причина ухода Богородицы иная — это сам разговор поэтов на “башне” — хотя, с другой стороны, тот же разговор, кажется, побудил Ее первоначально сойти из божницы...
И вот из божницы сходит Богородица
И становится тихо за стулом.
140И когда заговорили о человеке и вере, — тогда
Ее божественные веки дрожали прелестию стыда.
Она скользнула в дверь за Ниссой,
Она спустилась по лестнице вниз, и
Она сошла на далекую площадь
145И, обняв, осыпала поцелуями в голову лошадь.
Так изливала Богородица свое горе,
А над ней опрокинутое сияло звездное море
(НП, с. 200–201)
Здесь у Хлебникова по сравнению с драмой Блока существенное различие смысла: у Блока дева-звезда Мария, исчезнув, вновь возвращается на небо, где зажигается звезда; у Хлебникова Богородица остается на земле.
Но ответ на вопрос о смысле и причине ухода Богородицы с собрания поэтов мы находим в одном из вариантов финала поэмы (Хлебников предполагал доработать его — сообщение Н.И. Харджиева в НП, с. 422). Здесь содержится диалог с Богородицей, именно он, кажется, освещал смысл этого ключевого для всей поэмы эпизода:
— Вы Богородица?
— Да, я Богородица.
— Садитесь, не хотите ли вина?
‹...›
— Извините — моя вина — я не знаю, в чем моя вина.
— Ах, вы не желаете вина?
Ну, тогда, может быть, вы хотите чаю?
— Я чаю воскресения мертвых.
(НП, с. 422)
Здесь Хлебников слегка иронически изображает не очень серьезную игру Вл. Соловьева или А. Белого с прямым и символико-мистическим планом слова; ср.: „Отказаться от вина — // В этом страшная вина“ у Вл. Соловьева,52 „Чаю — Чаю воскресения мертвых“ — бытовой символистский каламбур, зафиксированный А. Белым. Подобного рода игра присуща также пьесе А. Блока «Балаганчик»; образы и словоформы этой “мистической сатиры” (термин Г. Чулкова) Хлебников многажды использовал и переосмысливал в своем творчестве. Одним из главных элементов этой игры в «Балаганчике» является омонимия слова ‘коса’ — в смысле “женская коса” или “коса смерти”; в зависимости от того или другого значения героиней пьесы является Смерть или девушка. Но в «Балаганчике», подобно «Незнакомке», одним из нереализованных — и в поэтике пьесы принципиально не реализуемых — значений образа героини является Мария Дева, Богородица; в первоначальном наброске «Балаганчика» героиня неслучайно носила имя Марии.53
„Чаю — Чаю воскресения мертвых“ — бытовой символистский каламбур, зафиксированный А. Белым. Подобного рода игра присуща также пьесе А. Блока «Балаганчик»; образы и словоформы этой “мистической сатиры” (термин Г. Чулкова) Хлебников многажды использовал и переосмысливал в своем творчестве. Одним из главных элементов этой игры в «Балаганчике» является омонимия слова ‘коса’ — в смысле “женская коса” или “коса смерти”; в зависимости от того или другого значения героиней пьесы является Смерть или девушка. Но в «Балаганчике», подобно «Незнакомке», одним из нереализованных — и в поэтике пьесы принципиально не реализуемых — значений образа героини является Мария Дева, Богородица; в первоначальном наброске «Балаганчика» героиня неслучайно носила имя Марии.53 Смысл пьесы А. Блока — именно в не-явлении, нереализации, не-свершении Чуда в жизни (на языке современного литературоведения это отрицательная “пустая референтность” или “аннигиляция возвышенного” в эстетизме — см. работы А. Хансена-Леве).
Смысл пьесы А. Блока — именно в не-явлении, нереализации, не-свершении Чуда в жизни (на языке современного литературоведения это отрицательная “пустая референтность” или “аннигиляция возвышенного” в эстетизме — см. работы А. Хансена-Леве).
Иной раз подобное нецеломудренное, слегка кощунственное или, напротив, “маловерное” отношение к Слову и марево вокруг “вечно-женственного” вызывали протест у Вяч. Иванова,54 Бердяева, единомышленников Флоренского.55
Бердяева, единомышленников Флоренского.55 Нельзя ли предположить, что их позицию разделял также и Хлебников — иными словами, что эпизод с Богородицей в хлебниковской поэме может означать его осуждение эстетической концепции слова, принятой в одном из направлений русского символизма? Положительный ответ на этот вопрос, к сожалению, дать трудно, ибо окончательно финал поэмы Хлебниковым не был доработан.
Нельзя ли предположить, что их позицию разделял также и Хлебников — иными словами, что эпизод с Богородицей в хлебниковской поэме может означать его осуждение эстетической концепции слова, принятой в одном из направлений русского символизма? Положительный ответ на этот вопрос, к сожалению, дать трудно, ибо окончательно финал поэмы Хлебниковым не был доработан.
4
Острый и цепкий взгляд будетлянина увидел главную особенность собраний ивановской “башни”, этой, по словам Бердяева, „утонченнейшей культурной лаборатории“, особенность, которая отличала их от всех других литературных и артистических собраний “серебряного века”. Это установка на диалог, на его принципиальную открытость и конечную незавершенность, на множественность самостоятельных точек зрения, на отсутствие доминирования в собеседовании чьего бы то ни было авторитета; высшим образцом и моделью такого диалога был платонический “симпосион” или “пир”. Формы, образы и идеологемы “пира” по-разному отразились в творчестве Вяч. Иванова, Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, А. Блока, М. Волошина, М. Кузмина, Н. Бердяева и других насельников и гостей “башни”.56
В варианте поэмы Хлебников одним штрихом изобразил существенную формальную особенность этого диалога на “башне”: говорящий говорил не на своем языке, но переходил на язык собеседника — русский говорил, как немец, а немец — как русский; общий фон и конечная цель этого диалога — познание жизни:
Здесь немец говорит “Гейне”,
Здесь русский говорит “Хайне”,
И вечер бродит ворожейно
По общей жизни тайне.57
Темы и формы Пира занимают существенное место в творчестве Хлебникова; хронологически первым Пиром, художественно изображающим реальный “пир” на ивановской “башне”, можно считать поэму «Передо мной варился вар...» В последующие годы проблемы Смерти, Мистерии, Нового Рождения Хлебников переживал не “литературно”, но экзистенциально. Моделью для Хлебникова был «Пир во время чумы» — формы и образы пушкинского «Пира» организуют структурное ядро письма 1913 г. о смерти Елены Гуро,58 пьесы 1915 г. «Ошибка смерти» (это оригинальный хлебниковский Пир, где на языке футуризма поставлена проблема победы над Смертью, проблема, внутренне присущая симпосиону как античному, так и христианскому, но Хлебниковым осмысленная вполне внехристиански) и незавершенного сочинения 1916 г. «Второй язык» — преобразованного воспроизведения пушкинского сюжета в его свободной и творческой интерпретации.59
пьесы 1915 г. «Ошибка смерти» (это оригинальный хлебниковский Пир, где на языке футуризма поставлена проблема победы над Смертью, проблема, внутренне присущая симпосиону как античному, так и христианскому, но Хлебниковым осмысленная вполне внехристиански) и незавершенного сочинения 1916 г. «Второй язык» — преобразованного воспроизведения пушкинского сюжета в его свободной и творческой интерпретации.59 Но темы Пира появились в творчестве Хлебникова, как кажется, благодаря его диалогу с Вяч. Ивановым на петербургской “башне”. Чтобы увидеть это, нам придется вернуться к хронике отношений Иванова и Хлебникова 1909 г.
Но темы Пира появились в творчестве Хлебникова, как кажется, благодаря его диалогу с Вяч. Ивановым на петербургской “башне”. Чтобы увидеть это, нам придется вернуться к хронике отношений Иванова и Хлебникова 1909 г.
5
Ты бросил в знанье
сеть, а выловил — сонет!
Вяч. Иванов
3 июня 1909 г. Вяч. Иванов посвятил Хлебникову стихотворение «Подстерегателю» (дата на экз. РГАЛИ, ф. 527, оп. 2, ед. хр. 3), вошедшее позднее в книгу «Cor Ardens» (2, с. 340, ср. с. 737); через неделю, 10 июня, уезжая на лето из Петербурга, Хлебников отправил Иванову письмо, к которому была приложена поэма «Зверинец» (О, Сад, Сад!), в следующем году опубликованная в первом «Садке судей» с посвящением В.И.‹ванову›.
Стихотворение Вяч. Иванова имеет легко вычитываемый конкретный реальный подтекст: это ответ молодому другу, который после первых встреч усомнился в „Протее“, „невероятно чутком“ к другому (слова А. Белого), в собеседнике с „чарующим“, как „у сирены“, голосом (слова А. Ельчанинова). Мысли о некоей загадочности и амбивалентности хозяина “башни” приходили многим как новичкам, так и завсегдатаям сред, о чем ярко писал А. Белый:
В золоторунные кудри свои заиграв тонким пальцем, посеял сомненья; ‹...› был период, когда я подумал: не волк ли сей овцеподобный наставник? Пушился, горбатясь за черным чайком, точно кот; а поставив вам профиль, являл вид орла, застенавшего кличем; орлиною лапой на шнуре пенснэ перекидывал; и человечность при этом какая! Дверь — в улицу: толпы валили; лаская, журил, журя, льстил; оттолкнув, проникал в ваше сердце, где снова отталкивал.
60
Бердяев, председатель многих “сред” на “башне”, писал Вяч. Иванову 30 января 1915 г.: „В Вас слишком много было всегда игры, Вы необычайно даровиты в игре. И сейчас Вы очень привлекаете и соблазняете в минуты игры“.61
Итак, цель стихотворения Вяч. Иванова, обращенного к Хлебникову,— развеять сомнения молодого посетителя “башни”. В истории отношений двух поэтов и в обращенных Хлебниковым к Иванову текстах коренятся, кажется, образы невода, то есть сети (ср. выше рассказ Гюнтера о “сетях” диспута о стихотворной просодии, в которые Иванов пытался запутать впервые пришедшего на “башню” Хлебникова), и вола.
Но в стихотворении отчетливо присутствуют элементы поэтической игры. „Я не бес“, — ободряет Вяч. Иванов своего юного друга, но этому заверению противоречит угрожающий звуковой образ первой строфы с семью зловеще свистящими с, которые сочетаются с з и ц. Сомнения в личности хозяина “башни”, подобные беловским опасениям, могут вызвать образы „ловца“, “совопросника” и “сеятеля”. Эти образы имеют конкретные евангельские коннотации, но в контексте стихотворения они двусмысленны: ловцами человеков сотворил Христос своих учеников, ставших апостолами (Мф., 4: 19, Мк., 1:17; именно „хищным расчетливым Ловцом человеков“ называла Иванова Ахматова в своем позднем максимально негативном дневниковом отзыве); с обличением к „совопроснику века сего“ народу с мудрецом и книжником обращался апостол Павел, удостоверяя, что „мудрость мира сего“ Бог обратил „в безумие“ (1 Кор., 1:20); притча о семенах сеятеля, упавших на камень, на терние и на добрую землю иносказательно говорит о тех немногих, которые удостоятся Царствия Божиего (Мк., 4:3–8; Лк., 8:5–8). Кажется, что автор стихотворения «Подстерегателю» претендует на духовные полномочия, едва ли не превышающие возможности обычного человека. Но это все и есть та словесная игра, в которую увлекает Вяч. Иванов своего читателя. Чтение последних двух строф приводит читателя к совсем другому смыслу всего текста.
Нет, робкий мой подстерегатель,
Лазутчик милый! я не бес,
Не искуситель, — испытатель,
Оселок, циркуль, лот, отвес.
Измерить верно, взвесить право
Хочу сердца — и в вязкий взор
Я погружаю взор, лукаво
Стеля, как невод, разговор.
И совопросник, соглядатай,
Ловец, промысливший улов,
Чрез миг — я целиной богатой,
Оратай, провожу волов:
Дабы в душе чужой, как в нови,
Живую взрезав борозду,
Из ясных звезд моей Любови
Посеять семенем — звезду.
(2, с. 340)
Буквальный словарный смысл тех слов в первом четверостишии, которыми определял себя Иванов, таков: „испытатель“ есть тот, кто проверяет нечто на опыте, на опыте выясняет качества, свойства и т.д. чего-то неизвестного; „оселок“ — точильный камень, но также и камень для испытания драгоценных металлов, то, обо что затачивается, оттачивается инструмент для работы — или интеллект в симпосиональной работе мысли, как подсказывает общий контекст; „циркуль“ измеряет длину, „лот“ — глубину, „отвес“ проверяет вертикаль — все это технические орудийные термины проверки, исследования Слов и построенных из них конструкций. Не непререкаемый владетель истины в последней инстанции, не “великолепный” и недоступный олимпиец или “мистагог”, обладающий максимальным статусом авторитетности, не, наконец, „искуситель бес“, стремящийся не очень честными средствами перетянуть на свою сторону, но приводящий вопросами мысль собеседника к познанию. „Совопросник“ и “соглядатай” — анафорический префикс “со-” дважды подчеркивает эту позицию равного собеседнику в искании истины — экзистенциальной и духовной, равного, отнюдь не господствующего во впадении ею. Ближе всего к этому образу — не названный здесь Сократ, именовавший себя в «Пире» „повитухой душ“ мысли своих собеседников (Пир, 206–208е; ср. Теэтет, 150а–151). Наконец, в последнем четверостишии мифологизированно сформулирована концепция симпосионального эроса: в экзистенциальной ситуации “встречи” двух личностей, диалога “я” и “ты” божественный Эрос бросает семя в душу другого, это передано через мифологему сева — нового рождения.
* * *
10 июня 1909 г. Хлебников написал Вяч. Иванову письмо, где не найти ни следа тех “сомнений” и “опасений”, о которых прежде, насколько можно судить по сочиненному восемь дней назад ивановскому стихотворению, могла идти речь. Первые строки письма Хлебникова свидетельствуют о сердечной и интимной близости молодого поэта к ивановскому кружку, с членами которого его уже соединяют узы тесной дружбы. Религиозные коннотации этого письма, возможно, как-то отражают тематику и стиль общения Хлебникова и Вяч. Иванова весной 1909 г. Об интересе Хлебникова к религиозной направленности петербургского символизма свидетельствовал и Гюнтер.62 Но в письме Хлебникова от 10 июня поражает не литературно, а экзистенциально пережитая проблема смерти — непременного спутника, участника, чуть ли не обязательной составляющей истинной жизни (эту идею Хлебников метафорически выразил позднее в «Автобиографической записке» 1914 (?) г.: Вступил в брачные узы со Смертью и таким образом женат. — НП, с. 352). Этот опыт “умирания” Хлебников связывал в первую очередь с прошедшими днями, и этот опыт, как можно думать, был обусловлен общением с Вяч. Ивановым, который с лета 1908 г. писал лирическую книгу “sub specie mortis” — “с точки зрения смерти” (запись в дневнике от 14 июня 1908 г. — 2, с. 772; под названием «Любовь и Смерть» книга была опубликована в «Весах» за февраль 1909 г. и позднее вошла в состав «Cor Ardens» как ее четвертая часть, отдельные циклы книги, законченные к весне 1909 г., Иванов читал друзьям — свидетельство О. Дешарт — 2, с. 769). Вот начало письма Хлебникова от 10 июня 1909 г.:
Но в письме Хлебникова от 10 июня поражает не литературно, а экзистенциально пережитая проблема смерти — непременного спутника, участника, чуть ли не обязательной составляющей истинной жизни (эту идею Хлебников метафорически выразил позднее в «Автобиографической записке» 1914 (?) г.: Вступил в брачные узы со Смертью и таким образом женат. — НП, с. 352). Этот опыт “умирания” Хлебников связывал в первую очередь с прошедшими днями, и этот опыт, как можно думать, был обусловлен общением с Вяч. Ивановым, который с лета 1908 г. писал лирическую книгу “sub specie mortis” — “с точки зрения смерти” (запись в дневнике от 14 июня 1908 г. — 2, с. 772; под названием «Любовь и Смерть» книга была опубликована в «Весах» за февраль 1909 г. и позднее вошла в состав «Cor Ardens» как ее четвертая часть, отдельные циклы книги, законченные к весне 1909 г., Иванов читал друзьям — свидетельство О. Дешарт — 2, с. 769). Вот начало письма Хлебникова от 10 июня 1909 г.:
Знаете: я пишу вам только, чтобы передать, что мне от чего-то грустно, что я непонятно, через 4 ч‹аса› уезжая, грущу и что мне, как чего-то вещественного жаль, что мне не удалось, протянув руку, сказать „до свиданья“ или „прощайте“ В‹ере› К‹онстантиновне› и др. членам В.‹ашего› кружка, знакомством с которым я так дорожу и умею ценить.
Я увлекаюсь какой-то силой по руслу, которого я не вижу и не хочу видеть, но мои взгляды — Вам и вашему уюту.
Я знаю, что я умру лет через 100, но если верно, что мы умираем, начиная с рождения, то я никогда так сильно не умирал, как эти дни. Точно вихрь отмывает корни меня от рождающей и нужной почвы. Вот почему ощущение смерти не как конечного действия, а как явления, сопутствующего жизни в теченье всей жизни, всегда было слабее и менее ощутимо, чем теперь.
Далее Хлебников описал мысли, на которые его навело посещение зоологического сада: различие видов животных связано с тем, что звери умели по-разному видеть божество; вслед за этим, как составная часть письма, следует поэма «Зверинец». Конец письма вновь посвящен отношениям с ивановским кружком:
Прощайте! в смысле до нового увидания!
Дайте мне возможность на бумаге проститься с Теми, кого я не увидел, прощаясь. Передайте мой порыв и богомольность.Велимир Хлебн
9 ч. в. 10. VI Царскосел. вокзал.63
6
Остается рассмотреть последующую историю отношений Хлебникова с Вяч. Ивановым. В начале 1910 г. произошел разрыв Хлебникова с некоторыми поэтами «Академии стиха», как полагал Н.И. Харджиев, достаточно воинственный.64 Вокруг Хлебникова собирается кружок будущих футуристов, которые хотят бросить вызов символистской традиции. Внешним выражением этого разрыва с символизмом была акция, предпринятая участниками «Садка судей» после выхода в свет в апреле 1910 г. первого футуристического сборника, о которой рассказал один из его издателей М. Матюшин: „Д. и Н. Бурлюки в одну из сред отправились на “башню” к Вяч. Иванову, где собирались писатели, и рассовали штук тридцать по карманам пальто. Так вышел в свет «Садок судей»“.65
Вокруг Хлебникова собирается кружок будущих футуристов, которые хотят бросить вызов символистской традиции. Внешним выражением этого разрыва с символизмом была акция, предпринятая участниками «Садка судей» после выхода в свет в апреле 1910 г. первого футуристического сборника, о которой рассказал один из его издателей М. Матюшин: „Д. и Н. Бурлюки в одну из сред отправились на “башню” к Вяч. Иванову, где собирались писатели, и рассовали штук тридцать по карманам пальто. Так вышел в свет «Садок судей»“.65 Однако в этой акции будетлян налицо двоякоумно-двуумная поэтика поведения. Квадратная книжечка “ниспровергателей”, напечатанная на обороте золотистых обоев и украшенная девятью гравюрами, — Н. Гумилев в «Аполлоне» назвал ее „кульминационной точкой дерзания в этом году“66
Однако в этой акции будетлян налицо двоякоумно-двуумная поэтика поведения. Квадратная книжечка “ниспровергателей”, напечатанная на обороте золотистых обоев и украшенная девятью гравюрами, — Н. Гумилев в «Аполлоне» назвал ее „кульминационной точкой дерзания в этом году“66 — содержала поэму «Зверинец», которую сам Хлебников читал „на башне у Вяч. Иванова в самом конце 1909 или в начале 1910 г.“67
— содержала поэму «Зверинец», которую сам Хлебников читал „на башне у Вяч. Иванова в самом конце 1909 или в начале 1910 г.“67 и которая в публикации «Садка» была посвящена Вяч. Иванову. В этой связи кажется, что и рассказ Матюшина содержит в себе двойной смысл: экземпляры «Садка», которые 30 поэтов круга Вяч. Иванова обнаружили у себя в карманах пальто — это одновременно и “вызов” поэтам ивановской “башни”, и буквальный “выход в свет” книги, причем “выход в свет” первый и единственный, потому что почти все оставшиеся триста или четыреста книг тиража не были выкуплены издателями и позднее пропали.68
и которая в публикации «Садка» была посвящена Вяч. Иванову. В этой связи кажется, что и рассказ Матюшина содержит в себе двойной смысл: экземпляры «Садка», которые 30 поэтов круга Вяч. Иванова обнаружили у себя в карманах пальто — это одновременно и “вызов” поэтам ивановской “башни”, и буквальный “выход в свет” книги, причем “выход в свет” первый и единственный, потому что почти все оставшиеся триста или четыреста книг тиража не были выкуплены издателями и позднее пропали.68
Но в 1910 г. происходит отдаление Хлебникова от ивановского круга. Хлебников уезжает из северной столицы, его петербургский период завершен. Любопытно, однако, что образ молодого Хлебникова на ивановской “башне” появляется в культурной памяти последующего поколения, пришедшего на “башню” после отъезда поэта из Петербурга — в этой связи замечательна сцена, мифологизирование изображающая “башню” и Городецкого, Стравинского, Толстого и “раннего Хлебникова”, которые представляют на “башне” “языческую Русь” в «Балетном либретто» А. Ахматовой.69
Об отдалении Хлебникова с сожалением рассказывал Гюнтер:
Я жалею, что эта близость к нам была недолгой. Обоюдная заносчивость непреодолимо стояла между им и моими друзьями, так как тихий и смиренно выглядевший Хлебников был обуян дикой духовной гордостью. Я жалею об этом, но вижу также, что его развитие обязательно и без того уже через несколько лет нас бы развело. И при всем том именно изыскивающая корни и из корней рождающая новое словесное богатство — поэзия Хлебникова была нужна «Академии», созданной при Аполлоне.
70
Но в последующие годы личные отношения Хлебникова с самим Вяч. Ивановым продолжались. Не обрывалась переписка: в дневнике 1914 или 1915 года Хлебников отмечал: Письмо Вячеслава Иванова (3, с. 329). В свой альбом (в настоящее время утраченный) Хлебников подклеил какой-то рисунок, изображающий Иванова.71 Хлебников хотел ввести Вяч. Иванова, наряду с о. П. Флоренским, в члены общества председателей земного шара (аналогичного платоновскому “правительству философов”).72
Хлебников хотел ввести Вяч. Иванова, наряду с о. П. Флоренским, в члены общества председателей земного шара (аналогичного платоновскому “правительству философов”).72
Некоторые тексты Хлебникова прямым или косвенным образом диалогически обращены (или посвящены) Вяч. Иванову. Так, сборник «Молоко кобылиц» (1914) открывался хлебниковским письмом к Иванову 1912 г., помещенным «Вместо предисловия». Это письмо начиналось следующим образом: Дорогой Вячеслав Иванович! // Я задался вопросом, не следует ли дать Вам очерк моих работ, разнообразием и разбросанностью которых я отчасти утомлен ‹...› (3, с. 296). После этого обращения к Иванову были помещены стихи Хлебникова. То есть Хлебников как бы делился с Ивановым результатом своих исследований, размышлений и поэтических опытов. Таким образом здесь как бы повторяется модель посланий Хлебникова к Иванову 31 марта 1908 г., 10 июня 1909 г. Или ситуация, описанная в первой части поэмы «Передо мной варился вар».
Аналогичным образом диалогически обращен к Вяч. Иванову, кажется, и программный Разговор «Учитель и ученик. О словах, городах, народах» того же 1912 г. — сумма наиболее важных теорий Хлебникова. В пользу такого предположения может говорить то, что в образе учителя при желании можно увидеть какое-то мифологизированное изображение Вяч. Иванова,73 а форма разговора в какой-то мере ориентирована на платонические диалоги (хотя и достаточно редуцированно: в разговоре присутствует ирония, но элемент собственно спора, несогласия, диалектического противоречия минимален).
а форма разговора в какой-то мере ориентирована на платонические диалоги (хотя и достаточно редуцированно: в разговоре присутствует ирония, но элемент собственно спора, несогласия, диалектического противоречия минимален).
Наконец, в незавершенной автобиографической повести Хлебникова 1916 г. «Ка-2» находится фрагмент, где вождь будетлян вспоминает о своих отношениях с Вяч. Ивановым в петербургские годы. Этот фрагмент, подобно многим хлебниковским произведениям, представляет собой зашифрованный текст.74 Попытаемся интерпретировать его:
Попытаемся интерпретировать его:
Забавно встретить лицо седого немецкого ученого в человеке, которого вы помните с золотистыми волосами, окруженными полувенком.
Мои пылкие годы.
Когда он не был убелен, он мне напоминал еще Львиное Сердце. Ласковыми, уверенными движениями он возьмет вашу руку и прочтет неясное пророчество и потом взглянет внимательно и поправит два стеклышка.75 В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их. Это меня огорчило. Я понял, что дружба, знакомство есть ток между различным числом сил, уравнивающий их. 3, с. 128–129
В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в XX столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их. Это меня огорчило. Я понял, что дружба, знакомство есть ток между различным числом сил, уравнивающий их. 3, с. 128–129
Первая фраза фрагмента описывает Вяч. Иванова, как еще в 1933 г. отмечал Н. Степанов. Слова о тщетных поисках Ариадны и Миноса рассказывают о, видимо, несбывшемся хлебниковском проекте создать какой-то новый поэтический вариант мифа о быкоубийце Тесее, Ариадне и Миносе (ср. строки о нити Ариадны из главки 4 «Войны в мышеловке»: ‹...› Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой. // С ним я распутаю нить человечества, // Не проигравшего глупо // Вещих эллинов грез — Хл., 1986, с. 456; а также стихотворение 1921—1922 г. «Одинокий лицедей») — уж не должен ли был как-то участвовать в этом проекте Вяч. Иванов?
Самое удивительное во фрагменте — выражение Львиное Сердце, отнесенное Хлебниковым к Вяч. Иванову. Слова Львиное Сердце, по сообщению Хлебникова 1909 г., были обращены Ивановым к самому Хлебникову (см. цитированное выше письмо Хлебникова к своей семье от 30 декабря 1912 г.). То есть, повествуя о себе в эпоху петербургской “башни”, Хлебников употребляет для ее хозяина то прозвание, которое сам получил от него.
Мена “я” и “ты” вообще характерна для поэтики Хлебникова, как это показал Б.А. Успенский, по мнению которого, мена “я” и “ты” связана с принципом динамики авторской позиции, с фиксированием границ между разными точками зрения.76 Но здесь замещение “я” “ты” может означать, как представляется, констатацию некоего метафизического замещения “себя” “другим”, соотносимого с ивановской философией диалога, которая создавалась в ходе “симпосионов” на петербургской “башне” (позднее эта философия диалога была изложена Вяч. Ивановым, в частности, в цикле работ о Достоевском).
Но здесь замещение “я” “ты” может означать, как представляется, констатацию некоего метафизического замещения “себя” “другим”, соотносимого с ивановской философией диалога, которая создавалась в ходе “симпосионов” на петербургской “башне” (позднее эта философия диалога была изложена Вяч. Ивановым, в частности, в цикле работ о Достоевском).
Именно эти годы припомнил Хлебников 30 ноября 1920 г. в Баку, записывая в ивановскую тетрадь свое стихотворение «Ты же, чей разум стекал...».77 Текст стихотворения он предварял следующими словами: Вновь после Петроградских дней встрече в Баку с Вами эти строки. Тему стихотворения Хлебникова можно определить как некий вид вселенского диалога “я” и “ты” двух поэтов. Через месяц в Баку Хлебников записывал для себя: 1 янв‹аря› 1921 Вячс‹слав› Ива‹нов› предложил писать космическ‹ую› поэ‹му›.78
Текст стихотворения он предварял следующими словами: Вновь после Петроградских дней встрече в Баку с Вами эти строки. Тему стихотворения Хлебникова можно определить как некий вид вселенского диалога “я” и “ты” двух поэтов. Через месяц в Баку Хлебников записывал для себя: 1 янв‹аря› 1921 Вячс‹слав› Ива‹нов› предложил писать космическ‹ую› поэ‹му›.78 Нельзя исключить, что в этом предложении Иванова содержалась косвенная оценка стихотворения «Ты же, чей разум стекал...».
Нельзя исключить, что в этом предложении Иванова содержалась косвенная оценка стихотворения «Ты же, чей разум стекал...».
Неожиданным образом футуризм Хлебникова при ближайшем рассмотрении оказывается во взаимодействии с инициирующими творческими импульсами ивановской “башни”.
————————
Примечания
 *
* Расширенный вариант доклада, прочитанного 4 ноября 1993 г. в Институте высших гуманитарных исследований, Москва (РГГУ). Автор благодарит выступивших в обсуждении М.Л. Гаспарова, Р.В. Дуганова и В.Я. Мордерер за ценные замечания.
 1 Хлебников В
1 Хлебников В. Творения. М., 1986. С. 642. Это издание далее цитируется как Хл., 1986.
 2 Хлебников В
2 Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 7. Далее цитируется как НП.
 3
3 Цит. по:
Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество. М., 1975. С. 12.
 4 Иванов В.И
4 Иванов В.И. Собр. соч. Брюссель, 1979. Т. 3. С. 76. Ссылки на это издание далее приводятся в тексте с обозначением тома и страницы.
 5
5 Н.И. Харджиев в НП, с. 354 отделил прозаическое обращение от стихотворений, которые напечатал в ином порядке и не в полном составе. Стихотворения написаны Хлебниковым разными чернилами и варьирующимся почерком, что может свидетельствовать о том, что они записывались в разное время. Определить начало и конец каждого стихотворения с полной уверенностью мне представляется затруднительным. Автограф Хлебникова — ОР РГБ, ф. 109, к. 36, ед. хр. 9.
 6
6 Хлебников В. Собр. соч. München, 1972. Т. 3. С. 284. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
 7
7 „Когда состоялось первое знакомство отца моего с Хлебниковым в Крыму в 1908 г., я была девочкой...” — сообщала Л.Вяч. Иванова в письме к А. Парнису от 16 марта 1966 г. —
Парнис А.Е. Вячеслав Иванов и Хлебников. К проблеме диалога и о ницшевском подтексте «Зверинца». — De Visu. 1992. Нулевой номер. С. 43. Лето 1908 г. Иванов провел в Судаке — см.:
Герцык Е. Воспоминания. Париж, 1973. С. 53. Хлебников, который весной 1908 г. отправился в Крым, также поселился в Судаке —
Степанов Н. Велимир Хлебников. С. 13.
 8
8 Возможно, одна из неточностей Гюнтера.
 9 Guenther J. von
9 Guenther J. von. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. München, 1969. S. 209–210.
 10
10 Ср.:
Парнис А. В. Хлебников. — Памятные книжные даты. 1985. М., 1985. С. 165–166.
 11
11 Записи Б.А. Куфтина, частное собрание, цит. по:
Парнис А. Вячеслав Иванов и Хлебников. С. 39.
 12
12 Отзыв приведен в статье Н. Степанова «Творчество Велимира Хлебникова». — Хлебников, 1. С. 33. За этим ивановским отзывом следовал, кажется, О. Мандельштам в статье 1922 г. «О природе слова»: „Когда прозвучала живая и образная речь «Слова о полку Игореве» ‹...› — началась русская литература. А пока Велимир Хлебников, современный русский писатель, погружается в самую гущу русского корнесловия, в этимологическую ночь, любезную уму и сердцу умного читателя, жива та же самая русская литература, литература «Слова о полку Игореве»”. —
Мандельштам О. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 175.
 13 Кузмин М.А
13 Кузмин М.А. Из дневников. 1909, 1910, 1911, 1917 / Приложение к статье А.Е. Парниса «Хлебников в дневнике М.А. Кузмина». — Михаил Кузмин и русская культура XX века. Тезисы и материалы конференции 15–17 мая 1990. Л., 1990. С. 162–164.
 14 Ремизов А
14 Ремизов А. Кукха. Берлин, 1923. С. 57–58.
 15
15 Орфография Хлебникова неустойчива, поэтому разночтение
Любик или
Любек в целом кажется малосущественным. Таким же образом могло варьироваться и имя “Велимир” — “Велемир”.
 16
16 Мысли о специфике имени у Пушкина Вяч. Иванов позднее развивал в статьях «К проблеме звукообраза у Пушкина» и «О новейших теоретических исканиях в области художественного слова». Смысл собственного имени и фамилии Вяч. Иванов интерпретировал в разговорах с М. Альтманом (
Альтман М. Из бесед с поэтом Вяч. Ивановым. — Труды по русской и славянской филологии. XI. Тарту, 1968. С. 308–309). Слова Иванова о смысле имени героини «Цыган» послужили отправной точкой для Флоренского, который, цитируя ивановскую статью 1908 г., продолжал: „Имя ‹героини «Цыган»› есть звуковая материя, из которой оформливается вся поэма” (
Флоренский П. Имена. — Опыты. Литературно-философский сб. М., 1990. С. 354 и сл.).
 17
17 О “тайне имен” Тютчева и Одоевского Хлебников писал в статье «Закон поколений» 1915 г., отмечая: ‹...›
имена Тютчева и Одоевского, может быть, самое лучшее, что они оставили
(цит. по:
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990. С. 102). Приведем также на первый взгляд противоречащий этому тексту отрывок из «Фрагментов о фамилиях» 1912 (?) г.:
Имена собственные не называют дарования. Видимое исключение: Кузмин и Иванов ‹...› (НП, с. 425).
 18 Дуганов Р.В
18 Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. С. 101.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 19
19 Сонет Верховского и Кузмина см.:
Кузмин М. Избранные сочинения / Сост. и комм. А. Лаврова и Р. Тименчика. М., 1990. С. 520, 126; сонет Иванова — 2, с. 335. Ср. также:
Гаспаров М.Л. Русский стих 1890-х — 1925 годов в комментариях. М., 1993. С. 210. Словесную игру 1909 г. Верховский вспоминал в 1920 г. в обращенных к Вяч. Иванову стихах: “Друг мой, некогда мы упредили крылатою рифмой / Рифму живую с тобой — рифму лобзанья друзей” (авторизованная машинопись в римском архиве Вяч. Иванова).
 20 Сологуб Федор
20 Сологуб Федор. Стихотворения. Л., 1978. С. 331–332.
 21
21 Стихотворение приложено к письму Вяч. Иванова Ф. Сологубу от начала июня 1906 г. (
Иванов В. Письма к Ф. Сологубу и А.Н. Чеботаревской / Публ. А. Лаврова. — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Л., 1979. С. 141–142). Любопытно, что в черновике для «Рыкающего Парнаса» в 1914 г. Хлебников и А. Крученых в полемике с символистами назвали Сологуба “Ф. Губосалом” (3, с. 249).
 22 Пяст В
22 Пяст В. Встречи. М., 1929. С. 47. Дату сообщает в своих воспоминаниях К. Эрберг (Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979. С. 143).
 23
23 Ср. недавнюю работу, демонстрирующую криптограмму слова “логос” в поэтическом тексте Иванова „О слове Гераклиту логос / Поведал, темному, темно; / И шепчет элевсинский колос: / Не встанет, не истлев, зерно” (
Доценко С.И. Об одном примере анаграмматического построения текста: Вяч. Иванов. — De Visu. 1993. №6. С. 44–45).
 24
24 Об этом анаграммировании писал М. Альтман в статье начала 1920-х гг. «Ономастика в поэзии Вячеслава Иванова», фрагменты которой опубликованы в
Иванов В.И. 2, с. 765. Специально об анаграммах Вяч. Иванова, в том числе и о содержащихся в цикле «Золотые завесы», см.:
Топоров В.Н. К исследованию анаграмматических структур. — Исследования по структуре текста. М, 1987. С. 221–225. Приведем еще одно проницательное наблюдение из работы М. Альтмана, не только исследователя, но и вдумчивого “совопросника” поэта в 1921–1923 гг. в Баку: „Как только в магическое поле молитвословий и песнопений Вячеслава Иванова вступают собственные имена, поэт весь преображается, мы перестаем его узнавать, вернее, начинаем узнавать с новой стороны. Чтобы имя того, кому или о ком Вячеслав Иванов говорит в стихах, завуалировать и тут же эту вуаль слегка приподнять, опустить над любимым „золотые завесы” (так ведь и называется один из циклов его сонетов, посвященных им явно и тайно любимым) и сделать эти завесы, как подобает певцу «Прозрачности», прозрачными, дабы сквозь них, если не увидеть лица, то хоть услышать личное имя, — для этого, обычно строгий и сдержанный в выборе художественных средств, Вячеслав Иванов готов прибегнуть к любому средству, использовать любой поэтический прием. Тут пускается в ход и нарицательное осмысление собственного имени, и каламбурное сочетание соседящих слов” (
Альтман М. Ономастика в поэзии Вячеслава Иванова. — Римский архив Вяч. Иванова). В плане анаграмматической игры, основанной на противоположении звучания и смысла по-русски и по-гречески двух имен собственных, замечательно стихотворение 1917 г. «Тень Фета»: „‹...› И будто имя Афанасий / Я произнес; а старец мне / С улыбкой тихой: „Анастасий”, — / И темен был намек во сне” (3, с. 525, выделено Вяч. Ивановым; Афанасий — ‘бессмертный’, Анастасий — ‘воскресающий’).
 25
25 Отмечено в указанной работе В.Н. Топорова.
 26
26 Ср. отзыв Н. Гумилева на опубликованные в «Садке судей» хлебниковские произведения «Зверинец», «Журавль» и «Маркиза Дезез»: „В. Хлебников — визионер. Его образы убедительны своей нелепостью, мысли — своей парадоксальностью. Кажется, что он видит свои стихотворения во сне и потом записывает их, сохраняя всю бессвязность хода событий. В этом отношении его можно сравнить с Алексеем Ремизовым, писавшим свои сны. Но ‹...› В. Хлебников сохраняет все нюансы, отчего его стихи, проигрывая в литературности, выигрывают в глубине. Отсюда иногда совершенно непонятные неологизмы ‹...›” (
Гумилев Н. Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 120).
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 27
27 А. Парнис отмечал, что на том же развороте «Весны» было напечатано стихотворение „безвестного стихотворца под звучным псевдонимом “Велимир””, и предполагал, что именно у него Хлебников заимствовал свой псевдоним (Памятные книжные даты. 1985. С. 166). Вероятность этого предположения нельзя исключить, но тогда речь должна идти, скорее, о толчке, который помог актуализировать Хлебникову прежде неосознанную анаграмму “Велимир” в заключительной строке «Охотника». Но для Хлебникова, если принять во внимание уже цитированное письмо от 30 декабря 1909 г., почти столь же важно было его второе имя — “Любик”/“Любек”, а оно уже налично, без всякого “шифра”, присутствовало в «Охотнике».
 28
28 „Велимиром — повелителем мира — называл он (Вяч. Иванов. —
А.Ш.) его, и это имя так сроднилось с Хлебниковым, что многие убеждены в подлинности этого языческого гордого имени, так идущего к его облику” (
Асеев Н. В.В. Хлебников. — Творчество (Владивосток). 1920. №2 (июль). С. 26. Приношу благодарность А.Е. Парнису за указание на этот источник).
 29
29 Отношение анаграмматических опытов Вяч. Иванова к разысканиям Ф. де Соссюра должно было бы стать темой отдельного исследования. Предварительно отметим, что термин “анаграмма” в первых тетрадях Соссюра еще отсутствует (Starobinski /. Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Paris, 1971. P. 23); Иванов, который в Женеве учился у Соссюра санскриту и покинул Швейцарию в 1905 г., включая анаграммы в свои стихи и пользуясь идеей анаграмм в своих разборах, ни разу не употреблял этого термина, что, кажется, является аргументом скорее в пользу его раннего знакомства с теориями женевского лингвиста, чем наоборот. Опубликованная записка Соссюра к Иванову свидетельствует как о дружеских отношениях, так и о каких-то совместных интересах (см.:
Ziffer G. Il poeta il grammatico. Un biglietto inedito di Ferdinand de Saussure fra le carte di Vjaсeslav Ivanov. — Russica Romana. 1994. V. I. P. 189–191).
 30
30 „Навь, навье, навей — мертвец” — см.:
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М, 1987. Т. 3. С. 35.
 31
31 К 1907–1908 гг. относится словотворческая разработка корня “люб” — воспроизведение рукописи-автографа см. в кн.:
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. С. 289. Ср. в статье Маяковского 1918 г.: „Футурист Хлебников шесть страниц заполняет производными от этого глагола (‘любить’. —
А.Ш.), так что у наборщиков даже буквы “Л” не хватает” (
Маяковский В. Полн. собр. соч. М, 1959. Т. 12. С. 12). Ср. также персонаж Эль в сверхповести «Зангези», 1920&т-dash;1922:
Эль — это солнышко ласки и лени, любви! — Хл., 1986, с. 478.
 32 Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды.
32 Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды. — «Пусть на могильной плите...», 1904. — Хл., 1986, с. 577. Как справедливо комментирует В.П. Григорьев (там же, с. 704), здесь говорится о любви как об идеальном начале общественных отношений. Но для Хлебникова очень важно поддержать этот смысл тремя мягкими л: “га
ли
лейская
любовь”.
Ль указывает на уменьшаемость растояния между познающим разумом и познаваемым; вещь льнет к человеку — «Изберем два слова», 1912. — НП, с. 325.
 33 Эль начинает те имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси.
33 Эль начинает те имена, где сила тяжести, шедшая по некоторой оси, расходится по плоскости, поперечной этой оси.
‹...›
есть переход точек из одномерного тела в двумерное тело, под влиянием остановки движения, и есть точка перехода, точка встречи одномерного мира и двумерного вида. Не отсюда ли слово — любить. В нем сознание одного человека падало по одному измерению — одномерный мир. Но приходит второе сознание, и создается двумерный мир людей, поперечный первому, как плоскость лужи поперечна падающему дождю.
‹...›
И вот глубокий смысл слова люди: путь одного человека должен быть направлен к наибольшей площади другого человека и, вонзившись, как копье в латы, передать свой толчок всему пути второго человека.
‹...›
В любви, как это отчасти указывают слова — люди, лель, ляля и крест, душа одного встречает душу другого под прямым углом к наибольшей величине второго сознания и передает ему свое движение.
— ‹Разложение слова›, 1915—16 (3, с. 198—199). Поэтический вариант этого текста содержит стихотворение 1920 г. «Слово о Эль».
 34
34 Например, в «Детях Выдры» читаем:
Сын Выдры перочинным ножиком вырезывает на утесе свое имя: “Велимир Хлебников”. Утес вздрагивает и приходит в движение ‹...›
Утес: Мне больно. Знаешь, кто я? Я сын Пороса. (Хл., 1986, с. 447); Порос, по платоновскому «Пиру» (203, b–е), отец Эрота.
 35 Григорьев В.П
35 Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. В. Хлебников. М., 1983. С. 200, примеч. 24.
электронная версия книги В.П. Григорьева на www.ka2.ru
 36
36 Хл., 1986, с. 41. Ср. также «Из Творения» 1906–1908 г.:
Думалом волилом я мир озирал
/
И пляскою вязкою жир окружил
(3, с. 381).
 37 Хансен-Леве А
37 Хансен-Леве А. 1) К типологии возвышенного в русском символизме. — Блоковский сб. XII. Тарту, 1993. С. 49 и везде; 2) Формы апофатизма и пустого дискурса в раннем символизме. (В печати.)
 38
38 Это предположение принадлежит Р.В. Дуганову. Говоря о “загадке хлебниковского псевдонима”, В.П. Григорьев сообщает о наброске программы «Славянского вечера» в хлебниковских рукописях, где сам Хлебников должен был быть “ответственным распорядителем” и где намечались речи Вяч. Иванова и С. Городецкого. —
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. С. 200, примеч. 24.
 39
39 Между прочим, как пьеса «Незнакомка», так и стихотворение «По вечерам над ресторанами...» “просияли”, как писали современники, именно на “башне”. — А. Блок в воспоминаниях современников. М., 1980. Т. 1. С. 41, 221–222.
 40
40 Можно предположить, что это волшебный котел; сказания о нем распространены в преданиях урало-алтайских, эллинистических, кельтских — где, между прочим, он может также считаться прототипом св. Грааля (см.: «Chaudron». —
Chevalier J., Gheerbrant A. Dictionnaire des symboles. Paris, 1982. P. 217–218).
 41
41 Символ небесного и хтонического, бык отождествлялся с умирающим и воскресающим богом Дионисом, как это позднее специально исследовал Вяч. Иванов в работе «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923): „Дионис-бык в мире живых и змий в подземном царстве. ‹...› Смерть жертвенного быка есть его брак с Землею...” (С. 99–100; об обряде ритуального убийства быка — там же, с. 141). Мотив жертвенного быка может быть опосредованно в какой-то мере соотнесен со звуковыми семантическими ореолами новых имен Хлебникова на “башне”: как символ творящей силы бык репрезентировал древнееврейского бога Эль, почитавшегося от эпохи патриархов до царства Давида («Taureau». —
Chevalier J., Gheerbrant А. Указ. соч. Р. 929; ср.: Еврейская энциклопедия. СПб., ‹б.г.›. Т. 7. С. 821–824; Т. 8. С. 132). Если это значение было известно Хлебникову, то имя бога ‘Эль’ присутствует как в имени “Любик”, так и “Велимир”.
 42
42 Городецкий, знакомство которого с Хлебниковым восходило к “башенной” эпохе, в своем стихотворении 1925 г. на смерть поэта, быть может, не случайно сравнивал Хлебникова с быком на пашне: „Вопрос был в том, вздымать ли корни / Иль можно так же суффикс гнуть. / И Велимир, быка упорней, / Тянулся в звуковую муть” («Велимиру Хлебникову». — Русские поэты “серебряного века”. Л., 1991. С. 109).
 43
43 В этом смысле употребляет слово ‘прелесть’ В. Марков в статье «О прелести Хлебникова», интерпретируя это слово как прозрачность и красоту неологизмов, „новую простоту” и детскость. Как образец “прелести” Марков приводит стихотворение 1910 г. «Трущобы» («Были наполнены звуком трущобы...»; см.:
Markov V. On the prelest' of Chlebnikov. — Velimir Chlebnikov (1885–1922): Myth and reality. Amsterdam Symposium on the Centenary of Velimir Chlebnikov. Amsterdam, 1986. P. 1–13).
 44
44 H.И. Харджиев считал, что в этих строках изображен Ф. Сологуб, что, видимо, неверно. В пользу Брюсова говорит прежде всего указание в строке 64 на журнал «Весы» „наедине” с которым находится поэт. Между прочим, указание на присутствие среди гостей на “башне” москвича Брюсова могло бы позволить с большой долей вероятности датировать поэму Хлебникова: известно, что в Петербурге Брюсов провел с Н.И. Петровской первые три недели марта 1909 г. (
Нинов А.А., Щербаков Р.Л. Комментарии к переписке В.Я. Брюсова с К.Д. Бальмонтом. — Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. М., 1991 (Литературное наследство. Т. 98). С. 203). Брюсов в письме к И.М. Брюсовой от 14 марта 1909 г. сообщал, что накануне побывал на ивановском вечере, где встретил „множество народа, большею частью нестерпимого”, не упоминая присутствия там Хлебникова (ОР РГБ, ф. 186, к. 142, ед. хр. 12; за сообщение этого письма приношу благодарность А.В. Лаврову). Всю осень 1909 г. Брюсов провел в Париже. Таким образом, вопрос о более точной датировке поэмы Хлебникова остается открытым.
 45
45 Отмечено Н.И. Харджиевым в НП, с. 426. О чтении Кузминым поэтического “романа” «Новый Ролла» ср. в дневниковых записях Вяч. Иванова: „Кузмин рассказывал, что думает представить в 6-й и 7-й частях ‹романа›, который меня очень занимает. Я ему дал в общих чертах сюжет 4-й и 5-й части, а потом требовал продолжения — до 7 части. Что он задумал нежно и изящно; но б. м. опасно (и даже не наверно ли?), поскольку может содержать намек на мои мистические искания и, как он б. м. подозревает, увлечение и разочарование” (5 августа 1909. — 2, с. 783). „С Кузминым ссорюсь, бракуя новый № из Ролла, монолог венецианки, и прекословя его планам” (14 августа 1909. — 2, с. 789).
 46
46 Это можно заключить на основании того, что 1) первое из прочитанных стихотворений «России нет, не стало больше...» безусловно принадлежит Хлебникову — см. стих. «Я переплыл залив Судака...» — Хл., 1986, С. 61; 2) ироническая (но не негативно ироническая) реплика в строке 124
Вы очень удачно похитили у раешников меру может быть отнесена именно к этим стихам, соотносимым с русской фольклорной культурой; о чтении произведений других писателей, Ремизова или Городецкого, здесь не сообщается.
 47
47 Из черновых записей С. Городецкого для выступления на юбилейном вечере Хлебникова 9 ноября 1965 г.; цит. по работе:
Парнис А.Е. Хлебников в дневнике М.А. Кузмина. С. 157.
 48
48 Можно думать, что хлебниковские слова
о человеке и вере
достаточно точно передают одну из постоянных тем ивановских сред — ср. из “воспоминаний” близкого друга Вяч. Иванова С.В. Троцкого: „На одной из сред, во время речей о Боге и человеке, не помню кто сказал, не то Бердяев, не то В. И‹ванов›, слова, которых я не забываю, и приходится иногда повторять их: „Надо иметь роман с Богом”” (Вячеслав Иванов. Материалы и публикации. М., 1994. С. 59 (НЛО. №10. Историко-литературная серия. Вып. 1)).
 49
49 Ср. впечатление о Брюсове Вяч. Иванова, относящееся к началу петербургской эпохи русского символизма: „Брюсов служит злу. ‹...› Помню, какое сильное произвел он впечатление на мою жену, когда при первом знакомстве, в течение целого вечера, рассказывал, что он больше всех в мире страдает, ибо вынужден всегда лгать и скрывать свое истинное лицо” (Альтман М. Указ. соч. С. 305 (запись от 16 января 1921). В другой раз Вяч. Иванов, рассказав эпизод отношений с Брюсовым, продолжал: „сущность декадентства, что часть приобретает значение целого. Это и есть разложение, отпадение от целого, отделение каждого атома. Это и есть начало зла, служение дьяволу”. — Там же. С. 308 (запись от 23 января 1921)). С негативным портретом Брюсова в строках 55–63 Хлебниковской поэмы можно сопоставить отрицательную характеристику Брюсова, Андреева, Арцыбашева и Мережковского в разговоре «Учитель и ученик», где Хлебников обвиняет Брюсова в том, что тот проклинает будущее:
На вопрос, чем занимаются русские писатели, нужно ответить: они проклинают! Прошлое, настоящее и будущее!
(Хл., 1986, с. 590–591).
 50 Блок А
50 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 99. Как отмечали еще современники, этот эпизод у Блока навеян аналогичным эпизодом из драмы М. Метерлинка «Сестра Беатриса» (ср.:
Метерлинк. Сестра Беатриса / Перевод Л. Вилькиной. Изд. М.В. Пирожкова. ‹СПб., б.г.›. С. 45), которая с 1906 г. представлялась в театре Комиссаржевской. См.:
Безродный М.В. Лирическая драма А.А. Блока «Незнакомка» (Проблемы текстологии, генезиса, поэтики) / Автореферат канд. дис. Тарту, 1990. С. 11). Не исключено также, что образ Богородицы мог быть навеян и чтением на “башне” каких-то “духовных стихов” М. Кузмина — его «Хождениями Богородицы по мукам» или «Праздниками Пресвятой Богородицы». Ремизов описывал, как Кузмин пел на “башне” переложение «Хождения»: „год 1907-ой прошел под знаком этой песни. ‹...› Кончается тем, что Богородица отказывается от райского блаженства, уходит из рая и идет мучиться с грешниками — в ад — на землю” (
Ремизов А. Кукха. Берлин, 1923. С. 105–106). Там же (с. 107) Ремизов сообщает, что переложение «Хождения» Кузмин пел Розанову через несколько лет, то есть около 1908—1910 г. Таким образом, нельзя исключить возможности, что Хлебникову в момент сочинения поэмы в 1909 г. было известно переложение «Хождения».
 51 Безродный М.В
51 Безродный М.В. Указ. соч. С. 8, 13.
 52 Соловьев Вл
52 Соловьев Вл. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. С. 172. Ср. также каламбур “Соловьев — соловьев” в пьесе Хлебникова того же 1909 г. «Чертик», которая, как отмечает А.Е. Парнис (Хл., 1986, с. 688), восходит к “игрословиям” Соловьевеких шуточных пьес.
 53 Блок А
53 Блок А. Собр. соч. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 426. Между прочим, Г. Чулков, читая доклад актерам перед премьерой пьесы, утверждал, что „в «Балаганчике» А. Блок приближается к своей возлюбленной в маске скомороха, подобно тому как средневековый гаер подходил к Мадонне, напевая песенку, исполненную своеобразной печали и юмора” (цит. по комм. Л. Долгополова. — Там же. С. 568).
 54
54 „Образ чаемой Жены стал двоиться и смешиваться с явленным образом блудницы” («Заветы символизма». — 2, с. 599).
 55
55 Самое критическое выступление против некоторых аспектов этого направления в русском символизме принадлежит анонимному “петроградскому священнику”, автору статьи «О Блоке», напечатанной в журнале «Путь» в 1930 г.
 56
56 Подробнее см. мою статью «Le Banquet platonicien et soufi a la “tour” peleisbour-geoise: Berdjaev et Vjaceslav Ivanov». — Cahieis du Monde Russe. V. XXXV (1–2). 1994. P. 15–79.
 57
57 НП, c. 424. В основе лежит подлинный факт стихотворной переписки Иванова и Гюнтера; Иванов писал Гюнтеру стихи по-немецки — ср. свидетельство О. Дешарт: „Как-то раз утром Гюнтер подсунул написанные им стихи под дверь спальни В.И., который в тот же день подбросил в комнату своего гостя стихотворный ответ по-немецки” (2, с. 737). Немецкие стихи Иванова к Гюнтеру вошли в «Cor Ardens».
 58
58 Письмо Хлебникова к М. Матюшину от 18 июня 1913 г. (НП, с. 365—366).
 59
59 Из последних работ на тему «Пир» Пушкина и Хлебникова см.:
Сигов С.В. О драматургии Велимира Хлебникова. — Русский театр и драматургия 1907–1917 гг. Л., 1988. С. 98;
Хазан В.Я. «Ошибка смерти» Хлебникова: Авангардизм в контексте традиций. — Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе XX в. Грозный, 1991. С. 47–55.
Ваran H. Pushkin in Khlebnikov: Some Thematical Links. — Cultural Mythologies of Russian Modernism. Bericeley, 1992. P. 370–374.
 60 Белый А
60 Белый А. Начало века. M., 1990. С. 345–346.
 61
61 Цит. по статье Н.А. Богомолова «Петербургские гафизиты». — Серебряный век в России. М., 1993. С. 199.
 62
62 „В чем-то гениальный Хлебников, казалось, также искал возможности к нам присоединиться. Одержимый изысканием корней русского слова, он был в конце концов нам родственен, ибо нам тоже был свят закон: „В начале было Слово”. И для нас также написал апостол Павел к Коринфянам: „Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ”. Эти слова апостола можно взять как девиз всего символизма, но они характеризуют также все стремление самого Хлебникова” (
Guenther J. von. Ein Leben im Ostwind. S. 275).
 63
63 НП, с 355–357.
 64 Харджиев Н
64 Харджиев Н. Новое о Велимире Хлебникове. — Russian Literature. 1975. №9. P. 12.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 65
65 Воспоминания М.В. Матюшина. Цит. по:
Степанов Н.В. Хлебников. С. 18.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 66 Гумилев Н.С
66 Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. С. 120.
 67
67 Недатированная запись в «Дневнике» А. Ахматовой. Цит. по:
Мандрыкина Л.А. Ненаписанная книга. «Листки из дневника» А.А. Ахматовой. — Книги. Архивы. Автографы. М., 1983. С. 68.
 68 Markov V
68 Markov V. Russian Futurism. A History. Berkeley, Los Angeles, 1968. P. 22.
 69
69 „“Башня” Вяч. Иванова. — Хромой и учтивый дома. Античность. Оживает пергамский алтарь. Эдип — Антигона. Проклятие. Языческая Русь (Городецкий, Стравинский, Весна священная, Толстой, ранний Хлебников). Они на улице. Таврический сад в снегу, вьюга. Призраки в вьюге (М. б., даже — Двенадцать Блока, но вдалеке и не реально)”. —
Ахматова А.А. Соч.: В 2 т. М, 1986. Т. 2. С. 233. Смысл первой фразы цитированного фрагмента делается ясным из другого, более позднего, отрывка либретто: Вяч. Иванова Ахматова называет Фаустом, тогда Хромой, вне всякого сомнения, Мефистофель. Можно предположить, что эти фрагменты как-то соотносятся с либретто балета «Снежная маска», который писался Ахматовой в 1921 г. Ср. в Дневнике К. Чуковского, запись от 24 декабря 1921 г.: „Она ‹Ахматова› ‹...› сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. „Это балет «Снежная Маска» по Блоку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой””. И она стала читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне как тонкий комментарий к «Снежной Маске». „Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже”. — Новый мир. 1990. №8. С. 149. Либретто 1921 г., по свидетельству В.М. Жирмунского и Д. Максимова, утрачено — см. комментарий Б. Чуковской там же, с. 171.
 70 Guenter J. von
70 Guenter J. von. Ein Leben im Ostwind. S. 275.
 71
71 Об этом альбоме рассказывал Дм. Петровский: „Любопытны очень всякие бумажки, подклеенные им ‹Хлебниковым› в тетради. Например: наверху кусочек бумаги наклеен поперек; напечатано на нем „скука девы старой”, под клочком небольшой картон (размером посткарт) с карандашным рисунком: пейзаж, едва можно разобрать, гора, человек сидящий и рядом с ним, но отдельно, посох, несоразмерно большой. Внизу подпись: „Вячеслав Иванов”. Городецкий сразу разобрал”. (
Черняк Я. Московские впечатления. 1921–1924 / Публ. М. Фейнберга. — Арион. Журнал поэзии. М., 1994. №1. С. 64. (Дневниковая запись от 16 ноября 1923 г.)).
 72
72 „Виктор Владимирович заложил начало обществу “317” — это одно из его магических чисел. 317 плюс-минус 48 равен 365, числу дней в году, единице времени земли и т. д. ‹...› Хлебников решил предложить вступление в “317” некоторым, по его мнению, близким „идее Государства Времени” лицам, в том числе Вячеславу Иванову и о. Павлу Флоренскому. ‹...› 29 февраля 1916 г., в Касьянов день, отправились мы вдвоем с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае, вечер провели хороший и серьезный.
Вячеслав Иванов любил и ценил Хлебникова, только жалел, что тот уходит от поэзии и увлекается своими “законами”, хотя самому ему идея Хлебникова — свести все явления к числу и ритму и найти общую формулировку для величайших и мельчайших и, таким образом, возвысить мир до патетического — была близка” (
Петровский Дм. Повесть о Хлебникове. М., 1926. С. 8–12).
электронный вариант повести Дм. Петровского на www.ka2.ru
 73
73 В пользу такого предположения свидетельствуют некоторые косвенные аргументы, в первую очередь, совпадение между речью о действии будущего на прошлое и первой частью “письма” Хлебникова к Иванову 1912 г. Р.В. Дуганов утверждает, что „настоящим ‹...› ответом на “потустороннюю мудрость” ‹Вяч. Иванова› стала его книга «Учитель и ученик», само название которой намекает на известную сказку об ученике чародея, превзошедшем своего учителя” (
Дуганов Р.В. Велимир Хлебников. Природа творчества. С. 38), однако не приводит аргументов.
 74 Успенский Б.А
74 Успенский Б.А. К поэтике Хлебникова: Проблемы композиции. — Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973. С. 122.
 75
75 Здесь идет речь, кажется, о хиромантическом чтении руки.
 76 Успенский Б.А
76 Успенский Б.А. К поэтике Хлебникова: Проблемы композиции. С. 126.
 77
77 Это стихотворение вошло в состав поэмы «Война в мышеловке» (Хл., 1986, с. 463). В.П. Григорьев указывал, что текст «Ты же, чей разум стекал...», „по некоторым предположениям”, обращен к Вяч. Иванову (Хл., 1986, с. 695). Своих предположений В.П. Григорьев, к сожалению, не сообщил. О стихотворении «Ты же, чей разум стекал...» известен рассказ Т. Вечорки: „Однажды мы были втроем с Хлебниковым и еще кем-то (не вспомню). Кто-то, глядя на Велимира, говорил, что, услышав новое стихотворение Хлебникова, Вяч. Иванов обнял его, расцеловал и сказал: „Хлебников, вы ангел!”
Хлебников молчал, моргая, но видимо был рад.
Я спросила:
— Что это за стихотворение?
Он протянул листок и написал:
Ты же, чей разум стекал как седой водопад
На пастушеский быт первой древности.” (
Вечорка Т. Воспоминания о Хлебникове. — Записная книжка Велимира Хлебникова / Собрал и снабдил примечаниями А. Крученых. М., 1925. С. 27).
 78
78 Цит. по:
Григорьев В.П. Грамматика идиостиля. С. 116. Оригинал — РГАЛИ. Ф. 522. Ед. хр. 92. Л. 48 об. Как мне любезно сообщил Р.В. Дуганов, здесь Хлебников сначала записал:
космогон. Вяч., а потом расшифровал вышеприведенным способом.
Воспроизведено по: НЛО, №17, 1996. С. 141–167



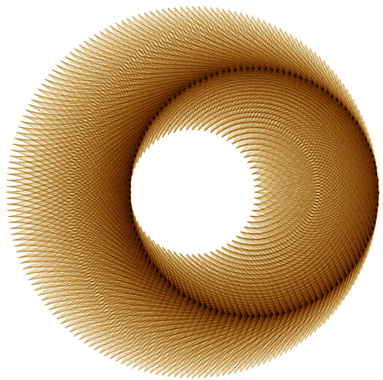 твечая в 1914 г. на анкету С.А. Венгерова, Хлебников предельно кратко сформулировал тему размышлений своего казанского периода: В годы студенчества думал о возрождении языка.1
твечая в 1914 г. на анкету С.А. Венгерова, Хлебников предельно кратко сформулировал тему размышлений своего казанского периода: В годы студенчества думал о возрождении языка.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()