

Мать Хлебникова Екатерина Николаевна, историк по образованию, своими рассказами способствовала возникновению того интереса к истории, который проявился у Хлебникова ещё в детские годы. Помимо Виктора Владимировича, в семье было ещё четверо детей (Борис, Екатерина, Александр и Вера).
Детство и юношеские годы Хлебникова прошли в обстановке провинции, главным образом на Волыни и в юго-восточном приволжском крае, в таких городах, как Симбирск, Казань, Астрахань, где ещё сохранились тогда следы восточной культуры. Постоянное соприкосновение с природой, провинциальная патриархальность также наложили известный отпечаток на формирование мировоззрения Хлебникова.
Читать Хлебников выучился с четырёхлетнего возраста, в детстве уже начал заниматься языками и рисованием. Помимо гимназических учителей, среди преподавателей, занимавшихся с ним дома, следует отметить критика Глинку-Волжского, Н.Л. Брюханова, З.П. Соловьева, художников П.П. Бенькова и Л. Чернова-Плесского. Особенно много занимался Хлебников живописью во время пребывания в Казани; владение техникой живописи и художественную одарённость Хлебникова отмечают и все знавшие его в более поздние годы.
Следует отметить, что семья Хлебниковых располагала хорошей домашней библиотекой, в которой, по свидетельству родных, В.В. познакомился с произведениями Дидро, Канта, Спенсера, Конта, Тэйлора, Берви-Флеровского.
После Волыни, где прошли детские годы Хлебникова, семья его переехала в Симбирскую губернию, в село Памаево, откуда в 1897 году Виктора Владимировича отправили в Симбирск для поступления в гимназию. Хлебников поступил в третий класс симбирской гимназии, в которой проучился всего лишь год, так как в следующем, 1898 году Хлебниковы всей семьей перебрались в Казань, где он перевелся в четвертый класс 3-й казанской гимназии. В гимназии Хлебников, по словам родных, проявлял наибольший интерес к литературе, истории и математике. В 1903 году Хлебников окончил восемь классов гимназии, причём, помимо стандартных отметок, в аттестате было указано, что он “занимался с большим интересом математикой”. По окончании гимназии летом 1903 года Хлебников поехал в геологическую экспедицию в Дагестан, по возвращении откуда он поступил в Казанский университет на математическое отделение физико-математического факультета.
Казанский университет ещё с 80-х годов считался “беспокойным”, в частности правительство смущал рост его “разночинского” состава. Среди казанского студенчества в начале 900-х годов памятны ещё были революционные традиции и студенческие волнения 1887 года, историческая сходка 4 декабря, после которой был исключен за участие в ней В.И. Ленин с сорока другими студентами. Студенческие волнения 1901 – 1902 годов, возникшие как протест против “временных правил 1899 года”, нашли также широкий отклик в Казанском университете и дали студенчеству решительный толчок по пути революционного развития. В 1902 году вновь воссоздаётся казанская социал-демократическая группа “искровского” направления, причём в её организации большую роль играют студенты университета. Группа искровцев подвергалась неоднократным арестам и разгромам. В октябре 1903 года скончался арестованный студент, социал-демократ С.Л. Симонов, просидевший четыре месяца в психиатрической лечебнице в ужасных условиях. Смерть Симонова вызвала взрыв негодования в прогрессивных кругах казанского студенчества. В знак протеста состоялись студенческие демонстрации во время его похорон 27 октября и в годовщину Казанского университета 5 ноября. „Во время второй демонстрации толпа демонстрантов, певших вечную память Симонову, была разогнана нагайками, и 35 человек из них арестованы на один месяц каждый”.
В этой демонстрации принимал участие и Хлебников, арестованный полицией вместе с рядом других демонстрантов. Е.Н. Хлебникова следующим образом передаёт этот эпизод:
Свидетельством участия Хлебникова в этой демонстрации и его тюремного заключения является письмо к родным от 3 декабря 1903 года, в котором он сообщал подробности своего пребывания в тюрьме.
После освобождения из тюрьмы Хлебников на два месяца уехал с одним из товарищей по заключению в деревню в Ярославскую губернию. 24 февраля 1904 года Хлебников был уволен из университета и вскоре после этого отправился в Москву. В Москве его больше всего интересуют памятники искусства, в частности уже тогда он обращает внимание на архитектуру древнерусского стиля.
28 июля 1904 года Хлебников вновь зачисляется студентом Казанского университета, но уже на естественное отделение физико-математического факультета, где и слушает лекции в течение осеннего полугодия 1904 года, 1906/1907 и 1907/1908 учебные годы.
По свидетельству Е.Н. Хлебниковой, в период русско-японской войны Хлебников занимал пораженческую позицию, возбуждая этим негодование патриотически настроенных обывателей. Революцию 1905 года Хлебников встретил „с увлечением”, посещал митинги, собирался принять участие в защите евреев от погромов и принимал участие в революционном кружке, подготовлявшем какую-то экспроприацию. Об этом же эпизоде вспоминает и сестра его, В.В. Хлебникова:
Однако это раннее увлечение Хлебникова революционным движением во многом определялось юношеской романтикой и вскоре за тем, после переезда в Петербург, сменилось другими интересами и настроениями.
Уже тогда Хлебникова тяготила обывательская обстановка, и, по свидетельству В.В. Хлебниковой, он однажды в знак протеста вынес из комнаты всю мебель, оставив только кровать и стол, а на окна повесил рогожи. Ко времени пребывания в университете относятся и первые литературные опыты Хлебникова. По словам сестры,
Весною 1905 года Хлебников получил от университета командировку на Урал, в Павдинский край, куда поехал вместе со своим младшим братом Александром. Из поездки в Павдинский край Хлебников, по словам сестры, привез „бесконечные записи, где много места уделялось напевам лесных птиц”. Свои научные наблюдения об этой поездке на Урал Хлебников совместно с братом изложил в статье «Орнитологические наблюдения на Павдинском заводе», помещённой в журнале «Природа и охота» (за 1911 г., декабрь, кн. 12-я, стр. 1–25).
Серьёзность занятий Хлебникова биологическими науками подтверждается не только его почти трёхлетним пребыванием на естественном отделении физико-математического факультета, но и несколькими напечатанными статьями на орнитологические я биологические темы: «Опыт построения одного естественно-научного понятия» (о симбиозе и метабиозе) в «Вестнике студенческой жизни» и «О нахождении кукушки в Казанской губ.».
О студенческих годах Хлебникова в Казани рассказывает близко знавшая его в то время В.И. Дамперова:
Последний год пребывания в Казанском университете Хлебников почти перестал заниматься и стремился уехать из Казани. Ранней весной 1908 года он отправился с родителями в Крым, где поселился в Судаке, познакомившись там с поэтом Вяч. Ивановым. Осенью 1908 года Хлебников переводится в Петербургский университет и переезжает в Петербург.
18 сентября 1908 года Хлебников был зачислен в число студентов Петербургского университета на третий курс естественного отделения физико-математического факультета, а в письме от 23 сентября он указывает родным свой петербургский адрес. О первых днях своего пребывания в Петербурге Хлебников сообщал в письме к отцу от 13 октября 1908 года следующие подробности: Доношу о своей жизни: живу на Вас. Острове в 15–20 минутах ходьбы от университета. Плачу 10 руб. комната — один, обедаю в столовой то за 10 к., то за 50 к. — обед всегда невкусный. У хозяйки мог бы обедать за 11 руб., — но до лучших времён. Расстояния меня убивают. Трамваи тоже. С переездом в Петербург Хлебников интересуется не столько учебно-университетскими делами, сколько литературой. В том же письме к отцу он добавляет: Недавно посетил “вечер Северной Свирели” и видел всех: Ф. Сологуба, Городецкого и других из зверинца ‹...› В одном из следующих писем Хлебников сообщает матери: На днях опять будут хлопоты по литературным делам. Веду жизнь “богемы” (письмо от 28 ноября 1908 г.).
Хлебников порывает с занятиями биологией и естественными науками ради литературы, увлечение которой встречало в семье недоверчнвое отношение отца, желавшего видеть сына естественником. На следующий учебный год Хлебников подаёт в университет заявление о переводе его на факультет восточных языков в разряд санскритской словесности (заявление от 17 сентября 1909 г.), а затем с переводе на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, на первый курс которого он и был переведён 15 октября 1909 года.
Самим Хлебниковым этот первый период жизни о Петербурге характеризовался как усталость, беспечность, бесшабашность (письмо родным от 30 декабря 1909 г.). Увлечение литературой заслонило университет, который Хлебников посещает, по-видимому, весьма неаккуратно, и уже в следующем, 1910 году пишет отцу о том, что он намерен выйти из университета. Однако из университета Хлебников был исключён только 1 июня 1911 года как не внесший плату за осень 1910 года.
Литературный круг, который первоначально привлекал к себе Хлебникова в Петербурге, был в первую очередь круг символистов и акмеистов. В письмах его 1908 — 1910 годов упоминаются Сологуб, Городецкий, Вяч. Иванов, Кузмин. Хлебников постоянно сообщает родным о своих литературных планах и встречах, в частности упоминая о возобновлении знакомства с Вяч. Ивановым, являвшимся, по-видимому, его первоначальным литературным ментором. Я виделся с В. Ивановым. Он весьма сочувственно отнёсся к моим начинаниям, — сообщает он отцу в письме от 31 мая 1909 года. По свидетельству Б. Лившица, „Вяч. Иванов, напр., высоко ценил творчество Хлебникова, и нелюдимый Велемир навещал его ещё в башне на Таврической”.
В письме к матери от 8 июня 1909 года Хлебников сообщает о том, что Осенью в Петербурге возникнет кружок, в котором будут читаться мои вещи. “Кружок”, о котором шкал Хлебников, — объединение символистов и акмеистов, которое с осени 1909 года сорганизовалось в «Академию стиха» при журнале «Аполлон». О нём Хлебников пишет как о литературной группе, ему в этот период наиболее близкой: Я познакомился почти со всеми молодыми литераторами Петербурга — Гумилёв, Ауслендер, Кузмин, Гофман, гр. Толстой и др. Моё стихотворение, вероятно, будет помещено в «Аполлоне», новом петербургском журнале, выходящем в Питере. Дела с университетом меня сильно утомляют и беспокоят, отнимают много времени. Я подмастерье и мой учитель — Кузмин (автор «Александра Македонского» и др.).
К периоду “ученичества” у символистов и акмеистов относится стихотворение «Вам», обращенное к Кузмину. Однако надежды Хлебникова на напечатание его “стихотворения в прозе” (м.б. «Зверинца» или «Юноша — я мир») не оправдались. Творчество Хлебникова, при известной близости некоторых его элементов к символизму, было в основном настолько далеко от тех литературных принципов, которыми руководились «Аполлон» и «Академия стиха», что вещам Хлебникова не было суждено появиться на страницах журнала.
По-видимому, это обстоятельство в значительной степени способствовало отдалению Хлебникова от круга символистов и акмеистов. Хотя он ещё и в начале 1910 года сообщает мельком о своих встречах с Ремизовым, об ожидании знакомства с Брюсовым и продолжает бывать в «Академии стиха» (письмо к Е.Н. Хлебниковой от 1 февраля 1910 г.), но в отношениях его с этим кругом уже намечается разрыв. В одном из следующих писем он упоминает о том, что в «Академии стиха» две недели не был. На причины этого охлаждения и последующего разрыва Хлебникова с господствовавшей тогда литературой указывал и Д. Бурлюк в своём предисловии к «Творениям» Хлебникова (М., 1911), говоря: „Гений Хлебников читал свои стихи в 1906–7–8 году в Петербурге Кузмину, Городецкому, В. Иванову и другим, но никто из этих литераторов не шевельнул пальцем, чтобы отпечатать хотя бы одну строку этих откровений слова”.
Связь Хлебникова с символистами и акмеистами не исчерпывается его кратковременным пребыванием в «Академии стиха», его знакомством с Вяч. Ивановым и М. Кузминым. Она гораздо глубже. Самое представление о роли поэта как поэта-теурга, постигающего “тайны” мира и проповедующего людям это новое знание, вера в магическое могущество слова, наряду с символикой замысла ряда таких вещей, как, например, «Маркиза Дезес», сближают Хлебникова с символистами. В частности, у Хлебникова можно найти известную близость с Блоком, Белым, Вяч. Ивановым. Языковые теории А. Белого (в особенности его «Глоссолалия», 1922 г.), учение об эмоциональной природе звука у Бальмонта («Поэзия как волшебство», 1914 г.) несомненно шли в том же направлении, что и теории Хлебникова. В особенности эта связь с символизмом ощутима в ранних стихах Хлебникова, в которых он ещё пробует разные стиховые принципы, испытывая известное воздействие то мелодической плавности бальмонтовского стиха («Нега-неголь»), то древнерусской стилизации Городецкого и Ремизова («Девий бог», «Боевая») и даже кратковременного влияния Кузмина («Вам», «Алферово»). Но в отличие от мистического идеализма символистов Хлебников рационалистичен, и сквозь идеалистическую концепцию действительности у него сквозит материальная плоть вещей, чувственная данность образа.
К этому времени относится сближение Хлебникова с будущими футуристами и участие в 1-м сборнике «Садок судей». Знакомство Хлебникова с будущими футуристами, в частности с Василием Каменским, начинается ещё в 1908–9 году. Здесь необходимо иметь в виду, что до появления первого «Садка судей» (а в значительной мере и до 1911–1912 гг.) “футуристы” ещё не выделялись из общего числе молодых, начинающих писателей.
Знакомство Хлебникова с Каменским, положившее в известной мере начало возникновению футуризма, произошло в 1908 году в редакции иллюстрированного еженедельника «Весна», издававшегося Н.Н. Шебуевым. «Весна» являлась довольно пёстрым и не оформившим своего направления журналом, печатавшим наряду с рыночной, второсортной литературой и произведения молодых, начинающих писателей. Хлебников передал для напечатания в журнале своё “стихотворение в прозе” «Искушение грешника», понравившееся Каменскому благодаря новизне словообразований и, по его настоянию, принятое Шебуевым.
С напечатанием в журнале «Весна» в 1908 году этого “стихотворения в прозе”, собственно, и начинается литературная деятельность Хлебникова. Однако настоящим литературным крещением его было опубликование «Смехачей» в «Студии импрессионистов» и «Зверинца» в первом «Садке судей» в начале 1910 года, доставившее Хлебникову сравнительно широкую известность.
В дальнейшем Каменский познакомил Хлебникова с Бурлюками, Е.Г. Гуро и М.В. Матюшиным. Д.Д. Бурлюк, вспоминая об этом времени, сообщает, что
В то время будущие футуристы не только не представляли сколько-нибудь сплочённой группы, но и для них самих была неясна их литературная позиция, не говоря уже об их идеологических установках. Но, несмотря на всю идейную сумбурность и противоречивость, будущие футуристы ужо и тогда чувствовали себя революционнее и “демократичнее” господствующего буржуазного искусства в лице символистов и акмеистов в поэзии или “мирискусников” в живописи. Не случайно за плечами Маяковского, Каменского и даже Хлебникова ко времени их прихода в литературу была тюрьма, было участие в революционном движении. Это полуанархическое, во многом наивное и неосознанное, но демократическое и по существу бунтарское настроение тех лет передаёт в своих воспоминаниях В. Каменский: „Мы — истые демократы, загорелые, взлохмаченные (тогда я ходил в сапогах и в красной рубахе без пояса, иногда с сигарой), трепетные, уверенно ждали своего часа”. Это тем более необходимо отметить, что к 1909–1910 годам настроения и взгляды Хлебникова во многом определялись его увлечением “славянскими” националистическими идеями.
Идеализация “старины”, языческой Руси, особенно явственно сказавшаяся в целом ряде произведений Хлебникова. 1908–1913 годов («Девий бог», «Училица», «Дети выдры», «Мы устали звездам рыкать» и мн. др.), в то же время тесно переплетались с его бунтарско-“нигилистическими” настроениями. Этим объясняется не только возможность объединения Хлебникова с остальными участниками футуризма, но и решительное отмежевание его от господствующих литературных группировок. Бунтарский характер футуризма виден не только из собственных заявлений футуристов, но и из отношения к ним представителей господствующей буржуазно-дворянской литературы. Даже в пору завоевания футуристами литературной известности в 1914–1916 годах они не пользовались признанием со стороны буржуазного читателя и критики. Однако футуризм до самой революции оставался замкнутой артистической группой. Наличие в рядах футуристов Маяковского, уже тогда переросшего футуризм и шедшего путём подлинного поэта-революционера, не изменяет общей социальной характеристики футуризма, как мелкобуржуазного художественного направления.
О первой встрече Хлебникова с участниками «Садка судей» (название предложено было Хлебниковым) рассказывает М.В. Матюшин:
Об этом же времени первых встреч рассказывает и В. Каменский:
М.В. Матюшин рассказывает о первых годах пребывания Хлебникова в Петербурге следующее:
Уже с самого начала 1911 года Хлебников упоминает в письмах о своём увлечении числами. Так, в письме от 25 февраля он сообщает брату: Я усердно занимаюсь числами и нашёл довольно много законностей. Я однако собираюсь довести до конца, пока я не отвечу, почему так это всё происходит.
К сентябрю 1911 года относится поездка Хлебникова в Астрахань. Весну 1912 года Хлебников проводил в Чернянке, около Херсона, у Бурлюков. В обстановке этой бурлюковской “вотчины”, «Гилеи», где фактически зародился футуризм, насыщенной степным привольем, атмосферой животного здоровья и сельского изобилия, Хлебников сближается со своими будущими соратниками по футуристическим выступлениям. Там же, в Херсоне, Хлебников издаёт свою первую брошюру с числовыми и языковыми материалами: «Учитель и ученик» (Херсон, 1912).
Зимы 1911–1914 годов Хлебников проводит в Петербурге, вращаясь преимущественно в кругу футуристов. М.В. Матюшин, Д. Бурлюк, Н. Кульбин и в меньшей степени наезжавшие из Москвы Маяковский и Кручёных, а в 1913–1914 годах Пуни, Брик, Лившиц составляют основной круг лиц, с которыми он встречается. Атмосфера богемы, литературных скандалов, вечеров и эстрадных выступлений, которая окружала Хлебникова в 1913–1914 годы, во многом определяла и его образ жизни. В этой обстановке та беспорядочно-безденежная, часто полуголодная жизнь, которую вел Хлебников, не обращала на себя особого внимания. Следует отметить страсть Хлебникова к постоянным переменам места, поездкам, перемене комнат, к путешествиям. В 1910–1915 годах Хлебников ежегодно бывает то в Москве, то в Астрахани, то в Святошине (под Киевом), то в Чернянке у Бурлюков, то в Куоккала, редко засиживаясь в Петербурге более нескольких месяцев, в особенности весною и летом. Настроения и творческие планы Хлебникова этого периода лучше всего передаёт его письмо к В.В. Каменскому из Святошина:
Начало 1914 года было ознаменовано приездом Маринетти, читавшего в конце января в Петербурге лекции об итальянском футуризме.
Приезд Маринетти особенно ясно показал, насколько фактически независим и далёк был русский футуризм от итальянского. Тот империалистический, буржуазный культ техники современного капитализма и войны, та проповедь силы и националистического расизма, которую исповедовал итальянский футуризм, были враждебны русскому футуризму, возникшему из совершенно иных социальных корней.
Итальянский футуризм, выражавший идеологические устремления империалистической буржуазии и переросший впоследствии в фашизм, был враждебен мелкобуржуазному, “нигилистическому” бунтарству русских футуристов. Поэтому лекции Маринетти, на которых он говорил „о здоровом инстинкте народа, рвущегося вперёд наперекор косным силам старины, о достоинстве расы”, не только не вызвали никакого сочувствия у русских футуристов, но и привели к конфликту с ним. Одним из инициаторов выступления против Маринетти в Петербурге был Хлебников, написавший листовку-воззвание.
1914 год для Хлебникова — год внутреннего кризиса, неудовлетворённости собой. В своём дневнике летом 1914 года он отмечает: 14 июня (1914) созерцая себя в стороне. Новости: Хлебников из неумолимого презрения к себе в 101 раз бросил себя на костёр и плакал, стоя в стороне.
Весну и лето 1914 года Хлебников проводят у родных в Астрахани, работая над своими вычислениями. Неудовлетворённость окружающим, нарастание максималистских и бунтарских настроений особенно сильно сказываются в этот период, предшествующий непосредственно мировой войне. О своих настроениях Хлебников писал В.В. Каменскому, призывая его броситься на уструги Разина:
Осенью 1914 года Хлебников возвращается в Петербург, записывая в дневнике 31 августа: Я расстался с домом предков. О жизни Хлебникова в Петербурге зимой 1914/1915 года мы располагаем чрезвычайно скудным материалом, так как письма его за этот период нам неизвестны. Внешнюю сторону быта Хлебникова этого времени описывает Б. Лившиц следующим образом:
Следует упомянуть также о том богемном “приюте”, который с 1913 года находили футуристы в артистическом кабачке «Бродячая собака», где довольно часто бывал и Хлебников. Кроме того одним из центров футуристических собраний зимой 1913/1914 года был “салон” Пуни на Гатчинской, о котором Б. Лившиц рассказывает: „Впрочем, будетляне имели свой собственный “салон”, хотя в применении к ним это слово нельзя употреблять иначе, как в кавычках. Я говорю о квартире четы Пуни, возвратившихся в тринадцатом году из Парижа и перенесших в мансарду на Гатчинской жизнерадостный и вольный дух Монмартра... У Пуни бывали мы все: Хлебников, Маяковский, Бурлюк, Матюшин, Северянин”.
Что же представлял собой русский футуризм, рождение которого в 1910 году ознаменовалось выходом первого «Садка судей»? Какое место занимал в нём Хлебников, и какова роль футуризма в его литературной судьбе, в формировании его взглядов и литературных принципов?
Для выяснения этих вопросов необходимо отказаться от традиционного представления о футуризме как о единой и монолитной школе. Это представление сложилось, главным образом, благодаря тому, что программные выступления футуристов были основаны на противопоставлении “нового искусства” реакционно-буржуазной литературе и, в первую очередь, символизму. Полемичность теоретических позиций определяла и единство “школы”. Положительное содержание футуризма во многом отличалось от декларированной им программы.
Футуризм не был единым ни по своим идеологическим, ни по своим творческим тенденциям. В футуризме объединялись поэты, выражавшие настроения различных слоёв мелкобуржуазной интеллигенции, “утеснённой” капитализмом, которой, по словам Ленина, “всё труднее становится жить в капиталистическом обществе”, но “которая в массе своей смотрит на это общество с точки зрения мелкого производителя”.
Отсюда неприятие капитализма и антикапиталистические настроения у той мелкобуржуазной интеллигенции, которая выступает в качестве идеолога более широких слоёв мелкой буржуазии, её анархо-индивидуалистическое и эстетическое бунтарство, лежавшее в основе теории и практики футуризма. В то же время это “бунтарство”, это неприятие капиталистической действительности большей частью не выходило за пределы эстетического “бунта” и бытового эпатажа. Борьба против буржуазности, протест против капитализма являлся одним из основных моментов, объединявших футуристов.
Это “неприятие” капиталистической действительности по-разному проявлялось у различных представителей футуризма: от индивидуалистического бунтарства Бурлюков, их эстетического и политического “нигилизма”, крестьянофильской “разиновщины” Каменского (и позднее Хлебникова) — до революционного радикализма Маяковского.
Сближение Хлебникова с символистами в 1908–1910 годы объяснялось не только общностью литературных и идеологических принципов, но и недиференцированностью поэтических группировок в эти годы. Ранние стихи Бурлюков и, в особенности, Б. Лившица в сущности не выходили за пределы поэтики символизма и акмеизма. Почти все стихи первого «Садка судей» являлись или сплавом из Блока, Брюсова, Сологуба, или подражанием французскому “декадентству”, poétes maudites: Рембо, Тристану Корбьеру, Морису Роллина и др.
Противопоставляя себя символизму, футуристы первоначально черпали свои теоретические и эстетические положения из самых разнообразных источников.
Зарождение русского футуризма, его литературная программа в значительной мере шли от лозунгов и принципов новой живописи, под общим знаменем “нового искусства”.
Новое движение в живописи возникло почти одновременно с футуризмом в литературе, несколько опередив его. Так, уже в конце 1907 года (с 27 декабря по 15 января 1908 г.) в Москве организуется выставка «Венок», в которой, наряду с эстетствующей “левой” Мира искусств (“голуборозовцами”), приняла участие и группа художников, возглавивших вскоре живописный кубизм и футуризм (Бурлюки, Фон-Визен, Н. Гончарова, М. Ларионов, А. Лентулов), уже тогда ориентировавшихся на Сезанна, Пикассо, Матисса, Ван-Гога и новую французскую живопись. Дальнейшее развитие новой живописи — «Бубновый валет» в Москве (с 1910 г.) и «Союз молодежи» в Петербурге (1913 г.), — хотя и двигалось в разных направлениях, всё же в основном шло под знаком “новаторства”, формальных исканий и антиэстетизма, подготовив этим почву для эстетики футуризма в литературе. Не случайно также и то, что большинство поэтов раннего футуризма пришло к литературе от живописи. Давид и Николай Бурлюки, Маяковский, Кручёных, Каменский были живописцами по профессии (а другие, как Хлебников, хотя и дилетантски, но также работали в области живописи), во многом привнося в поэзию принципы и методы живописи. Помимо ряда формальных приёмов и лозунгов, вроде “сдвига”, “фактуры” и т.п., из живописи пришло и понимание искусства как “формы”, как “конструкции”, как “технологического процесса”.
Именно из живописи пришло отношение к стиху и к слову как к самоцельной и автономной организации материалов. В статье Н. Бурлюка «Кубизм», помещённой в «Пощёчине» (1912), декларировалось: „Вчера мы не имели искусства — сегодня у нас есть искусство. Вчера оно было средством, сегодня оно стало целью. Живопись стала преследовать лишь живописные задачи. Она стала жить для себя. Жирные буржуа оставили художника своим позорным вниманием, и вот этот маг и чародей имеет возможность уйти к заоблачным тайнам своего искусства” (стр. 95). В этой декларации “кубизма” следует подчеркнуть сочетание формалистического отношения к искусству с интуитивизмом, с теорией “свободного” художника, творящего по вдохновению, которое следует отметить и в теоретических высказываниях футуристов по вопросам поэзии.
Не случайно, что Н.И. Кульбин выступил с первой теоретической декларацией “нового искусства” в «Студии импрессионистов» (М., 1910), где напечатаны были стихи Хлебникова и вместе с ними проведения эпигонов символизма. В своей статье Кульбин проповедывал чрезвычайно эклектические и во многом ещё близкие символизму теории. Хотя Н.И. Кульбин не являлся признанным теоретиком футуризма, а скорее его попутчиком, тем не менее многие из его теоретических высказываний были восприняты и футуристами. Особенно существенно отметить основное положение Н.И. Кульбина об “интуитивном начале” искусства.
В своей статье «Свободное искусство как основа жизни» Кульбин последовательно проповедует принципы субъективно-идеалистической эстетики, в духе кантианской и даже шопенгауэровской эстетики. Его основное положение сводится к тому, что: „Искусство — откровение. Для искусства возможно то, что невозможно для науки”. Отсюда у Кульбина утверждение об интуитивном и сенсуалистическом характере творчества: „Кроме своих собственных ощущений я ничего не знает, и, проецируя эти ощущения, оно творит свой мир”. При этом Кульбин ссылается на Канта, называющего „восприятие прекрасного эстетическим, то есть чувственным”.
Эти откровенно идеалистические положения Н.И. Кульбина в известной мере вошли и в эстетику раннего футуризма.
“Интуитивизм” прежде всего лежал в основе теории “заумного языка”, того поэтического принципа, который выдвигался в качестве краеугольного камня футуристической поэтики.
В «Декларации слова как такового» А. Кручёных от имени футуристов в 1913 году писал: „Мысль и речь не успевают за переживаниями вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определённого значения (не застывшим), заумным”. Оставляя здесь в стороне вопрос о лингвистических основах этой теории и её роли о формировании стиля поэзии футуристов, следует указать на это субъективно-интуитивистское начало в эстетике футуризма и в “зауми”.
Лозунг “зауми” и “самовитого” слова являлся одним из наиболее крайних выражений формалистических и субъективно-идеалистических установок в эстетике раннего футуризма, будучи в то же время противопоставлен и реакционно-мистическому смыслу поэзии символистов.
Теоретические принципы и поэтическая практика русского футуризма были в основном независимы от итальянского футуризма. Даже хронологически о первых выступлениях итальянских футуристов стало известно уже после образования группы участников «Садка судей», подготовленного к печати в течение 1909 года. Выражая радикально-демократические тенденции мелкобуржуазной интеллигенции, футуризм неминуемо должен 6ыл вступить в борьбу с дворянско-буржуазной литературой, представленной в поэзии в первую очередь символизмом и акмеизмом. Эта борьба шла по линии противопоставления философско-мистической насыщенности и эстетизации поэзии у символистов — формального новаторства, самоценности чисто речевой конструкции.
Пессимистическому солипсизму, субъективизму и трансцендентному мистицизму символизма футуристы противопоставили активный бунт личности, протест против капиталистической цивилизации, анархо-индивидуалистичеокое неприятие действительности. Эти основные, позиции раннего футуризма были сформулированы впервые в конце 1912 года в известном предисловии к альманаху «Пощёчина общественному вкусу» и в листовке того же названия:
Основной идеологической базой футуристов, стоявшей за всеми этими декларациями, так же как и за “нигилистическим” эпатированием буржуа, характеризовавшим позиции раннего футуризма, являлось анархо-индивидуалистическое бунтарство. Классовые корни этого анархо-нндивидуалистичвского бунтарства восходили как к “утесненному” положению мелкобуржуазной интеллигенции в условиях господства капитализма, так и к отголоскам крестьянской оппозиционности, питавшей творчество отдельных футуристов (напр., Вас. Каменского).
Характеризуя идеологию и классовую позицию анархизма в 1905 году, Ленин писал о нём: „Миросозерцание анархистов есть вывороченное наизнанку буржуазное миросозерцание. Их индивидуалистические теории, их индивидуалистический идеал находятся в прямой противоположности к социализму. Их взгляды выражают не будущее буржуазного строя, идущего к обобществлению труда с неудержимой силой, а настоящее и даже прошлое этого строя, господство слепого случая над разрозненным, одиноким, мелким производителем”.
В борьбе с символизмом и акмеизмом, в борьбе с эстетизмом, отличавшим гедонистическое буржуазное искусство эпохи империализма, футуристы на первый план выдвигали отказ от красивости, своеобразный эстетический нигилизм, следуя в этом отношении также за “левой” живописью. Антиэстетизм футуристов в первую очередь сказался на внешности их изданий, но он входил весьма существенным элементом и в их поэтическую систему. Стихи Кручёных, вроде стихотворения, помещённого на первой странице его литографированной брошюры 1912 года «Утиное гнездышко дурных слов»:
— в сущности и являлись этой „пощёчиной общественному вкусу”, так же как и вся фигура Кручёных, в котором как бы сконцентрировались основные устремления футуристов к эстетическому и анархо-индивидуалистическому бунтарству.
Другим программным требованием футуризма было новаторство формы, постоянно подчёркиваемый отказ от “содержания”: борьба с “идейностью” и “психологией” провозглашалась футуристами как один из основных теоретических принципов. Эстетика футуризма требовала не только “слома”, разрушения уже стабилизовавшихся лирических жанров символизма, но и заново ставила вопрос об отношении к поэтическому слову и искусству вообще. Отсюда выдвигание на первое место “технической” стороны искусства и требование эстетической “затруднённости” («Слово как таковое», Кручёных — Хлебников, 1913).
Естественно, что теоретическими лозунгами и воинственными манифестами никак не покрывалась поэтическая практика футуризма и идеологическая направленность творчества его различных представителей. Однако и в основе поэтической практики футуристов лежало первоначально формалистическое “новаторство” и экспериментаторство, безыдейная “заумность”, программная роль которых усиленно подчёркивалась как самими футуристами, так и критикой. Именно этот примат “формы” над “содержанием” усмотрел В. Брюсов как основное отличие футуризма от других литературных группировок, считая, что „школой, сменяющей символизм, мне и кажется пресловутый футуризм. Его историческая роль, действительно, утвердить абсолютное господство формы... в поэзии и отвергнуть в ней самое содержание”.
А через какой-нибудь год-два после появления первых футуристических деклараций этот принцип “формалистической поэтики”, понимания искусства как формы был возведён в стройную концепцию такими теоретиками футуризма, как В. Шершеневич и В. Шкловский. В. Шершеневич уже в 1914 году в книге «Футуризм без маски» писал, что основным вопросом, выдвинутым футуризмом, был вопрос о “форме” и “содержании”: „В поэзии есть только форма; форма и является содержанием” (стр. 56).
Это понимание искусства как формы, это эстетическое “новаторство” и мелкобуржуазное бунтарство приводили футуристов в 1913–1915 годах к столкновению с господствующей буржуазной литературой, в первую очередь с символизмом, во имя освобождения искусства от мистического и реакционно-идеалистического “содержания”. Наиболее резко эта позиция высказана была в «Открытом письме Н. Бурлюка в «Первом журнале русских футуристов» (1914 г., стр. 98), в котором он защитников идейности в искусстве называл „гонителями истинного искусства”, вынося за одну скобку как критиков “слева” — из марксистского лагеря, так и “справа” — символистов.
Футуризм произвёл решительный пересмотр старых принципов, настоящую “революцию” стиха. Но вместе с тем этот “слом” традиционного стиха совершался в плане самодовлеющего формального эксперимента. Этим объясняется, почему “заготовки” и экспериментальные стихи Хлебникова, в иных случаях простые перечни словообразований (вроде трепетва, зарошь, умнязь и т.д.) оказались подхваченными и использованными как “программные” футуристами. Эти случайные наброски Хлебникова, вне их идеологического осмысления, а как программное “новаторство”, как образцы „самовитого слова”, — явились своего рода знаменем школы. В то же время основные вещи Хлебникова, его пантеистические поэмы, оказались почти незамеченными и неосмысленными в период футуристического Sturm und Drang’a. Этим лозунгом формального “новаторства” объясняется как возможность объединения под знаменем футуризма столь различных поэтов, как Маяковский и Б. Лившиц, так и то, что Хлебников, многими сторонами своего творчества далёкий от основных устремлений футуризма, мог оказаться его родоначальником и даже, в первые годы, главой школы, считавшей его своим вождём.
Если первый «Садок судей», вышедший в 1910 году, прошёл почти незамеченным критикой, то через два года «Пощёчина общественному вкусу» была встречена всеобщим негодованием:
«Пощёчина общественному вкусу» — под этим заглавием выпустили в свет книгу поклонники и последователи Давида Бурлюка. Всё в этой книге, напечатанной на оберточной бумаге, всё сделано шиворот-навыворот, и на первой странице напечатано стихотворение:
Общественный вкус требует смысла в словах. Бей его по морде бессмыслицей! Общественный вкус требует знаков препинания. Надо его, значит, ударить отсутствием знаков препинания. Очень просто. Шиворот-навыворот — вот и всё».
Книжки и в особенности выступления футуристов воспринимались иронически и дружно вышучивались прессой:
Столь же отрицательно встречались и остальные сборники футуристов, сразу же подвергавшиеся вышучиванию.
1913 год оказался годом наибольшей консолидации футуризма, годом выработки общей теоретической и эстетической платформы. 1913 и 1914 годы прошли в борьбе за утверждение футуризма, в ожесточённой полемике с критикой и эпатировании буржуазной публики на футуристических вечерах. Антиэстетическая позиция футуристов, их идейный анархо-демократический “нигилизм”, жёлтая кофта Маяковского, разрисованная физиономия Д. Бурлюка — всё это воспринималось не только как литературный, но и как общественный скандал.
О том, как встречала футуристов аудитория, рассказывает в своих воспоминаниях В. Каменский:
Этот “эстрадный бунт” футуристы принимали всерьёз, искренно считал его революционным, в то время как по существу он не выходил за пределы той бравады, которая характеризовала артистическую и художественную богему в условиях буржуазного общества.
Хотя Хлебникову обычно принадлежала весьма малая доля участия в выступлениях, тем не менее общая боевая атмосфера этих лет и полемическая обстановка, в которой он находился всё это время, оказали значительное влияние на выработку его литературных и общественных взглядов. В. Каменский в своём предисловии к «Творениям» Хлебникова в 1914 году следующим образом определял соотношение раннего футуризма и Хлебникова: „Гений Хлебникова настолько безбрежен в своём разливе словоокеана, что нам, стоящим у берега его творчества, вполне достаточно и тех прибойных волн, которые заставляют нас преклониться перед раскинутым величием словопостижения”. Ранний футуризм использовал преимущественно экспериментаторскую работу Хлебникова над словом, идя в то же время своими собственными путями, во многом отличными от путей Хлебникова.
Реакция, наступившая после разгрома революции 1905 года, вызвала отлив революционных настроений среди интеллигенции, надолго оттолкнула её вправо. Эта атмосфера реакции определила и сдвиг Хлебникова вправо, его кратковременное увлечение панславизмом и обращение к идеалистическим изысканиям законов времени, которые должны были, по его мнению, мирным путём установить “мировую гармонию”.
При всём значении для Хлебникова лозунгов и принципов футуризма следует остановиться и на отличительных моментах, характеризовавших его взгляды и творчество в это время.
Хлебников приходит к футуризму, увлечённый идеями “славянского возрождения” и создания единого пласта азийской культуры, идеями, воскрешавшими давно сданное в архив реакционное славянофильство. Однако в эпоху империализма воскрешение лозунгов славянофильства, в целях подогревания казённого патриотизма, совершалось усиленными темпами, и наивно-романтическое “славянство” Хлебникова являлось одним из отголосков этого насаждения патриотической идеологии.
Увлечение древней “Русью” и славянством относится ещё ко времени пребывания Хлебникова в Казани, уже первые его произведения, в частности пьеса «Снезини» (написанная в 1906–7 гг.), связаны с идеализацией древней Руси. К 1908 году, ко времени переезда в Петербург, относится и то воинственное воззвание к славянам, о котором Хлебников иронически упоминает в автобиографии 1914 года. В этом воззвании Хлебников в шовинистических тонах писал:
Это раннее “славянофильство” подтверждается и упоминанием самого Хлебникова в письме к матери от 28 ноября 1908 года о том, что Петербург действует, как добрый сквозняк, и всё выстуживает. Заморожены и мои славянские чувства. Однако, несмотря на это признание, славянские чувства очень скоро вновь занимают значительное место в произведениях Хлебникова 1909–1913 годов («Училица», «Девий бог», «Внучка Малуши», «Дети выдры» и целый ряд стихотворений). К 1913 году относится и кратковременное сотрудничество Хлебникова в газете «Славянин», где им помещено было несколько лингвистических и критических статей.
Увлечение славянскими чувствами и патриотические настроения Хлебникова тех лет не являлись сколько-нибудь определённой и осознанной политической и идеологической системой. “Славянофильство” Хлебникова являлось прежде всего выражением его антикапиталистической настроенности, реакционной идеализацией “патриархальности”, противопоставленной буржуазно-капиталистическому строю. Будучи по существу выражением тех реакционно-упадочных настроений, которые охватили значительные слои мелкобуржуазной интеллигенции после поражения буржуазной революции 1905 года, “славянофильство” Хлебникова легко смыкалось с официально патриотическим “панславизмом”. Непонимание классовой борьбы и отрицательное отношение к капитализму приводило Хлебникова в эти предвоенные годы к поискам патриархальной идиллии, которую он и видел в своей фантастической языческой “Руси”, в своей поэтической мифологии.
Только “грубое” вмешательство действительности в этот фантастический мир Хлебникова — империалистической войны, уничтожившей патриотические иллюзии о “славянстве”, спасло Хлебникова от шовинистического угара, от присоединения к охранительной реакционной идеологии.
“Славянские” настроения Хлебникова, его увлечение “языческой Русью”, — воскрешение славянской мифологии, обращение к заговорам и заклинаниям, архаические словообразования, — сближают ранние вещи Хлебникова с тем увлечением фольклором и древнерусской литературой, которые в эти годы пропагандировались символистами. Сказки и апокрифы А. Ремизова — «Лимонарь» (СПб., 1908), «Жар-птица», «Зелёный вертоград» К. Бальмонта (СПб., 1909), «Серебряный голубь» А. Белого («Весы», 1909) и, в особенности, «Ярь» (СПб., 1907) С. Городецкого — вот та литературная обстановка, которая несомненно оказала влияние на фольклорно-архаические принципы первых вещей Хлебникова.
Со “славянофильством” и отрицательным отношением Хлебникова к западноевропейской культуре и литературе связана и ориентация его на фольклор, песню, сказку и древнерусскую письменность. «Русский Баян», в первую очередь, «Слово о полку Игореве», которое неоднократно им поминается, и народная песня, высоко ценимая Хлебниковым, противопоставляются им современной литературе.
Разрыв с «Академией стиха» и “башней” Вяч. Иванова, разрыв с символистами и акмеистами определялся, конечно, не только тем, что Хлебников не был в достаточной степени ими оценен и принят в их круг. Причины этого разрыва были гораздо сложнее и коренились в различии мировоззрения, в том бунтарском духе, который нёс с собой Хлебников, враждебном всей эстетизованно-мистической атмосфере символизма.
Для Хлебникова, в свою очередь, были неприемлемы как мистицизм символистов, так и их обращение к европейской, в первую очередь французской литературе. Недаром в своём памфлете — «Петербургский Аполлон» (относящемся к журналу «Аполлон») Хлебников писал о символистах, как о Зевесах, изваянных из помещичьего теста, и протестовал против Верлэна, поданного вместо русского Баяна.
Обращение к языческой Руси («Внучка Малуши», «Девий бог» и др.) являлось у Хлебникова результатом протеста против капиталистической культуры. Поэтому-то даже при изображении сельской природы («В лесу») в его воображении возникают:
“Славянофильские” увлечения Хлебникова однако не были тождественны ни со старым дворянским славянофильством 50–60-х годов, ни с панславистской империалистической пропагандой правительственного лагеря. Те полуфантастические, полупоэтические “теории”, которые высказывались Хлебниковым, больше всего напоминают будущее “скифство” и “евразийство”, позднее, уже в годы революции, столь близкое, например, А. Блоку или А. Белому. Хлебников мечтает о новой “культуре азиатского материка”, 8 письме 1911–1912 года к Вяч. Иванову говоря о грядущем “азийском” “пласте культуры”:
Эта ориентация на “Азию”, на Восток, противопоставление славянства и Востока европейской культуре как культуре капиталистической в то же время приводили к реставрации давно отживших и реакционных теорий.
В период раннего футуризма Хлебников не был одинок в своих призывах к национальной славяно-азийской культуре. Даже ориентировавшийся на практике в значительной мере на современную западную живопись Д. Бурлюк, в своей декларативной брошюре «Галдящие “бенуа” и новое русское национальное искусство» (СПб., 1913), писал, что одним из главных “факторов” “нового искусства” является „наше национальное искусство (вывеска, лубок, икона)”, что „надо верить и в своё искусство и в искусство своей родины”, что „Россия не есть художественная провинция Франции”, что „пришла пора провозгласить художественную национальную независимость!” — тут же приводя стихи Хлебникова:
Этими же “национальными” настроениями и обращением к русскому народному искусству и фольклору отличалось и творчество В. Каменского. Даже его роман «Стенька Разин» (М., 1910), в котором он призывает „богатырский русский народ” к разиновщине, был написан в условном “русском стиле”.
Эта „разиновщина”, в которой сочетались призыв к крестьянскому восстанию с любованием “русской самобытностью”, наиболее отчётливо проявилась в творчестве В. Каменского, но имеет большое значение и для понимания позиции Хлебникова. Не говоря уже о взглядах и настроениях Хлебникова после революции, когда Разин становится для него символом понимания революции, элементы этой „разиновщины” были уже и у дореволюционного Хлебникова. Только учитывая их, можно понять тот перелом, который наступает в Хлебникове во время войны и революции.
Элементы „разиновщины” и индивидуалистического бунтарства сближали Хлебникова с остальными футуристами и высказывались им ещё в то время, когда он был увлечён “славянскими” идеями. Пытаясь вырваться за пределы ненавистного ему буржуазного мира, Хлебников приходил к утопическому мелкобуржуазному бунтарству. В письме к В. Каменскому (относящемся, вероятнее всего, к весне 1914 года) Хлебников спрашивает: Вообще не пора ли броситься на уструги Разина? Всё готово. Мы образуем Правительство Председателей Земного Шара. Здесь следует вспомнить, что в условиях царизма самая идея правительства председателей земного шара, при всей своей наивной безобидности и фантастичности, была своеобразным протестом против господствующего строя.
Эти бунтарские настроения полнее всего отразились в футуристических “манифестах” — «Пощёчине», «Садке судей», «Рыкающем Парнасе», составлявшихся при ближайшем участии Хлебникова. Но в то же время те декларации и статьи, которые были написаны самим Хлебниковым в период становления футуризма, значительно отличаются от общефутуристических деклараций.
Темы разиновщины и пугачёвщины мелькают уже и в дереволюциоином творчестве Хлебникова. ещё в 1913 году в «Хаджи-Тархане» он писал:
Однако в то же время Хлебников под впечатлением разгрома революции 1905 года разделяет упадочные настроения эпохи реакции:
Бездны взор и лик тенет самодержавия казались Хлебникову в предвоенные годы несокрушимым препятствием для революции; самая же революция, — к свободе сладостной зовёл, — представлялась ему как народное восстание.
В условиях наступившей после революции 1905 года реакции и разочарования значительных слоёв мелкобуржуазной интеллигенции в революционном движении вырастали утопические планы и проекты Хлебникова. В своём протесте против окружающей его действительности, против ненавистного ему буржуазного быта Хлебников становится на путь прожектерства, предлагая фантастические реформы вроде следующих: Совершать обмен видами труда посредством обмена ударов сердца или строить дома в виде железных решёток, куда бы могли вставляться подвижные стеклянные домики, — в которых с особенной наглядностью раскрывается мелкобуржуазное бунтарство Хлебникова, его судорожные попытки найти выход из плена буржуазного общества.
Для бунтарских настроений Хлебникова, для понимания его мировоззрения особенно интересна самохарактеристика, которую даёт Хлебников в письме к В. Каменскому в 1913–1914 году: А вообще — мы — ребята добродушные: вероисповеданье для нас не больше чем воротнички (отложные, прямые, остро загнутые, косые). Или с рогами или без рог родился зверёныш: с рогами козлёнок, без рог телёнок, а всё годится — пущай себе живет (не замай). Сословия мы признаём только два — сословие “мы” и наши проклятые враги ‹...› Мы — новый род люд-лучей. Пришли озарить вселенную. Мы непобедимы. Здесь нет сколько-нибудь осознанной политической программы сколько-нибудь отчётливой оппозиции существующему строю. Весьма умеренное мелкобуржуазное бунтарство Хлебникова легко сочеталось поэтому с реакционно-шовинистическими настроениями. Протестуя против ущемлённости и неполноценности личности в капиталистическом обществе, Хлебников видит выход в возвращении к природе, к патриархальному примитивизму, избавляющему, по его мнению, от противоречий и “бездушной” механизации капиталистической культуры.
Хлебников противопоставляет сложности современной культуры примитивизм первобытного мышления, антропоморфизм, наивную свежесть мировосприятия ребёнка или дикаря.
“Инфантилизм” Хлебникова создавал новый угол зрения, то новое отношение к вещам, которое смущало своей наивностью и неожиданностью и вместе с тем противостояло упадочному мистицизму символистов. Этот “инфантилизм” мировосприятия и поэтического образа у Хлебникова подчёркивает в своей статье о нём Ю.Н. Тынянов: „Детская призма, инфантилизм поэтического слова сказывались в его поэзии не “психологией”, — это было в самых элементах, в самых небольших фразовых и словесных отрезках. Ребёнок и дикарь были новым поэтическим лицом, вдруг смешавшим твёрдые “нормы” метра и слова”. За этим поэтическим „дикарством” и „инфантилизмом” Хлебникова стояло наивно-утопическое представление об утраченной в капиталистическом строе патриархальной гармонии, о том “естественном” бытии, в глазах мелкого буржуа являвшемся своего рода предустановленной гармонией Лейбница, которую мелкобуржуазные утописты часто искали в докапиталистических формациях.
Антикапиталистические настроения Хлебникова, в особенности отрицание городской культуры, составляют основной мотив целого ряда его ранних произведений.
Отрицание капиталистической цивилизации в более обобщённой форме дано Хлебниковым в его поэме «Журавль», помещённой в первом «Садке судей» (1910). «Журавль» — это миф о современной культуре, о “восстании вещей” против человека. “Механическая культура” капиталистической цивилизации угрожает, по мнению Хлебникова, властью вещей над человеком:
Человек стал беззащитен от механической культуры, которую он сам создал, стал “пленником вещей”:
Протест против “цивилизации”, страх перед темпами развития капитализма, перед “машинизацией” культуры нашли самое широкое выражение в творчестве многих мелкобуржуазных писателей начала XX века. Антикапиталистический пафос свойственен и остальным футуристам, в том числе и раннему Маяковскому. Но у Маяковского нет противопоставления „адищу города” — пантеистической идиллии и патриархальной гармонии, которое есть у Хлебникова и Василия Каменского, так как Маяковский смотрит вперёд, обращаясь к революции, а не назад в прошлое.
У Хлебникова же из его страха перед капиталистической культурой, из её отрицания вырастает идиллия, стремление к реставрации утерянной патриархальной гармонии. Говоря о городе, Хлебников сожалеет о том, что:
Из этого противопоставления патриархальной гармонии капитализму с его “механической культурой” рождается тот радостный пантеизм, который наполняет широким дыханием эпические произведения Хлебникова. Пантеистическая идиллия дана Хлебниковым в первую очередь в таких поэмах, как «Лесная дева», «Шаман и Венера» и, в особенности, «Вила и леший». Мир природы для Хлебникова — мир, полный первобытной простоты:
Конечно, было бы слишком наивно думать, что эти вилы, лешие, Перун и весь остальной фантастический ассортимент славянской мифологии являются каким-то подлинным запоздалым “антропоморфизмом” в мировосприятии Хлебникова. Точно так же они далеки и от условно-мистической символики романтизма по своему “языческому”, стихийно-физиологическому восприятию природы, которое противопоставлено мистической философии символистов. Уже самая ироничность, “бурлескность” ранних поэм Хлебникова свидетельствует об этом.
Идеализация патриархальных докапиталистических отношений и противопоставление их городской, капиталистической культуре, тема отрыва человека от природы, пантеистическое утверждение мира — вот лейтмотив большинства произведений Хлебникова этого периода. Такова, например, «Повесть каменного века» — «И и Э» с её наивно-сентиментальной моралью о любящих сердцах:
Это наивное восприятие окружающего мира и современности ощущением человека докапиталистической фармации — вот ключ к той “свежести” мировосприятия, которая отличает творчество Хлебникова, но в то же время этот поэтический инфантилизм являлся результатом социальной беспомощности, выпадения Хлебникова из современности.
Своим “приятием” и утверждением мира, своим пантеизмом Хлебников разрывал замкнутый круг субъективно-мистической лирики символистов, обращаясь непосредственно к народному эпосу и фольклору. Народные песни, «Гайавата», «Калевала», эпос Востока, «Руслан и Людмила» — вот истоки и литературные традиции для основного русла поэзии Хлебникова в первый период его творчества. Выход в эпос, обращение к принципам народной эпической поэзии и фольклору сказались и в том “мифотворчество”, в том воскрешении мифологических образов и сюжетов, которые характеризуют творчество Хлебникова. При приходе к современным темам Хлебников также пользуется этим “мифотворчеством”. «Внучка Малуши». «Журавль», «Чортик», «Маркиза Дезес» основаны на перенесении принципов фольклора и мифотворчества на современную тематику.
Отсюда “превращения”, сказочная немотивированность сюжетных ситуаций в поэмах и пьесах Хлебникова («Чортик», «Маркиза Дезес», «Шаман и Венера»), отсюда и принцип построения самого образа. Образы Хлебникова “мифологичны”. Хотя они далеки от реалистического осознания и изображения действительности, но в то же время они чужды и многозначности и импрессионистической “зыбкости” обращения со словом у символистов и наделены той предметностью, которая заставляет вспоминать о конкретности классического стиха.
Далеко не случайно, что уже в то время особенно высоко ценил Хлебников великого поэта американской демократии Уота Уитмана, с которым был знаком как по переводам, так и в оригинале. Уот Уитман, которого он называл „космическим психоприёмником”, близок был Хлебникову своим пантеистическим слиянием с природой, своим бунтарским утопизмом.
Помимо Уитмана следует назвать Пушкина, оказавшего на Хлебникова особенно большое влияние. В ранний период Хлебников любил читать Алексея Толстого, а из символистов Блока и Белого.
К наиболее ранним вещам Хлебникова принадлежат стихи и стихотворения в прозе, основанные на словообразованиях из “славянских” корней. Таковы, например, «Песнь Мирязя» (1907 г.), «Искушение грешника» (напечатанное в 1908 г.) и ряд мелких стихотворений вроде «Любавица» или «Нега-ноголь» (1907 г.), где древнерусское “корнесловие” ещё сочетается с бальмонтовской мелодичностью стиха:
К 1906 тоду относится пьеса «Снезини» — рождественская сказка, представляющая, по-видимому, одно из наиболее ранних произведений Хлебникова. Эта сказочная идиллия, напоминающая «Снегурочку» Островского, предваряет такие вещи Хлебникова, как «Девий баг», «Училица», «Вила и леший».
Ранние стиховые опыты Хлебникова кажутся то языческими заклинаниями, то как бы записью впечатлений от природы в “первобытном”, нерасчленённом, полумагическом сознании:
Из этого примитивизма, из поэтизации языческой Руси возникает и обращение Хлебникова к “древнерусским” неологизмам (видязь, людошь, русалия и т.д.), составляющим языковую основу его ранних вещей.
Архаизм стиля Хлебникова первого периода творчества, вытекавший из его “славянских” воззрений, оказался как в его языковых теориях, так и в его поэтической практике. В черновом наброске манифеста в 1914 году Хлебников писал:
Из таких архаистических новообразований состояли многие вещи Хлебникова, в частности его поэма «Войне — смерть»:
Этот “архаизм” языковых теорий Хлебникова, его отказ от языковой культуры XIX века, стремление вскрыть “разум” древнего языка — перекликаются с теми фантастическими попытками построения единого языка посредством возведения всех языков к древнеславянскому, которые связаны были с националистическим псевдонаучным языковедением. В первую очередь здесь следует указать книги П. Лукашевича («Чаромутие», 1846), Мартынова, М. Красуского («Древность малороссийского языка», Одесса, 1880) и др.
Но несмотря на многочисленные чисто языковые эксперименты, перевертни и заумь, Хлебников в своих больших вещах этого периода, и своих поэмах и пантеистических идиллиях, не только не разрывает с классическим стихом, но весьма охотно и часто им пользуется. В таких произведениях, как «Вила и леший» или «Хаджи-Тархан», Хлебников достигает большой простоты и точности слова. Эта “пушкинская” ясность и лёгкость стиха, предметность слова идёт даже в разрез с теоретическими установками Хлебникова и его экспериментальными вещами. Мы можем довольно часто встретить у него реминисценции классического “пушкинского” стиха:
Хлебников воскрешает бурлескную описательную поэму конца XVIII и начала XIX века. Такие поэмы Хлебникова, как «Шаман и Венера», «Вила и леший», «Игра в аду», перекликаются с «Елисеем» Василия Майкова и «Русланом и Людмилою» своей “бурлескностью”, почти пародийной иронической архаичностью. Отсюда и эти умышленно иронические “разговорные” сдвиги архаически-традиционной лексики и интонации, взрывающие литературность и “высокость” стиля:
Субъективно-идеалистическая основа мировоззрения символистов, основанная на противопоставлении “я” и “не-я”, тот пессимистический солипсизм, который отчётливее всего выразился в творчестве Сологуба и П. Гиппиус, ограничили символизм пределами лирики. Обращение Хлебникова к поэме, стиховой драме, слом “интимной” лирики свидетельствовали о преодолении субъективизма лирики символистов.
В своём восприятии природы Хлебников не противопоставляет природе лирического субъекта своё “поэтическое я”, не проецирует на природу своих переживаний и ощущений, чем характеризуется восприятие природы у символистов и вообще поэтов XIX века. Мир природы показывается Хлебниковым похожим на тот, который даётся в народной поэзии, в мифах и сказках. Но при всей идеалистичности мифологизма Хлебникова его наивно-“антропоморфическое” восприятие природы, его “язычество” имеют в своей основе не мистическую натурфилософию символистов, а элементы стихийного пантеизма, здорового оптимистического утверждения жизни, объясняющие известную “реалистичность” его стихов и поэм о природе.
Весна и лето 1914 года были проведены Хлебниковым в Астрахани, у родных, где и застало его начало империалистической войны. Уже с самого начала войны Хлебников был далёк от своих прежних патриотических настроений (1908–1913 годов), воспринимая войну с позиций её пацифистского “неприятия”. В продолжение войны это настроение у Хлебникова всё более усиливалось, приведя его в конечном итоге к призывам против войны.
Лето 1915 года снова застает Хлебникова на Волге у родных, откуда он в июне переезжает в Москву, по дороге сообщая Матюшину из Царицына: Я в Царицыне; через два дня буду в Москве, с небольшими средствами ‹...› Не заедете ли вы случайно туда? Пока мой адрес: до востребования, больше ничего. Бурлюков и К° увижу. Асеева адрес утерян. Хорошо, если бы он сейчас приехал в Москву и стал издавать. Буду сотрудничать.
По приезде в Москву Хлебников проводит июнь на даче в Пушкине, встречаясь с переехавшим по соседству Д. Бурлюком, который в своих воспоминаниях указывает, что „в 1914–15 гг. мы жили всей семьёй в Михалеве, около Пушкино, в 35 в. от Москвы. Хлебников приезжал сюда к нам и много писал. Он был занят разбором, вычислением кривой в дневниках М. Башкирцевой и в жизни А.С. Пушкина”.
К августу 1915 года Хлебников перебирается в Петербург, а оттуда в Куоккала, где встречается с В.В. Маяковским. Н.И. Кульбиным, М.В. Матюшиным, Л. Андреевым, Н. Евреиновым, К.И. Чуковским, И. Репиным, И. Пуни. О своей жизни в Куокккала Хлебников подробно сообщает в письме к родным от 21 августа 1915 года:
В своих дневниковых записях осени 1915 года Хлебников постоянно упоминает о встречах с этим литературным и художественным кругом, в частности о ссоре с Репиным: Ссора с Репиным из-за Лукомского (угол, ломанье). „Я не могу больше оставаться в обществе людей прошлого и должен уйти”. Репин: „Пожалуйста, мы за вами не пойдем”.
Любопытная запись о Хлебникове этого периода сохранилась в дневнике Б. Лазаревского, бульварно-реакционного беллетриста (ныне белоэмигранта), с которым Хлебников встречался летом 1915 года в Куоккала. В записи от 25 августа 1915 года Б. Лазаревский чрезвычайно откровенно сообщает:
Однако именно то обстоятельство, что Хлебников „опустился в ряды войск”, сделало его окончательно врагом царизма и подготовило переход на сторону революции.
С октября 1915 года Хлебников в Петербурге. К этому времени относится его участие в антивоенном альманахе футуристов «Взял» к сближение с кругом Брика и Маяковского.
В своих воспоминаниях Л.Ю. Брик подробно описывает жизнь Хлебникова этого периода:
В апреле 1916 года Хлебников призывается на военную службу — рядовым 93-го запасного полка в Царицыне. С самого начала солдатчина оказывается для наго непосильной, и военная служба становится источником непрерывных мучений.
Уже в одном из первых писем к родным периода солдатчины Хлебников сообщает:
Хлебников переводится в “чесоточную команду” и хотя избавляется от военной муштры, особенно тяжело им переживаемой, но это не освобождает его от гнетущей атмосферы царской казармы. Д. Петровский, приехавший в Царицын навестить Хлебникова, следующим образом передаёт своё впечатление о нём:
В Царицыне Петровским и Татлиным при участии Хлебникова было устроено совместное выступление, на котором прочтен был антивоенный доклад «Чугунные крылья», написанный Хлебниковым.
Для Хлебникова, для его иллюзорного представления о действительности, война и казарма оказались той жизненной школой, тем испытанием, которое коренным образом изменило его взгляды. Об этом переломе, о крушении прежних ценностей Хлебников писал Н.И. Кульбину в июне 1910 года, прося его помочь освобождению от военной службы:
Война привела к крушению мелкобуржуазного гуманизма, которое трагически переживалось не только одним Хлебниковым, но и целым рядом представителей мелкобуржуазной интеллигенции. Благодаря помощи Н.И. Кульбина, приват-доцента Военно-медицинской академии, приславшего Хлебникову письмо, в котором он засвидетельствовал „чрезвычайную неустойчивость нервной системы” и „состояние психики, которое никоим образом не признаётся врачами нормальным” (письмо H.И. Кульбина от июня-июля 1916 г.) — Хлебников посылается на испытание в астраханскую больницу. В Астрахани он смог прожить некоторое время у родных во время назначений на комиссии. Так, в письме к М.В. Матюшину 30 сентября 1916 года он сообщал из Астрахани: Я ещё на свободе пока. Дальше не знаю.
За время пребывания в Астрахани Хлебников подготовил к печати и послал к Г.Н. Петникову в Харьков ряд статей и стихотворений, напечатанных позже во «Временнике» 1-м (Харьков, 1916) и «Северном изборнике» (М., 1918). Несмотря на испытания в больнице, Хлебникова, продержав 3 недели среди сумасшедших (см. его письмо к Г.Н. Петникову от ноября 1916 г.), отправили в ноябре 1916 года в лагерь иод Саратов рядовым в 90-й пехотный полк. В письме к Петникову от 22 декабря 1916 года он сообщает: Я — рядовой 90 зап. пех. полка 7 роты 1 взвода. Живу в двух верстах от Саратова за кладбищем, в мрачной обстановке лагеря. Только после февральского переворота освободился Хлебников из “учебной команды” саратовского лагеря. Получив в мае 1917 года пятимесячный отпуск, он едет в Петербург, но и тут его задерживают по дороге, в Твери, как дезертира.
Империалистическая война произвела значительный перелом в мировоззрении Хлебникова. Личный опыт Хлебникова, его пребывание в казарме, мучительно им переживавшаяся солдатчина завершили этот перелом. Однако объяснять его лишь биографическими причинами недостаточно. Необходимо учесть, что предпосылки к этому перелому имелись как в бунтарских настроениях, встречавшихся у Хлебникова раньше, так и в том идеологическом сдвиге, который произвела война в сознании мелкобуржуазных слоёв.
Империалистическая война 1914 года оказалась пробным камнем для определения классовой позиции самых разнообразных социальных групп. Во время этой войны “русский либерализм”, по словам Ленина, „выродился в национал-либерализм и состязался в “патриотизме” с чёрной сотней”. Буржуазные и мелкобуржуазные писатели выступали с шовинистическими и патриотическими стихами, статьями, рассказами. Символисты и акмеисты (за исключением Белого и Блока) прославляли и воспевали войну и империалистическую политику царизма. Даже такой, казалось бы, далёкий от гражданских тем поэт, как Ф. Сологуб, делается одним из наиболее шовинистически настроенных пропагандистов войны.
На фоне этих шовинистических и ура-патриотических настроений буржуазной литературы особенно резко прозвучали антивоенные стихи Маяковского и Хлебникова. Ведь за исключением подспудной нарождавшейся пролетарской литературы и мощного голоса Максима Горького — других голосов протеста против войны в художественной литературе не раздавалось.
Хотя антивоенные стихи и поэмы Хлебникова не были идеологически отчётливыми, выражая прежде всего страх перед ужасами войны, растерянность и беспомощный гуманистический протест, но даже сквозь этот пацифистский гуманизм в них прорывался уже призыв к войне против войны.
В 1915–1916 годы война становится основной и центральной темой творчества Хлебникова. Хлебников ещё до солдатчины воспринимает войну как враждебное для человечества начало, стоя на позициях гуманистического пацифизма. Наиболее полное выражение эти антивоенные настроения получили в поэме «Война в мышеловке», составившейся из отдельных стихотворений, написанных в 1915–1916 годах:
Этот пацифизм Хлебникова перекликается с антивоенными стихами Маяковского военных лет, противостоя патриотическому и шовинистическому угару. Однако Хлебников выходит в отдельных случаях за пределы своего гуманистического пацифизма и призывает к борьбе с войною, хотя призыв этот им не осознан и столь же неконкретен, как и все остальные политические высказывания Хлебникова:
Поэма «Невольничий берег» (1916 г.) представляет уже значительный шаг вперёд по сравнению с «Войной в мышеловке». В ней нет того пацифистского отношения к войне, которое характеризует позицию Хлебникова в других антивоенных вещах. Чрезвычайно показательно, что в этой поэме изменён и творческий метод Хлебникова в сторону приближения в реалистическому изображению действительности, предвещая уже его более поздние вещи 1921 года. Хлебников здесь начинает понимать классовую механику империалистического государства, посылающего солдат воевать, как стадо волов, под благословением религии:
Он понимает, что:
В «Невольничьем береге» Хлебников приходит к утверждению крестьянского восстания как единственного выхода из соломорезки войны. Эта поэма подвела итог всем смутным, бунтарским настроениям Хлебникова, той „разиновщине”, которая сквозила в целом ряде его дореволюционных произведений и высказываний и, в особенности, усилилась в период империалистической войны, выражая отрицательное отношение к ней широких народных масс. В своём резко отрицательном отношении к войне Хлебников сближается с Маяковским, выражая тот же протест против чудовищной империалистической бойни, что и Маяковский в «Войне и мире». Недаром «Невольничий берег» во многом перекликается с такими антивоенными стихами Маяковского, как:
Эта близость антивоенных стихов Хлебникова и Маяковского не ограничивается тематической общностью. «Война в мышеловке» и «Невольничий берег» Хлебникова — и «Война и мир» Маяковского близки и в самой манере стиха, в своём гиперболическом патетизме и контрастирующем с ним разговорно-сниженном словаре и интонации. Скорее всего здесь можно говорить о взаимном влиянии Хлебникова и Маяковского друг на друга, возникшем в результате некоторого сближения их идейных позиций.
«Невольничий берег» Хлебникова и «Война и мир» Маяковского остаются наиболее значительными поэтическими произведениями, направленными против империалистической войны. Однако Хлебникову всё же не удалось подняться до отчётливой антиимпериалистической позиции Маяковского.
Протест против войны сливается у Хлебникова с мечтами о «Лебедии будущего», об утопическом государство поэтов и учёных — председателей земного шара, которое должно осуществить мировую гармонию. Из этого мелкобуржуазного утопизма вырастает и «Труба марсиан», декларация, направленная против капиталистического строя, написанная Хлебниковым осенью 1916 года. Это воззвание (подписанное, кроме Хлебникова, поэтами Н. Асеевым, Г. Петниковым, Божидаром, а также художницей Марией Синяковой) является документом, наиболее последовательно вскрывающим настроения политически неориентированной, мелкобуржуазной, в первую очередь “артистической”, интеллигенции, наивно, по глубоко-искренно протестующей против войны и капитализма.
«Труба марсиан» возвращает нас к социальным утопиям начала прошлого века, с их стремлением преодолеть социальные противоречия мирным путём, с призывом к “мировой гармонии”, осуществленной в стране, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черёмуха и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается со своим завтра ‹...›
«Труба марсиан» свидетельствовала о том, что волны широкого недовольства, ожидание нараставшей революции доходили и до той изолированной, замкнувшейся в своём мире искусства артистической интеллигенции, которую также революционизировала империалистическая война, но её “бунтарство” сплошь и рядом облекалось в такие отсталые, наивно утопические формы, что по сравнению с подлинно революционной марксистской теорией они казались детским лепетом. Путь футуристов, при всех их бунтарско-индивидуалистических метаниях, был путём к революции, путём выхода из той изолированной “надклассовой” вышки “свободного искусства”, которое первоначально отстаивалось ими. Недаром «Трубу марсиан» Хлебников направляет против приобретателей, которые памятниками и хвалебными статьями стараются освятить радость совершённой кражи и умерить урчание совести.
При наступлении Октябрьской революции перед Хлебниковым, как и перед остальными футуристами, не стоял вопрос об её “приятии”. В обстановке саботажа значительной части интеллигенции футуристы пришли в лагерь пролетариата с самого начала и активно работали в Росте и Политпросвете. Правда, то понимание революционного искусства, которое выдвигали футуристы, имело ещё формально-экспериментаторский характер, сложившись в условиях эстетического “бунта”. Наряду с непреодоленными в первые годы революции тенденциями “новаторского” экспериментаторства и формализма, проповедываемых «Газетой футуристов», «Искусством коммуны» и в устных выступлениях, — в самой идеологии бывших футуристов ещё явственно видны были “родимые пятна” мелкобуржуазного, индивидуалистического мировоззрения.
Бунтарски-утопические лозунги «Трубы марсиан» прочно вошли в сознание деятелей нового искусства. Под лозунгом “изобретательства” и борьбы со старым “приобретательским” обществам и искусством проходили диспуты, декларации и творческая практика левого искусства в первые годы революции.
В. Каменский приводит в своих воспоминаниях те фантастические планы и проекты, с которыми художники и поэты выступали в первое время после революции:
Именно в этой обстановке поисков “нового искусства”, в обстановке тех часто фантастических планов и проектов, которые выдвигались левыми художниками и поэтами в первые годы революции, следует учитывать и многие идеи и предложения, которые высказывал Хлебников со свойственной ему наивностью.
Хлебников в революции видел не только освобождение от тяготивших его уз государства, но и возможность для осуществления тех утопических планов и идей, которые созревали у него в период империалистической войны. Поэтому сразу же после февральской революции Хлебников выступает с воззванием председателей земного шара, написанным в апреле 1917 года в Харькове и являющимся своего рода декларацией мелкобуржуазной художественной интеллигенции, утверждавшей отрицание государства и индивидуалистическую свободу:
В то же время Хлебников обращается к товарищам рабочим с извинением, считая, что застрельщиками той утопической революции, которая должна создать государство времени, являются представители художественной и научной интеллигенции:
Беспочвенное индивидуалистическое бунтарство, блуждания вокруг революции и неосознанность своей идеологической позиции характеризовали настроения широких кругов мелкобуржуазной интеллигенции, в особенности в период после февральского переворота. На фоне этого смутного и противоречивого бунтарского брожения и “новаторских” исканий вырастает и беспомощно-наивное прожектёрство Хлебникова, этого последнего утописта, носящегося с фантастической идеей организации Правительства земного шара.
Хлебникову революция представляется не борьбой классов, а космическим переворотом, открытием новых законов времени. Несмотря на это, Хлебников не только не противопоставлял своё государство времени, свою социальную утопию пролетарской революции, но целиком принял последнюю.
Февральский переворот не разрешил ни классовых противоречий, ни вопроса о войне. Этого было достаточно для отрицательного отношения к нему Хлебникова. Его “бунтарство”, при всей своей противоречивости и идеалистически-утопических элементах, выражало настроения мелкобуржуазных интеллигентских слоёв, совмещающих радикально-индивидуалистический максимализм с давно отжившими, а нередко и просто фантастическими идеями. Поэтому и протест Хлебникова против Керенского и Временного правительства принял форму игры. Хлебников, например, предлагал устроить высекновение Керенского, то есть публично высечь чучело, его изображающее.
О жизни Хлебникова в период после февральского переворота до Октябрьской революции наиболее полное представление даёт его автобиографический рассказ «Октябрь на Неве», в котором он описывает свою деятельность и настроения этого периода.
Передавая настроения свои и той группы футуристов, с которой в это время он был тесно связан, Хлебников подчёркивает своё враждебное отношение к правительству Керенского:
Эти по-детски наивные планы и формы протеста являлись выражением того же мелкобуржуазного бунтарства, которое сказывалось и прежде в поэтическом “нигилизме” футуристов. “Духовный максимализм” и субъективная революционность сочетались здесь с полной политической неориентированностью и иллюзорным представлением о характере и задачах революции.
По словам встретившей его в это время Н.О. Коган, Хлебников
В дни октябрьских событий Хлебников уезжает из Петербурга в Москву. Во время октябрьских боев в Москве он вместе с Д. Петровским скитается по улицам Москвы. В воспоминаниях Петровского эти дни описываются следующим образом:
В Москве Хлебников пробыл конец 1917 года, по словам Петровского, приглашённый совместно с В. Каменским и Д. Бурлюком “меценатом” — булочником Филипповым редактировать художественный журнал и писать какой-то роман». По словам сестры Хлебникова, Веры Владимировны, он рассказывал ей, что вскоре после Октябрьской революции
Конец 1917 я начало 1918 года Хлебников проводит у родных в Астрахани и возвращается в Москву к весне 1918 года. Весну 1918 года Хлебников проводит в Москве, поселившись на квартире у одного московского врача. Однако обстановка обывательского быта и заботы хозяев об его приручении к оседлой жизни заставили Хлебникова вновь обратиться к странствиям. „Хозяйка мне как-то рассказывала, — передаёт в своих воспоминаниях С. Спасский, — что пыталась вразумлять Хлебникова: пора оставить неустроенную жизнь; возможно, шла речь и о бесцельных кочевьях. Хлебников упрямо ответил, что у него особенный путь... В конце апреля или в начале мая он предпринял объезд Поволжья, предполагая добраться до Астрахани к родным”.
Житейская беспомощность, враждебность к обывательскому быту и детски-наивное отношение Хлебникова к окружающей действительности не покидали его и в самые трудные и тяжёлые годы разрухи, гражданской войны и голода. Он никогда не жаловался на житейские неудобства, голод, на свою бесприютность и вместе с том не замыкался в своём одиночестве, далёк был от пессимистического или ущемлённого отношения к жизни. Застряв по дороге в Астрахань в Казани, Хлебников встречает там С. Спасского.
С. Спасский описывает свою случайную встречу с Хлебниковым следующим образом: „Закурили и, сытые, гордо вышли на пристань. Город лежал верстах в двух от реки... „Что, если пуститься пешком?” — „Конечно, — ответил Хлебников. — Только лапти нужны. Мы можем продавать папиросы. Я сегодня думал об этом. Будем читать на улицах стихи. За это нас будут кормить”, — заблуждаясь и представляя мир более добрым, строил предположения Хлебников”.
Из Казани Хлебников принуждён был вернуться в Нижний Новгород где принял участие в альманахе «Без муз», издаваемом местными поэтами, и напечатал несколько стихотворений в нижегородской газете.
В начале 1919 года Хлебников снова возвращается в Москву. В его документах отмечена прописка в Москве от 8 апреля 1919 года. К этому времени в Москве В. Маяковским и О. Бриком было организовано издательство «ИМО» (издательство молодых), в котором предполагалось выпустить собрание сочинений Хлебникова, под редакцией Р.О. Якобсона. Хлебников принимал деятельное участие в осуществлении этого издания, передав Якобсону рукописи своих произведений. Однако летом 1919 года издательство «ИМО» прекратило своё существование, и издание книг Хлебникова не осуществилось. Самого Хлебникова в это время не было в Москве. По-видимому, из Москвы он поехал на лето под Харьков, на дачу в «Красную Поляну» к художнице М.М. Синяковой, откуда вскоре перебрался в Харьков.
Жизнь в Харькове в период ожесточённой гражданской войны, во время голода и хозяйственной разрухи была особенно тяжела для Хлебникова. Но к этому времени относится один из наиболее плодотворных периодов его творчества, — в Харькове написан целый ряд поэм и стихотворений (в том числе «Ладомир», «Поэт», «Лесная тоска», «Три сестры»).
Октябрьская революция не только оплодотворила творчество Хлебникова новыми темами, не только раскрыла перед ним пути большой эпической поэзии, но в определила изменение его мировоззрения, хотя до конца и не уничтожила его идеалистической основы. Подлинный социалистический характер Октябрьской революции, так же как в смысл и значение происходивших на его глазах событий, были во многом непонятны, а подчас и чужды идеалистическому сознанию Хлебникова, но в то же время вопрос о “приятии” или “неприятии” революции ни разу не вставал перед ним так, как он стоял перед большей частью мелкобуржуазной интеллигенции, в частности хотя бы перед Блоком.
Хлебников сразу вошёл в революцию и по-своему искренно и безоговорочно служил ей. Писание агитационных стихов для Росты, работа в Политпросвете, поход с революционными отрядами Ирана свидетельствуют о том, что при всей своей “неприспособленности” к общественной жизни Хлебников именно во время революции начал обретать под ногами социальную почву. Но в то же время при всей своей искренности вера Хлебникова в революцию и коммунизм была именно верой, далёкой от понимания подлинной сущности революции.
В Харькове Хлебникову пришлось не только вести полуголодный образ жизни, но и внешне он превратился в того “оборванца”, каким его чаще всего рисуют воспоминания этих лет. В 1919 году, в период захвата Харькова белыми, Хлебников, принятый ими за шпиона, арестовывается, а затем сажается в психиатрическую больницу. Лишь при восстановлении советской власти Хлебников получает свободу и находит материальную поддержку.
О пребывании Хлебникова в Харькове в 1919–1920 годах довольно полную картину дают воспоминания В.Б., который рассказывает следующие подробности:
19 апреля 1920 года приехавшими имажинистами Есениным и Мариенгофом было устроено в харьковском театре “избрание” Хлебникова председателем земного шара. Это “избрание” может служить примером как чрезвычайной жизненной наивности и беззащитности Хлебникова, так и того циничного отношения к нему, которое он встречал со стороны продолжателей буржуазно-богемных традиций. Один из организаторов этого шутовского “избрания”, воспринятого Хлебниковым всерьёз, А. Мариенгоф, следующим образом передаёт этот эпизод:
Если в предреволюционные годы Хлебников, при всём своеобразии своей позиции и своего творчества, тесно был связан с футуризмом и футуристами, то после Октябрьской революции творческий путь Хлебникова в значительной мере путь самостоятельных поисков новых поэтических методов, стоящих вне общей линии поэтического развития тех лет. В той переоценке и полном пересмотре поэтических принципов футуризма, в поисках более массового и реалистического стиля, под знаком которых проходит творчество Хлебникова в эти годы, он в известной степени перекликается с Маяковским, идя в то же время своей особой дорогой. Вокруг Хлебникова в этот период группируются такие поэты, как Д. Петровский, Н. Асеев, Г. Петников.
Хлебников оказался одинаково далёким и от рецидивов футуристического эпатажа и заумности имажинистов, и от всевозможных эпигонов символизма и акмеизма, и от множества “школок” и групп, возникавших в то время. В этой литературной обособленности Хлебникова представляют особенно значительный интерес его сочувственные отзывы о пролетарских поэтах “первого призыва” — Гастеве и Александровском. Гастев с его “космизмом”, с его абстрактным пафосом коллективизма и уитмановской монументальностью стиха вызывает особенно сочувственное отношение Хлебникова. В статье «О современной поэзии» (1920 г.) Хлебников, весьма положительно отзываясь о стихах Асеева и Петникова, особо выделяет Гастева: Это обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности, это не ты и не он, а твёрдое “я” пожара рабочей свободы, это заводской гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина — чугунные листья, расплавленные в огненной руке. Это отношение к Гастеву, как к соборному художнику труда, являлось в сущности отношением Хлебникова я пролетарской поэзия в целом, свидетельствуя вместе с тем и о его политической настроенности.
В сентябре 1920 года Хлебников уезжает из Харькова на юг, стремясь пробраться на Кавказ. 22 августа он получает удостоверение на поездку в Баку для поступления на службу, а в конце сентября принимает участие в Первой кавказско-донецкой конференции Пролеткультов в Армавире. К этому же времени относится и кратковременное пребывание Хлебникова в Ростове н/Д, во время которого была осуществлена постановка его пьесы «Ошибка смерти». В ноябре 1920 года Хлебников попадает в Баку, где поступает на работу в бакинское отделение Кавросты. В воспоминаниях Т. Вечорка приезд Хлебникова в Баку и поступление в Кавросту передаются следующим образом:
Пребывание Хлебникова в Баку подробно описано в неизданных воспоминаниях О. Спектор, в которых она рассказывает о том, что
Хлебников принимал активное участие в работе бакинский Кавросты по изготовлению агитационных плакатов и лозунгов, сочиняя агитационные подписи к ним и целые стихотворения. Таково, например, его стихотворение «От зари и до ночи», включённое им впоследствии (в несколько изменённом виде) в поэму «Настоящее». Помимо работы в Кавросте, Хлебников числился лектором Политотдела Каспийского флота и хотя лекций, по-видимому, не читал, но близко сошёлся с моряками, принимая участие в работе морского клуба и живя в матросском общежитии.
Весной Хлебников направился в Иран и работал при штабе иранской революционной армии в качестве лектора.
В Иран Хлебников прибыл 14 апреля 1921 года и находился там в течение лета. Очевидец вспоминает об этом периоде жизни Хлебникова следующие подробности:
Пребывание Хлебникова в Иране являлось хотя кратковременным, но значительным эпизодом в его жизни. Иран был для него страной древней культуры, “колыбелью человечества”, к нему он обращался ещё в первый период своего творчества, противопоставляя древнюю восточную культуру буржуазной Европе. В условиях гражданской войны в Гиляне пребывание там Хлебникова далеко не являлось туристским путешествием. Хлебников, числившийся лектором Культпросветотдела, переносил совместно с частями иранской революционной армии все трудности и опасности похода. Он помещает ряд стихотворений в газете «Красный Иран» и находится в тесном общении со всей командной и солдатской средой. В то же время именно в Иране Хлебников пытался практически осуществить тот свободный от условностей цивилизации образ жизни, к которому он постоянно стремился. Он ведёт жизнь того дервиша, гуль-муллы, каким он изобразил себя в своей автобиографической поэме «Труба Гуль-муллы», начатой, по-видимому, ещё во время пребывания в Иране как путевой дневник.
После измены главнокомандующего иранских революционных войск Саад-Эд-Доулэ 25 июня 1921 года Хлебников возвращается назад в Баку.
В Баку Хлебников возвратился в конце июля 1921 года и в августе уехал в Железноводск. В Железноводске он встретился с О. Самородовой и её сестрой и поселился у них на даче.
В Железноводске Хлебников заболел и начал хлопотать о переезде в Пятигорск для лечения. В конце сентября он перебирается в Пятигорск и поступает ночным сторожем в Терросту. В письме к отцу он подробно описывает своё пребывание в Пятигорске:
Пребывание Хлебникова в Пятигорске и его работа в Терросте описаны в воспоминаниях Д. Козлова, о котором упоминает в своём письме Хлебников:
Осень и начало зимы 1921 года, проведённые Хлебниковым в Пятигорске, относятся к наиболее тяжелому времени голода и засухи в Поволжье и на Кавказе. Хлебников не только не остался в стороне от той работы, которая велась Ростой и другими советскими организациями по оказанию помощи голодающим, но сам принимал в ней активное участие, печатая агитационные стихи и отводя беспризорных в питательные пункты.
Впечатления от пребывания в Пятигорске даны в таких вещах Хлебникова, как «Голод», «Осень», «Три обеда». Наряду с этим Хлебниковым в это время написан ряд больших поэм («Ночь перед Советами», «Ночной обыск», «Настоящее»).
Во время пребывания в Пятигорске Хлебников начал курс лечения, но, не закончив его, в конце ноября 1921 года собрался ехать в Москву, стремясь напечатать свои произведения. До Москвы он добирался в течение месяца в санитарном поезде и прибыл туда 25 декабря совершенно больным, сразу же попав в больницу. По выписке из больницы он поселяется у художника Спасского в помещении Вхутемаса. О своём впечатлении от Москвы он сообщает вскоре по приезде в письмах к родным: Пока я одет и сыт. Ехал в Москву в одной рубашке: юг меня раздел до последней нитки, а москвичи одели в шубу и серую пару. Хожу с Арбата на Мясницкую, как журавель. Ехал в тёплом больничном поезде месяц целый. По прибытии в Москву Хлебников, в надежде на издание своих произведений, особенно много работает, заканчивает и переписывает целый ряд ранее написанных поэм и стихотворений. В частности, начало 1922 года посвящено им собиранию и подготовке к печати «Зангези». Хлебников полон издательскими планами и совместно с худ. П.В. Митуричем издаёт «Доски судьбы», правит корректуру «Зангези». В апреле-мае 1922 года он сообщает матери: Я по-прежнему в Москве, готовлю книгу, не знаю, выйдет ли она в свет; как только будет напечатана, я поеду через Астрахань на Каспий; может быть, всё будет иначе, но так мечтается. Мне живется так себе, но в общем я сыт-обут, хотя нигде не служу. Моя книга — моё главное дело, но она застряла на первом листе и дальше не двигается.
В мае 1922 года Хлебников едет на две недели вместе с П.В. Митуричем в деревню Санталово бывш. Новгородской губернии, так как только по истечений этого времени представлялась возможность получить бесплатный проезд в Астрахань. Ещё в Москве, во время сильных приступов малярии, Хлебников был в очень плохом и болезненном состоянии. В Санталове он окончательно свалился. В письме к врачу А.П. Давыдову, незадолго до смерти, он сообщает: Я попал на дачу в Новгородскую губернию, ст. Боровенка, село Санталово (40 верст от него), здесь я шёл пешком, спал на земле и лишился ног. Не ходят. Расстройство (неразб.) службы. Меня поместили в коростецкую “больницу” Новгор. губ. гор. Коростец, 40 вёрст от железной дороги. Хочу поправиться, вернуть дар походки и ехать в Москву и на родину. Как это сделать? Однако поправиться Хлебников так и не смог, и после мучительной болезни скончался 28 июля 1922 года.
Похоронен Хлебников был на погосте в деревне Ручьи бывш. Новгородской губернии (в 15 верстах от дер. Санталово).
Октябрьская революция произвела решительный перелом в мировоззрении Хлебникова, уже в период империалистической войны не только окончательно изжившего свои “славянские” увлечения, но и занявшего антимилитаристскую позицию. При всей политической неориентированности Хлебникова, при всём идеалистическом характере его мировоззрения Хлебников целиком и безоговорочно встал на сторону Октябрьской революции.
Революция оплодотворила творчество Хлебникова не только расширением круга тем, но и перестроив его поэтическое зрение, дав ему возможность показать в своём творчестве колоссальные исторические сдвиги, пафос борьбы за новый общественный строй. От прежней национальной ограниченности Хлебников пришёл к тому “космизму”, который, при всей своей утопичности, выражал идею интернациональной солидарности, выдвинутую Октябрьской революцией. Уже в «Ночи в окопе» Хлебников приветствует международника могучую волну, а в «Ладомире» рисует будущее человечества в духе утопического социализма.
Внутренняя правдивость, с которой подошёл Хлебников к показу революции, позволила ему создать такие значительные эпические полотна, как «Ночь в окопе», «Ладомир», «Ночь перед Советами», «Прачка», «Настоящее», передающие, хотя и в одностороннем и субъективно “гуманистическом” аспекте, грандиозный размах революции. В своём восприятии и понимании революции Хлебников в значительной мере отражал настроения мелкобуржуазных крестьянских слоёв, принимавших участие в гражданской войне на стороне революции. Тема „разиновщины” делается поэтому ведущей темой за последние годы творчества Хлебникова: «Разин» (1920), «Уструг Разина» (1922), и «Разин» («Две Троицы», 1921). Разин становится для Хлебникова символом революции, означая его понимание революции как народного мятежа, крестьянского восстания:
Революция воспринималась Хлебниковым как возмездие прогнившему, “старому миру”, как восстание бедноты, уничтожающее бар и богатеев. Хлебников с самого начала признаёт “правду” революции и приветствует освобождение трудящихся от гнёта капитализма. Но в то же время он как мелкобуржуазяый утопист хочет “дополнить” революцию “мирной” и “научной” организацией рода людей, своими числовыми законами. Однако при всём своём утопизме Хлебников прекрасно понимал правоту революции, с самого начала её заявив:
Так писал он в 1918–1919 годах, в разгар гражданской войны, в «Ночи в окопе».
Ненавистью к прошлому и, что особенно характерно для Хлебникова, ненавистью к дворянству проникнута поэма его «Ночь перед Советами», представляющая начало трилогии («Ночь перед Советами», «Прачка» и «Настоящее»). Собакевна, выкармливающая щенят своей грудью, её засечённый помещиком муж символизируют жестокость и несправедливость старого режима, “оправдывают” для Хлебникова революцию. В следующих поэмах трилогии (в «Прачке» и «Настоящем») революция показана уже как стихийная сила, сокрушающая царизм и утверждающая свободу.
Ненависть к прошлому, революционная настроенность Хлебникова, при всех его мелкобуржуазных иллюзиях, позволила создать ему вещи большой силы, составляющие наиболее реалистически насыщенную и действенную сторону его поэзии. Таковы «Ночь перед Советами», «Прачка» и «Настоящее» — единая трилогия, проникнутая гневом народного мятежа и ненависти к дворянско-буржуазному строю. Однако Хлебников не понимал ни авангардной, организующей роли партии большевиков, ни социалистического характера Октябрьской революции.
Основная направленность послереволюционного творчества Хлебникова — в отречении от “старого”, в ненависти к капиталистическому строю, в страстном стремлении к созданию нового, лучшего. мира:
Хлебников выступает с острой ненавистью к господствующему классу, с призывами к “возмездию”, к стихийному народному мятежу:
В этом стихийничестве, в этом ограниченном понимании характера и задач революции — основной смысл большинства произведений послереволюционного Хлебникова. Для мелкобуржуазного гуманиста, каким являлся Хлебников, революция представлялась стихийным “жестоким” роком, разрушавшим “мирные” иллюзии его гуманистического мировосприятия. В «Ночном обыске», как и в «Двенадцати» Блока, с которыми он перекликается, сказалось это трагическое восприятие крушения гуманизма.
Эта бунтарская настроенность Хлебникова, хотя и свидетельствовала о значительной эволюции его взглядов и отличалась своим конкретным социальным наполнением от прежнего его “нигилизма”, — в то же время совмещалась с его давними утопическими стремлениями, с его поисками числовой закономерности явлений. Такой социальной утопией является поэма Хлебникова «Ладомир», писавшаяся весною и летом 1920 года в Харькове, — одна из основных вещей Хлебникова. В «Ладомире» Хлебников приходит к пониманию исторической неизбежности революции и разрушения буржуазного строя, к которому он и призывает “бедноту”, “холопов”:
Хлебников жил мечтой о будущем человечества, и с точки зрения этого будущего, которое ему представлялось в плане наивной, глубоко идеалистической утопии, он расценивал и современность. Однако нельзя сказать, что он ушёл от современности или не воспринимал её. Наоборот, с исключительной силой он показал напряжённую классовую борьбу, революцию и гражданскую войну в таких поэмах, как «Ночной обыск», «Прачка», «Настоящее». Но воспринимая это “настоящее” как историческое возмездие, как трагическое крушение гуманизма, Хлебников противопоставляет ему природу, её языческую жизнерадостность («Три сестры», «Лесная тоска») и счастливое будущее человечества, утопический “лад мира”. Этот новый прекрасный мир является, однако, уже не просто пантеистической идиллией, а разумной гармонией, основанной на овладении человечеством силами природы. Поэтому будущее рисуется Хлебникову прежде всего как союз труда и науки:
В «Ладомире» Хлебников провозглашает мировую гармонию, свой идеал пантеистического преображения мира, который представляется ему в уничтожении противопоставления между природой и человеком:
Поэтому при всей своей фантастичности утопии Хлебникова всегда ориентированы на науку. Любимая тема Хлебникова — овладение человеком при помощи науки природой. Радио будущего, которое объединит человечество, радио-читальни, единый мировой язык, светлые солнечные города из стеклянных ячеек, пахари будущего в облаках на аэропланах — вот мечты Хлебникова, становящиеся в наши дни реальностью. Величественная картина будущего человечества, забывшего неравенство и горы денег, заставившего служить себе природу, описывается Хлебниковым в одной из центральных его вещей — поэме «Ладомир»:
В новом, преображенном трудом и наукой мире осуществляется то единство человека и природы, о котором Хлебников мечтал в течение всей своей жизни. В этом органическая связь утопии Хлебникова с его стихами о природе.
Расширяя свою утопию до пределов человечества, обращаясь к будущему, мечтая о равноправии коров, Хлебников в конечном итоге приходил к пантеистическому рационализму. Человек в его отношении к природе, слияние в “разумной природе” человека с жизнью природы — основная идея утопии Хлебникова. Однако его пантеистический идеал далёк от мистического пантеизма немецких романтиков. Хлебников предполагает не мистическое “слияние” в природе, а материальную, организованную человеческим разумом и техникой природу.
Стихийный языческий пантеизм и “космизм” Хлебникова ближе всего к великому поэту американской демократии Уоту Уитману, любимому поэту Хлебникова, которого он называл „космическим психоприёмником”. Уитман близок ему в своём физиологическом ощущении природы, в своём отрицании механистической цивилизации:
В целом ряде стихотворений и поэм Хлебников показывает это единство человека с природой, идеализируя “первобытное” слияние своего “я” с природой:
Отсюда и образ ребячески мудрого «Зангези», уходящего от людей слушать голоса птиц и природы. Этот же “уход к природе” описывается Хлебниковым в его автобиографической поэме «Труба Гуль-Муллы». Хлебников здесь приходит к той апологии “естественной жизни”, к тому “руссоизму”, который возвращает его ко временам детства человечества.
Сочетание в Хлебникове сознания человека, живущего представлениями первобытно-земледельческого общества, с увлечением новейшими теориями физики и астрономии, определило внешнюю “наукообразность” его теорий я вместе с тем их поэтическую “мифологичность”, которая обосновывалась Хлебниковым в ряде статей. Это “мифологическое” мировосприятие, стремление к установлению единства природы и человека составляет и тему его поэмы «Поэт» («Весенние святки»), в которой Хлебников высказывает своё понимание роли поэта как посредника между природой и человеком. Тем не менее даже и здесь Хлебников противопоставляет “мифу”, мистическому “обожествлению” природы “рассудок” поэта:
Пантеистическая идиллия, занимавшая основное место в раннем творчестве Хлебникова, сохраняется и в его послереволюционных вещах («Поэт», «Три сестры», «Лесная тоска»).
В гуманистическом утопизме Хлебникова, в его мечтах о мировой гармонии нашли своё выражение чаяния той мелкобуржуазной интеллигенции, которая стремилась перескочить через трудности и неизбежные исторические этапы борьбы за коммунизм, мечтая о построении его “мирным” путём. Если до революции Хлебников в своём отрицании капиталистического строя обращался к прошлому, к “языческой Руси”, то в годы гражданской войны он мечтает о скорейшем наступлении мирового “лада”, мировой гармонии в том понимании её, которое близко великим утопистам XVIII и начала XIX века, от Кампанеллы и Томаса Мора до Кабэ и Фурье. Даже «Доски судьбы» Хлебникова, его вера в обретение мировой гармонии посредством числовых законов, его понимание своей роли как миссии социального реформатора, дающего миру новые законы времени, перекликаются с Фурье, напоминая его «Книгу судеб», его уверенность в возможности посредством “разумного” научного метода организации труда осчастливить всё человечество: „Я один вычеркнул двадцать столетий политического идиотизма, и всё настоящие и будущие поколения обязаны своим огромным счастьем лишь мне одному, — писал Фурье. — Обладая книгой судеб, я пришёл, чтобы рассеять политический и моральный мрак, и на развалинах недостоверных наук я воздвигаю теорию всемирной гармонии”.
Если мы сопоставим с «Книгой судеб» Фурье приказы и “манифесты” Хлебникова, его «Доски судьбы», то эта перекличка с утопистами несомненна. Даже самая идея числовой закономерности, возникающая из рационалистического представления о “разумной” организации общества на основе естественно-научных законов и их числовой закономерности, уже встречается у Фурье.
Не лишне поэтому напомнить известную характеристику утопического социализма, данную Энгельсом, который указывал, что утопистам „очевидны были только недостатки общественного строя, найти же средства к их устранению казалось задачей мыслящего разума ‹...› Эти новые социальные системы были заранее обречены оставаться утопиями, и чем старательнее разрабатывались их подробности, тем дальше уносились они в область чистой фантазии”. Естественно, конечно, что характеристика, данная Энгельсом утопическому социализму, не может быть полностью перенесена на Хлебникова. Но источник теорий Хлебникова — в той же вере в „мыслящий разум”, способный найти разрешение всех противоречий, а непонимание „взаимного положения классов” приводило его к созданию фантастической утопии, причём, благодаря индивидуальным поэтическим и психологическим свойствам Хлебникова, его фантазия уносилась особенно далеко.
При всём мощном, положительном воздействии на Хлебникова Октябрьской революции и значительном изменении его мировоззрения говорить об отказе Хлебникова от прежних идеалистических теорий и взглядов нельзя.
“Приятие” революции, даже восторженное отношение к ней у Хлебникова совмещается с верой в фантастические вычисления времени, с попыткой составить таблицу исторических закономерностей — «Доски судьбы». Эта противоречивость мировоззрения, это идеалистическое отношение к действительности лежит и в основе таких поздних произведений Хлебникова, как «Зангези» или «Синие оковы». Идейная сумбурность ведёт и к тем отвлечённо формальным экспериментам и опытам создания нового заумного языка, которым посвящена «Царапина по небу» и отчасти «Зангези».
Поэтому при оценке поэтического наследия Хлебникова следует учитывать двойственность его мировоззрения, сочетание реалистических тенденций его творчества о идеалистической основой его мировоззрения и формалистическим экспериментаторством.
Из желания разрешить социальные противоречия, из мелкобуржуазного гуманистического стремления к “мирному” установлению мировой гармонии Хлебников пришёл к своему “математическому пониманию истории”, к своей гамме будетлянина, основанной на наивной вере в то, что не события управляют временами, но времена управляют числами («Одиночество», рукопись 1920 г.) Пытаясь найти закономерности числовых соотношений между событиями, Хлебников составлял многочисленные “гороскопы”, часто придавая своим вычислениям даже большее значение, чем поэтическому творчеству.
Хлебников сочетал “приятие” революции и ненависть к капиталистическому миру с утопическим стремлением к установлению мировой гармонии путём открытия “закономерности” числовых повторов событий, позволяющей “разумно” управлять историей. Эта идея лежит в основе всех “вычислений” и статей Хлебникова, в основе «Досок судьбы» и «Зангези». В статье «Наша основа» Хлебников писал:
При всём рационалистическом априоризме законов времени, выводимых Хлебниковым из его понимания исторической закономерности, его «Доски судьбы» упираются в мистику. «Доски судьбы» Хлебникова, его “математическое понимание истории” — проявление всё того же отрыва от действительности, того же стремления “найти средства” к устранению недостатков общественного строя “мыслящим разумом”, в результате чего понимание действительных законов уносилось “в область чистой фантазии”, и абстрагированный “мыслящий разум” оказывался в плену у самых идеалистических и просто фантастических концепций.
Поэтому, отправляясь от “мыслящего разума”, от физических и естественных наук (что также характеризовало рационализм XVII–XVIII вв.), Хлебников в результате приходил к пифагорейскому обожествлению чисел, к установлению, якобы “опытным порядком”, по существу мистического учения. Его “математическое понимание истории” восходит к философии Пифагора, учившего, что мир есть закономерное, стройное целое, подчинённое законам гармонии и числа.
Пифагорейское обожествление числового выражения мировой гармонии Хлебников стремился перевести в область “опытного”, научного знания, подставляя на место мистического идеализма пифагорейцев рационалистический идеализм утописта. В статье 1920 года «Наша основа» он подчёркивает, что его законы времени не являются ни прорицанием, ни мистикой: точные законы дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчёта.
Рационалистические истоки числовых и лингвистических теорий Хлебникова в значительной мере восходят к лейбницианству и рационализму XVIII века. Знакомство с Лейбницем подтверждается не только близостью отдельных принципиальных высказываний, не только общностью рационалистического построения, но и фактическими ссылками на Лейбница. Математика и естествознание в том идеалистическом аспекте, в котором занимался ими Хлебников ещё в университетские годы, способствовали выработке этого логического универсализма, этого признания закономерностей абстрактного мирового разума:
Подобно утопистам и рационалистам XVIII века, Хлебников ориентируется на естественно-физические науки. Он усиленно занимается чтением книг по механике, физике, астрономии, называя в своих статьях имена Бальмера, Френеля, Фрау-Тирера, Планка, Гаусса, Кеплера. Однако это “опытное” обоснование “математического понимания истории” столь же фантастично и в конечном итоге так же упирается в мистику, как и пифагорейство.
Однако нельзя ставить знак равенства между идеалистической “философией” Хлебникова, его пифагорейской верой в числовую закономерность и объективным содержанием я идейной направленностью его художественных произведений. Хлебников-поэт и Хлебников-теоретик не только не покрывают друг друга, но и часто противоречат один другому. Хлебников-поэт в своей ненависти к старому миру, в своём безоговорочном приятии революции, в своих мечтах о будущем коммунизме, в своём стихийном, языческом ощущении и понимании природы намного опередил Хлебникова-теоретика.
Числовые теории Хлебников неоднократно клал и в основу своих поэтических произведений. Однако рационализм и идеалистическая абстрактность их приводили к схематической “логизации” стиха, к отказу от тех реалистических методов поэзии, которые составляли сильную сторону его творчества.
С утопическими проектами Хлебникова связана и его теория азбуки ума, в том виде, в каком её обосновывал Хлебников в послереволюционные годы.
Если “словотворчество” и языковые теории Хлебникова раннего периода (до 1914–1916 гг.) основывались на славянском “корнесловии”, на обращении к древнерусскому языку, приводя к архаизации самого поэтического стиля, то в дальнейшем “словотворчество” возникает на иной основе — из рационалистического универсализма Хлебникова, стремившегося при помощи “разума” свести все явления мира к единым закономерностям, к единому “ладу” мировой гармонии.
Различие этих двух принципов своих языковых теорий указал Хлебников в статье 1919 года «Своясь»: Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращения всех славянских слов одно другое — свободно плавить славянские слова, вот моё первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призраки, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — моё второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.
Обращаясь к художникам мира, Хлебников писал в 1919 году о задачах создания своего универсального языка: Эта цель — создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населённой человечеством звезды, затерянной в мире. Вы видите, что она достойна нашего времени. Идея создания этого единого языка для всех народов вытекала у Хлебникова из его рационалистического универсализма. Это, по Хлебникову, язык понятий, “азбука ума”: На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, — из них строится здание слова, писал он там же.
Сущность этого универсального языка понятий Хлебников излагает в целом ряде своих статей. Для понимания его принципа достаточно привести формулировку, данную Хлебниковым в статье «Наша основа»:
Такие произведения Хлебникова, как «Зангези», «Слово о Эль», «Царапина по небу» и ряд других, основаны именно на этом понимании принципов универсального языка. Так же как в своей социальной утопии Хлебников всё время ориентируется на науку, ему представляется возможным построение этого мирового языка научным путём: Задача единого мирового научно построенного языка всё ясное и яснее выступает перед человечеством. Однако языковая теория Хлебникова так же идеалистична, как и его остальные утопические теории и идеи.
Теория мирового языка понятий Хлебникова восходит к тем поискам “логического” философского языка “мысле-понятий” и “мысле-корней”, которые предпринимались просветительной философией XVIII века — Декартом и, в особенности, Лейбницем. Лейбниц в своих предложениях исходил из мысли использовать ряд простых неделимых чисел для выражения понятий математическим путём. Хлебников, формулируя конечные выводы своей языковой теории, в значительной мере следует за Лейбницем: Все мысли земного шара (их так немного), как дома улицы, снабдить особым числом и разговаривать и обмениваться мыслями, пользуясь языком зрения.
Эти языковые теории имели большое значение для его поэтической практики. Целый ряд произведений Хлебникова является своего рода иллюстрацией этих положений, их экспериментальным применением («Царапина по небу», «Зангези», «Перун» и др.). «Заумь» Хлебникова послереволюционных лет его творчества, его азбука ума не являлась бессмыслицей и не служила целью чисто эмоционального воздействия, выражая мысль, логическое понятие посредством условной, графической эмблематики. Но этот рационалистический логизм оказался столь же порочным, как и ранняя “заумь”, превратив язык в логические иероглифы, благодаря чему слово лишилось своего смыслового богатства, своего эмоционального наполнения, своей чувственно-конкретной стороны. Оно переставало быть поэтическим образом, превратившись в абстрактный математический знак, и такие вещи, как «Царапина по небу», оказались лишь смелым экспериментом, но лишены были основных средств поэтического воздействия. Не случайно поэтому, что и сам Хлебников в своём послереволюционном творчестве следовал другим принципам, создавая свои поэмы независимо от своих лингвистических экспериментов.
Наряду с коренными изменениями в мировоззрении, наряду с обновлением тематики в послереволюционном творчестве Хлебникова не менее важно отметить и изменение поэтического метода, стиля его поэзии.
Хлебников не только отказывается от архаического стиля своих дореволюционных стихов и прозы, но и приближается во многом к реалистическим принципам обращения со словом. Он приходит к той большой простоте и “правдивости” стиха, которая свидетельствует о глубокой смысловой насыщенности и точности слова.
Обычно в оценке творчества Хлебникова до сих пор исходят главным образом из его дореволюционных стихов, и даже главным образом из его экспериментальных вещей (вроде «Смехачей»). Совершенно в стороне остается творчество Хлебникова советского периода, хотя все наиболее значительные произведения его относятся к этому времени («Ночь в окопе», «Ночь перед Советами», «Ладомир», «Ночной обыск», «Настоящее», «Уструг Разина» и др.). Только после Октябрьской революции Хлебников обрёл свой новый путь, заговорил во весь голос. Путь Хлебникова к поэмам о современности, к простоте стиха лежал не только через расширение его социального опыта, но и через освоение фольклора, народного творчества, живого разговорного языка.
Наряду с расширением круга тем, с их социальной насыщенностью изменяется и поэтический стиль Хлебникова. В этом сказалось и то обстоятельство, что Хлебников освободился от кружковщины футуристической богемы, стал лицом к лицу с новой, ранее ему не известной социальной средой, познакомился с широким, массовым читателем. Годы странствий во время гражданской войны, жизнь среди красноармейцев и краснофлотцев были той школой, которая во многом помогла Хлебникову в его работе над перестройкой стиха. Работа в Росте, агитационные частушки и подписи к плакатам против Врангеля, сотрудничество в красноармейских газетах, где Хлебников выступает с такими стихами, как «Иранская песня», основанная на красноармейской песне и частушке, — всё это объясняет тот путь, который прошёл Хлебников к “некрасовской простоте” «Ночи перед Советами», разговорной естественности «Трубы Гуль-Муллы» или песенно-фольклорной стихии «Настоящего».
Хлебников освобождается от той сугубой “лабораторности”, которой были отмечены его ранние стихи и даже более зрелые вещи эпохи футуризма. Если раньше Хлебников в поисках выхода за пределы того поэтического языка, который был создан символистами и акмеистами, обращался к древнерусским и славянским памятникам и источникам или экспериментировал над созданием “заумного языка” и “разложением слова”, то теперь он обращается к сокровищнице народного языка и на основе использования разговорного языка и фольклора создаёт свои произведения. Русская поэзия после подлинно эпических произведений Пушкина знала лишь романтические поэмы Лермонтова и реалистический, народный эпос Некрасова. Так дальнейшее развитие поэзии XIX и начала XX века шло по пути всё большего и большего ухода её в субъективно-лирический мир поэта, утверждая к началу XX века монополию лирики. Поэтому выход Хлебникова в эпическую поэзию (как и выход в эпос Маяковского) свидетельствовал не только о новых тенденциях его поэзии, но и определял его обращение к традициям русской эпической поэзии и в первую очередь к Пушкину и Некрасову.
„Хлебников — единственный наш поэт-эпик, — писал Ю.Н. Тынянов. — ‹...› В самые ответственные моменты эпоса — эпос возникает на основе сказки. Так возникла «Руслан и Людмила», определившая путь пушкинского эпоса и стиховой повести XIX века, так возник и демократический «Руслан» — некрасовское «Кому на Руси жить хорошо»”. “Народность” поэзии, её “простота” и доступность, новое поэтическое сознание чаще всего вырастали на почве обращения к народному творчеству, фольклору, песне, сказке. Этим путём идёт и Хлебников, широко пользуясь в своей поэзии фольклором, на его основе создавая свои поэмы.
Почти “классическая” свобода и легкость стиха в таких поэмах Хлебникова, как «Вила и леший», «Три сестры», «Поэт», «Ладомир», несомненно явились в результате обращения к Пушкину. Хлебников далёк здесь от стилизации пушкинского стиха или “подражания”, его сближает самый метод обращения со словом, свободная легкость каждого слова, непосредственность переживания. Правда, Хлебников далёк от той законченности, точности и ясности, которые составляют основу пушкинской “гармонии”, не говоря уже о полном несходстве содержания, но и самое сопоставление здесь делается в плане отдельных аналогий, а не для установления тождества.
При всей неожиданности своих метафор и сопоставлений, в своих основных, не экспериментальных стихах Хлебников чужд изысканности, литературщине, чисто внешней, формалистической игре со словом, занимающим столь большое место в его творчестве в целом.
Такой “классической” прозрачности и точности стиха Хлебников чаще всего достигает при описании картин природы, где его языческий пантеизм, его подлинность ощущения природы наиболее полноценны:
Конечно, “простота” Хлебникова, реалистические тенденции его поэтического стиля далеки от той простоты к которой приходит наша современная советская литература на основе метода социалистического реализма. Идеалистические концепции Хлебникова, его инфантильно-фантастическое восприятие действительности, отвлечённо-формалистическое экспериментирование над словом лишают его творчество той реалистической полноценности и полнокровности, которой отличается поэзия социалистического реализма. В то же время и идейная направленность творчества Хлебникова ещё очень противоречива, сочетая приятие революции с утопически-иллюзорным, искаженным представленном о её характере. Поэтому, отмечая путь такого поэта, как Хлебников, от формалистического экспериментаторства к “простоте”, следует расценивать эту “простоту” не по аналогии с теми принципами социалистического реализма, которые выдвигает наша современность, а как свидетельство неизбежного и плодотворного прихода каждого подлинного художника к показу реальной действительности я освобождению от формалистического штукарства и непонятности.
Простота, почти прозаическая точность повествования «Ночи перед Советами», напоминающая поэмы Некрасова, песенная, фольклорная основа «Прачки» и «Настоящего», экспрессивная сила разговорной речи «Ночного обыска» и наряду с ними классическая легкость и ясности стиха «Ладомира» или «Трёх сестер» — вот то, чрезвычайно разнообразные стиховые принципы, которыми пользуется Хлебников. Но, несмотря на всё их разнообразие, они объединяются одной общей тенденцией к простоте и ясности языка. Пределы этой простоты и безыскусственности показывает поэма «Труба Гуль-Муллы», представляющая как бы дневниковую запись, максимально точную по своим фактическим деталям.
Свобода обращения со словом позволяет Хлебникову не бояться этой простоты. Его стих в этих вещах лишен внешней красивости, поэтической позы, формалистической “сделанности” или нарочитости. Огромное чутьё слова подсказывает Хлебникову скупой и выверенный образ и в то же время образ исключительной наглядности и выразительности.
Не случайно, что в произведениях Хлебникова, посвящённых гражданской войне и наиболее насыщенных реалистическими элементами, это реалистическое начало связано с песней, с фольклором («Прачка», «Настоящее»). Хлебников при этом далёк от стилизации фольклора. Создавая на его основе эпические произведения, он пользуется ритмами, интонацией, богатством языка, свойственными фольклору.
Песня и частушка отразились в таких вещах, как «Ночной обыск», «Иранская песня»; городской фольклор — в «Настоящем» и «Прачке»; крестьянский — в «Ночи перед Советами», «Эй, молодчики-купчики», и многих других вещах; песни о Стеньке Разине — в поэмах Хлебникова о Разине («Разин», «Уструг Разина»). Однако здесь следует подчеркнуть разницу между обращением к народной поэзии раннего Хлебникова и ролью фольклора в его последних вещах. В ранних стихах и прозе Хлебников обращался к сказке, апокрифу, былине, заговору, то есть к архаическому, древнерусскому фольклору; в поздних своих вещах Хлебников пользуется современным фольклором, в первую очередь фольклором, отразившим революционные настроения крестьянства.
Это приближение Хлебникова к “простоте” было результатом длительных поисков, результатом огромной работы над словом. Несомненно, что установка Хлебникова на “понятность” поэзии явилась результатом того воздействия, которое оказала на его творчество революция, определив поворот к простоте стиха в, таких вещах, как «Невольничий берег», «Ладомир», «Ночь перед Советами» и т.п.
Для нас Хлебников является большим мастером стиха, „честнейшим рыцарем” поэзии — как определил роль Хлебникова Владимир Маяковский.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 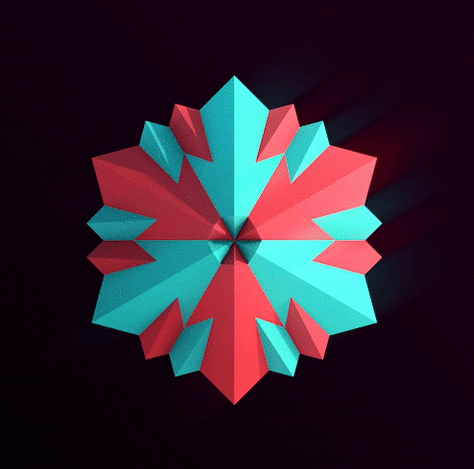 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||