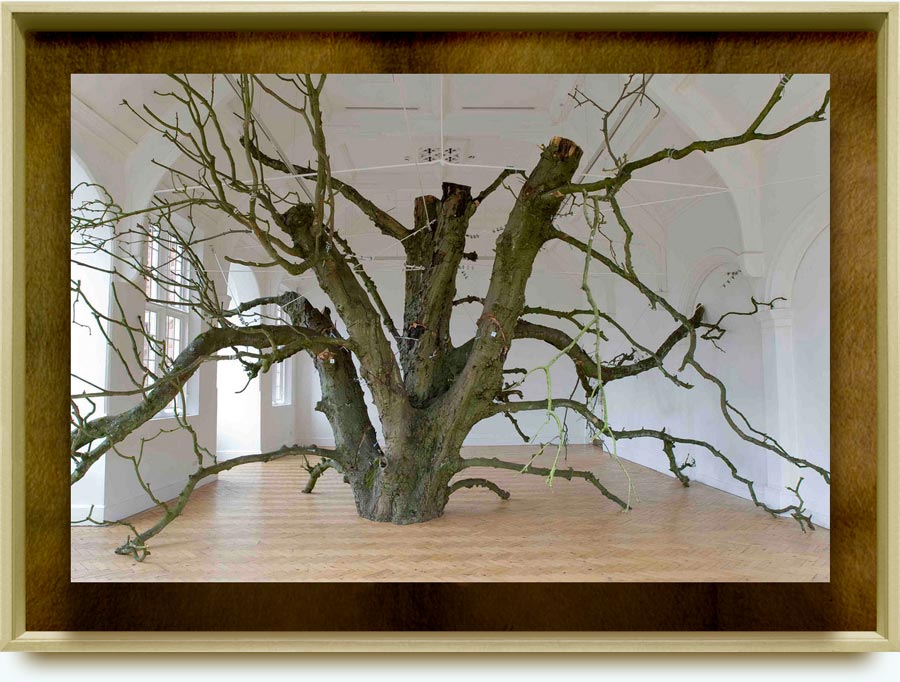
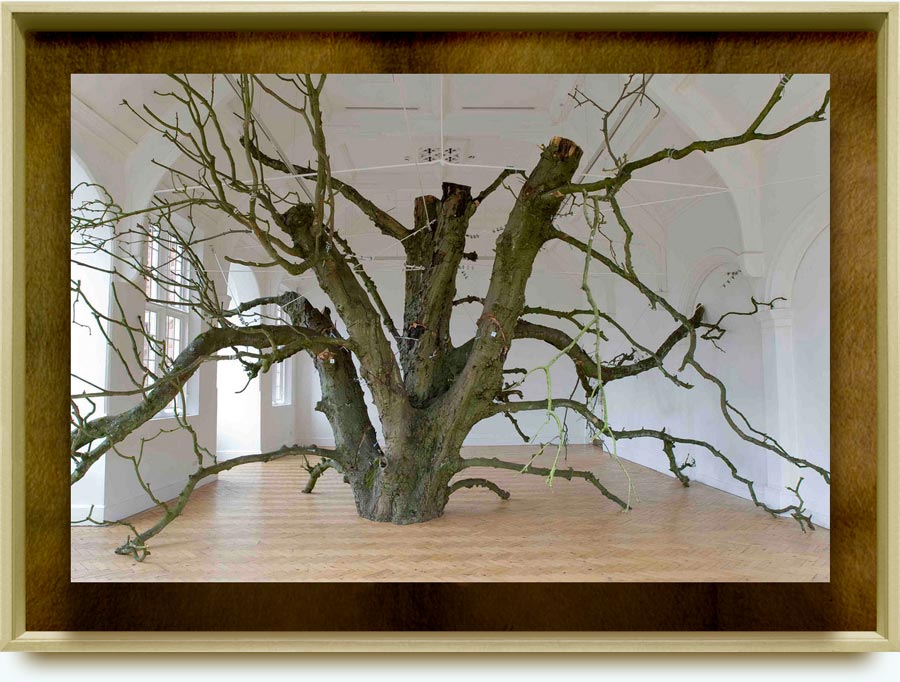
‹...› В Москве я не без труда отыскал старинный дом в довольно неприглядной части города, где тогда жил Хлебников. Первое впечатление от моей встречи с ним меня разочаровало. Жил он, по-видимому, бедно, в неуютной комнатке, где слово “порядок” не имело особого веса. Бумаги, книги, куски белья и платья, даже какая-то немытая тарелка — всё это было разбросано кое-как и где попало. Сам Хлебников встретил меня сперва застенчиво. Его бритое лицо с чуть-чуть выпученными мягкими губами приняло какое-то озадаченное выражение, когда я сказал, что пришел к нему по рекомендации Бурлюка и Маяковского. Он даже не спросил, где и как я с ними познакомился. Но как только он услышал, что я южный славянин, его лицо вдруг засияло. Перестав стесняться, он с улыбкой попросил меня сесть, после чего мы с ним вскоре разговорились, точно старые знакомые. Узнав, что я словенец, он признался, что я первый словенец, с которым он вообще познакомился, и тут, конечно посыпались вопросы один за другим. Я уже не помню, как началась его симпатия к южным славянам и почему он переменил даже свое настоящее имя Виктор на южнославянское Велимир... Помню только то, что он меня много расспрашивал о житье-бытье сербов и черногорцев. В особенности его интересовала патриархальная Черногория, которую он никогда не видел, так как вообще не бывал за границей и иностранными языками не владел. Я упомянул о некоторых чертах южнославянских литератур, но его гораздо больше интересовали произведения народного творчества, а именно сербские народные эпические песни, собранные в начале XIX века Вуком Караджичем. Он внимательно следил за моими объяснениями, после чего задавал вопросы о фольклоре вообще и о славянской “старине глубокой” в частности. Кажется, я просидел в его комнатке по крайней мере два часа. Когда я встал, чтобы попрощаться, он вдруг искренним тоном выразил надежду, что мы оба опять встретимся и поговорим “в этом же роде”. „А отчего бы вам не приехать на несколько дней ко мне в Петербург? — спросил я, пожимая его руку. — Приезжайте и будете моим гостем!” Хлебников принял мое приглашение с видимым удовольствием. Три недели спустя он в самом деле приехал ко мне в Петербург, даже не предупредив меня заранее, что приедет.
Приехал он в бедном состоянии: плохо одет, без денег и, по-видимому, не зная, как быть и что делать. Не задавая никаких вопросов, я просто попросил его не стесняться и чувствовать себя у меня как дома. Жил я тогда где-то на Офицерской улице. Работал же я в центре города в связи с журналом «Аргус», ‹...› мне была временно поручена забота о распространении журнала — утомительное и далеко не приятное занятие. Уходил я из дому сразу после утреннего чая, возвращался к обеду и затем довольно поздно — к ужину. Хлебников жил и столовался у меня, но он мало выходил и новыми знакомствами не интересовался. Однажды вечером я повёл его к художнику Борису Кустодиеву, который жил поблизости, и с которым я был очень дружен. Сам Кустодиев был удивительно занятный собеседник. Он не только умел хорошо говорить, но и слушать. К сожалению, Хлебников большей частью молчал. Этим-то его знакомство с Кустодиевым и ограничилось. Дома он, конечно, много думал, много писал, но и говорить не стеснялся. Вечером, после ужина, он охотно разговаривал, хотя о своих произведениях не очень-то любил высказываться. Однажды он мне читал вслух своё стихотворение «Мария Вечора» и спросил меня, не могу ли я дать ему какие-нибудь новые данные о ней и её трагической смерти. Я ответил, что знаю только то, что уже известно. И возразил, что её фамилия не Вечора, а Вёцера (Wétzera) и что она была, вероятно, греческого происхождения. Хлебников сейчас же запротестовал и сказал, что он написал это стихотворение с тем бóльшим интересом, что считал её славянкой. Для него она была Вечора, а не Вёцера. О каком-либо изменении фамилии на неславянский лад он и слышать не хотел.
О балканской войне, которая была тогда в разгаре, мы мало говорили. Но в связи с ней именно тогда стала выходить в Петербурге еженедельная (или двухнедельная?) газета «Славянин». Будучи с её редактором отчасти знаком, я попросил Хлебникова написать что-нибудь о славянах и послать в редакцию. Он в самом деле написал несколько очерков о Черногории и черногорцах, которые я лично передал редактору «Славянина». Не помню, сколько этого материала было там напечатано (под его фамилией и анонимно). Знаю только то, что Хлебников получил небольшой гонорар, который его — в тогдашнем безденежье — очень обрадовал... Хлебников насущными практическими делами славянства не очень-то интересовался. Его привлекала архаическая и патриархальная сторона славянства, фольклор и всё, что было связано с древними словообразованиями. Вот почему он с удовольствием перебирал славянские словари. Кажется, два или три раза он заходил в славянское отделение Академии наук, где мог пользоваться разными словарями, включая Миклошича. В моей библиотеке был сербский словарь Вука Караджича и также русско-словинский словарь Хостника, в которые он часто заглядывал. Когда он случайно открыл сербский глагол ‘запопити’ (сделать кого-нибудь попом), он пришёл в восторг. Если не ошибаюсь, он использовал его в одном из своих черногорских очерков. Такие слова, как Велес, вила, курент и т.п., увлекали его уже потому, что были связаны со славянским фольклором и мифологией.
Тут нелишне заметить, что объяснения самим Хлебниковым иных словообразований нередко принимали довольно ненаучный характер. Однажды во время утреннего чая он меня спросил, как называется булка по-словенски. Я ему сказал словенское слово ‘жёмля’ (zemlja), и он тотчас воскликнул: „Да это всё происходит от слова ‘земля’! Одно и то же слово. Булка — это хлеб. Значит — хлеб и земля, земля и жёмля. Удивительно!” Я считал нужным разочаровать его и доказать, что ‘жёмля’ даже не славянского происхождения, а просто испорченное немецкое слово ‘Semmel’, которое словенцы переняли и отчасти переделали. Но и это не помогло. Хлебников настоял на своём, не обращая внимания ни на какие возражения. В те же дни я старался познакомить его с произведениями некоторых славянских поэтов. Однажды я показал ему книгу стихов крупного словенского поэта Прешерна в русском переводе Корша. Он прочёл несколько стихов и бросил книгу с замечанием “профессорский перевод”, с чем я не мог отчасти не согласиться. В моей библиотеке было также довольно много польских книг, в особенности все произведения Словацкого, драму которого «Лилля Венеда» он, кажется, прочёл в переводе Бальмонта. С моей помощью он познакомился с её первым действием в польском подлиннике. О литературе и литераторах Хлебников не очень охотно высказывал свои мнения. Даже о футуризме и футуристах он редко говорил, и как будто о чём-то далеком. Во всяком случае, его сознание было тогда более в каком-то мифологическом прошлом, чем в будущем. Шумные выступления футуристов на литературных вечерах ему тоже не особенно нравились. Он был, конечно, кроме футуристов, знаком и с некоторыми другими литераторами (например, с Вячеславом Ивановым и его “башней”), но во время своего пребывания у меня он почтя ни к кому не заходил. Однажды вечером я ему предложил поужинать со мной в ресторане «Вена», где тогда собирались писатели и художники, но он просто отказался. Во всяком случае, ему было приятнее сидеть дома, работать или же читать (с помощью словаря) старинные народные песни сербов и черногорцев в сборнике Караджича. Очень сильное впечатление произвела на него черногорская баллада «Песня о постройке Скадра». Замечательную «Смерть матери Юговичей» из цикла о сражении на Косовом поле (1389) я ему читал вслух в оригинале, и трагическая красота этого народного стихотворения его прямо-таки потрясла.
Теперь не помню, как долго Хлебников тогда гостил у меня. Во всяком случае, не меньше четырёх недель. Чтобы немного развлечь его, я несколько раз водил его на вечеринки к своим знакомым, но без особого успеха. Даже у Ольги Ивановны Лешковой, весёлой и остроумной приятельницы художника Ле-Дантю, на квартире которой собирались молодые художники и литераторы (Михаил Ле-Дантю, Николай Лапшин, Илья Зданевич и др.), он сидел как будто погружённый в самого себя и мало заботился о том, чтобы завязать какие-нибудь новые знакомства. Его беспомощность в практических делах жизни казалась мне, по крайней мере в то время, поразительной. Очень возможно, что и его стихотворения долго оставались бы неизвестными, если бы не попали в руки таких энергичных и предприимчивых друзей, как Бурлюк и Маяковский. В особенности Давид Бурлюк делал всё возможное (и даже невозможное), чтобы выдвинуть его. Несмотря на почти неизлечимую застенчивость Хлебникова, мы расстались с ним очень приятельским образом, когда я вдруг должен был поехать на продолжительное время в Норвегию. Хлебников вернулся в Москву, и с тех пор мы с ним больше не виделись. Несколько лет спустя я с искренней грустью узнал о его трагической кончине.
Подготовка текста А. Парниса
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 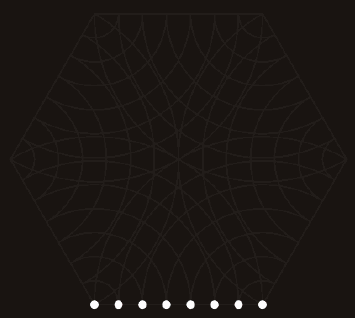 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||