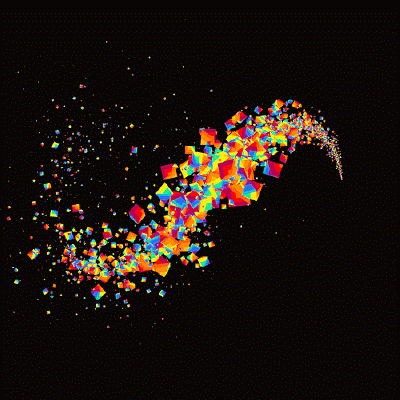Аниндита Банерджи
Теософия освобождения:
Индия Елены Блаватской и Русский Восток Велимира Хлебникова
Сопроводительная записка В. Молотилова 

lena Blavatsky was the only one who traveled to India in search of what it means to be a Russian (Одна Блавацкая поехала в Индию, чтобы узнать, что такое быть русским).
*
Это утверждение кажется особенно нелепым в брошюре под названием «Новое учение о войне», изданной в 1916 году поэтом-футуристом и философом истории Велимиром Хлебниковым.
1
С какой стати Хлебникову в его размышлениях о Первой мировой войне и надвигающейся революции ссылаться на Блаватскую, основоположницу теософии? И почему он счёл пространственно и событийно далёкий от потрясений России ХХ века Индостан единственно возможным местом русского самопознания? Рассказ Хлебникова о путешествии в эту страну, написанный одновременно с «Новым учением о войне» (composed simultaneously with
A New Lesson about War**
), даёт заманчивый в своей развёрнутости ответ на эту загадку.
В отличие от Блаватской, Хлебников никогда не был в Индии. 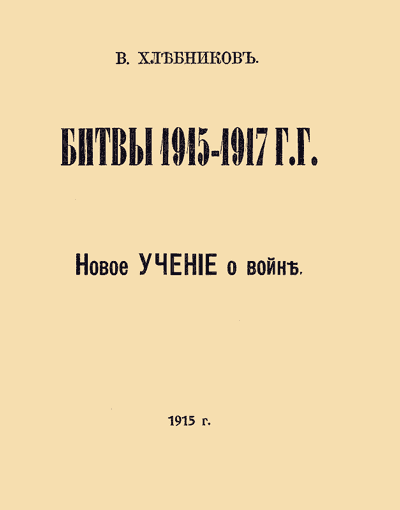 Словно бравируя этим, его короткая лирическая повесть «Есир» — название это Пол Шмидт2
Словно бравируя этим, его короткая лирическая повесть «Есир» — название это Пол Шмидт2 перевёл Ясир, что означает ‘пленник’ или ‘раб’ на арабском и тюркских языках — допускает значительные вольности относительно картографии и хронологии. Действие, весьма удалённое от столичных центров России и современной автору обстановки, повествует о скитаниях рыбака XVII века Истомы, берущих начало на полудиком острове ‹...› вытянутом в виде полумесяца3
перевёл Ясир, что означает ‘пленник’ или ‘раб’ на арабском и тюркских языках — допускает значительные вольности относительно картографии и хронологии. Действие, весьма удалённое от столичных центров России и современной автору обстановки, повествует о скитаниях рыбака XVII века Истомы, берущих начало на полудиком острове ‹...› вытянутом в виде полумесяца3 в устье Волги. Беседа с аскетом по имени Кришнамурти, который носит то же имя, что и всемирно известный последователь Блаватской, побуждает Истому странствовать по просторам Евразии в поисках знания, дарующего свободу всему народу.4
в устье Волги. Беседа с аскетом по имени Кришнамурти, который носит то же имя, что и всемирно известный последователь Блаватской, побуждает Истому странствовать по просторам Евразии в поисках знания, дарующего свободу всему народу.4 Где-то в Индостане он открывает для себя Адвайти Веданту — метафизику Шанкарачарьи (Шанкары Ачарьи), мыслителя VIII–IX вв. Всеобъемлющий (включая вероисповедания) монизм этого учения полагает Я равновеликим всему и вся, а человеческое существование — последовательным снятием покровов иллюзии (майи). По свидетельству Блаватской, та же „наука любви Шанкары” вдохновила её на поиски основополагающих истин теософии.5
Где-то в Индостане он открывает для себя Адвайти Веданту — метафизику Шанкарачарьи (Шанкары Ачарьи), мыслителя VIII–IX вв. Всеобъемлющий (включая вероисповедания) монизм этого учения полагает Я равновеликим всему и вся, а человеческое существование — последовательным снятием покровов иллюзии (майи). По свидетельству Блаватской, та же „наука любви Шанкары” вдохновила её на поиски основополагающих истин теософии.5
Поскольку учение Шанкары вполне соответствовало собственным убеждениям Хлебникова (In narrating his own quest for Shankara’s philosophy), он отказался от первоначального русского названия «Ловецкий рассказ» в пользу маркера азиатской России — огромной, простирающейся от Каспия до Тихого океана. Заглавие «Есир» предваряет роскошное многоголосие последующего повествования, насыщенного, с одной стороны, тюркскими диалектами Нижней Волги и языками Средней Азии, с другой — классическим санскритом. Авторская преднамеренность взаимосвязи хождения Истомы с языками, которые он перенимает, делает невозможным истолкование повести как очередного проявления известной склонности поэта к “восточным” темам и мотивам.6 Более того, разнобой диалогов между имперскими окраинами России и таинственной обителью европейских грёз заставляет подозревать неприятие Хлебниковым обобщённого подхода к Востоку.
Более того, разнобой диалогов между имперскими окраинами России и таинственной обителью европейских грёз заставляет подозревать неприятие Хлебниковым обобщённого подхода к Востоку.
Воображаемое путешествие Хлебникова бросает вызов не только историческому и географическому разделению Русского Востока и европейской России, но и понятийному их отчуждению в современной постколониальной парадигме. Восток, который Эдвард Саид назвал „заморской колонией Британии, ‹...› в корне отличающейся от ‹...› сопредельной империи”,7 даже в последних по времени исследованиях роли Азии в становлении русского самосознания выносится за скобки.8
даже в последних по времени исследованиях роли Азии в становлении русского самосознания выносится за скобки.8 Отметая эту дихотомию, «Есир» повествует о многосложном в своей преемственности взаимообмене. Тёзка адепта Блаватской Кришнамурти побуждает Истому, вымышленное alter ego поэта, к раздумьям о самобытности азиатских окраин России, причём именно Волго-Каспийское пограничье подвигает его к восприятие идей Адвайти. Из «Нового учения о войне» определённо следует, что теософия посредничала Хлебникову в доступе к индийской религиозной философии (Though it is evident from A New Lesson about War that Theosophy mediated the poet’s access to Indian religious philosophy), а «Есир» показывает, что учение Блаватской отнюдь не было для него поводом блеснуть экзотикой метафор. Хлебниковская “смотровая вышка” на окраине Российской империи придаёт истолкованию Блаватской „науки любви Шанкары” дополнительный историко-политический простор. И в траектории хождения Истомы, и в многоязычной ткани текста прослеживается удивительное соответствие между двумя предпосылками освобождения: обещанной теософией духовностью и отрицающей империализм Октябрьской революцией.
Отметая эту дихотомию, «Есир» повествует о многосложном в своей преемственности взаимообмене. Тёзка адепта Блаватской Кришнамурти побуждает Истому, вымышленное alter ego поэта, к раздумьям о самобытности азиатских окраин России, причём именно Волго-Каспийское пограничье подвигает его к восприятие идей Адвайти. Из «Нового учения о войне» определённо следует, что теософия посредничала Хлебникову в доступе к индийской религиозной философии (Though it is evident from A New Lesson about War that Theosophy mediated the poet’s access to Indian religious philosophy), а «Есир» показывает, что учение Блаватской отнюдь не было для него поводом блеснуть экзотикой метафор. Хлебниковская “смотровая вышка” на окраине Российской империи придаёт истолкованию Блаватской „науки любви Шанкары” дополнительный историко-политический простор. И в траектории хождения Истомы, и в многоязычной ткани текста прослеживается удивительное соответствие между двумя предпосылками освобождения: обещанной теософией духовностью и отрицающей империализм Октябрьской революцией.
Может статься, переосмысление Хлебниковым ленинского интернационализма через Блаватскую (Khlebnikov’s reinterpretation of Leninist internationalism through Blavatsky) вовсе не чудачество (may not be as eccentric) одиночки, как это представляется поначалу. Историки уже в полный голос заявляют о решающей роли сообществ духовного и нравственного толка в противостоянии колониализму. Партха Чаттерджи, например, убеждён, что знание классических санскритских текстов религиозными группами в Британской Индии как ничто другое способствовало тяге к государственности вне колониальной парадигмы.9 Предпринятое Лилой Ганди изучение индо-британских „пылких сообществ”, спаянных общим неприятием колониального гнёта и „тоской по направленной на ближнего этике и политике”,10
Предпринятое Лилой Ганди изучение индо-британских „пылких сообществ”, спаянных общим неприятием колониального гнёта и „тоской по направленной на ближнего этике и политике”,10 может оказаться полезным для лучшего понимания хлебниковского Азосоюза — утопического альянса на стыке имперских окраин России и Британии. При этом следует отметить, что воображаемое сообщество трансазийских странников Хлебникова имеет гораздо более широкий размах по своему многоязычию и межрелигиозному охвату.
может оказаться полезным для лучшего понимания хлебниковского Азосоюза — утопического альянса на стыке имперских окраин России и Британии. При этом следует отметить, что воображаемое сообщество трансазийских странников Хлебникова имеет гораздо более широкий размах по своему многоязычию и межрелигиозному охвату.
Чтобы оценить прорывное своеобразие этого проекта во времена Хлебникова и его приемлемость для отпора иноземным угнетателям в наши дни, поговорим о двойственном отношении русских к Азии.
Русский Восток и открытие Хлебниковым Индии
В России картографическое и понятийное разделение Европы и Азии отягощено экзистенциальной тревогой. Отсутствие действенной связи столичных центров — Санкт-Петербурга и Москвы — с простирающимися на восток необъятными имперскими владениями породило двойственность культурного самоопределения нации. Подвергшаяся монгольскому нашествию Киевская Русь XII–XV веков и присоединённые обратной волной завоевания времён Ивана Грозного равнины за Уралом представляют собой единственное в своём роде географическое пространство, где расово чуждые политическому телу страны включения склонны к бессмысленному и беспощадному насилию (might have contaminated the body politic with alien racial elements and infused its soul with chaotic, rebellious violence). Знаменитые «Философские письма» Петра Чаадаева 1836 года пронизаны тревогой именно об этом. Полагая промежуточное положение России между Европой и Азией причиной её отсталости, Чаадаев называет свою родину опустошаемым набегами кочевников пространством (Chaadayev calls the nation a „blank space” ‘пустота’ overtaken by the nomadic steppe).11
Многочисленные исследования последних лет показывают, что на протяжении почти трёх столетий — с тех пор, как Петр Великий „в Европу прорубил окно” и этим поместил Россию на карту современного мира — русское самосознание таило подавляемую сверху азиатчину.12 В безобидных, на первый взгляд, географических текстах XVIII и XIX веков, обобщённых Марком Бассином, очевидны понятийные различия между европейской и азиатской частями России, предопределённые водоразделом Урала и климатом: слякоть Санкт-Петербурга не сестра суховеям Степи. Наблюдения подобного рода с неизбежностью переросли в твёрдую уверенность: образованные, с похожей на европейскую траекторией развития столичные центры России культурно-исторически несовместимы с кочевой, дописьменной terra incognita её восточных окраин. Осознание пагубности этого разделения наиболее отчётливо у славянофилов, всеми силами стремившихся оградить нацию от разлагающего влияния Западной Европы.13
В безобидных, на первый взгляд, географических текстах XVIII и XIX веков, обобщённых Марком Бассином, очевидны понятийные различия между европейской и азиатской частями России, предопределённые водоразделом Урала и климатом: слякоть Санкт-Петербурга не сестра суховеям Степи. Наблюдения подобного рода с неизбежностью переросли в твёрдую уверенность: образованные, с похожей на европейскую траекторией развития столичные центры России культурно-исторически несовместимы с кочевой, дописьменной terra incognita её восточных окраин. Осознание пагубности этого разделения наиболее отчётливо у славянофилов, всеми силами стремившихся оградить нацию от разлагающего влияния Западной Европы.13
На рубеже XX века Россия обратила свой взор на Восток, едва ли не начисто изглаженный из национального самосознания к тому времени. Геополитические подвижки новоявленного пристрастия прослеживаются на временнóм отрезке от развала Священного союза и поражения в Крымской войне (1853–1856) до отправки экспедиций в Центральную и Восточную Азию. Стратегический выход к Тихому океану предопределил противоборство с Японией, достигшее своего пика в печально известном морском сражении при Цусиме (1905), которое по времени совпало с неудачей Первой русской революции. В свете военной катастрофы Япония и, в меньшей степени, Китай занимали русское умнечество несравненно больше, чем появление Индии на культурном небосводе.14 Сам Хлебников назвал Цусиму первотолчком его превращения из естествоиспытателя в философа истории. Такое смещение целеполагания называют „поворотом от панславизма к паназийству” или зарождением евразийской „материковой самооценки”.15
Сам Хлебников назвал Цусиму первотолчком его превращения из естествоиспытателя в философа истории. Такое смещение целеполагания называют „поворотом от панславизма к паназийству” или зарождением евразийской „материковой самооценки”.15
Евразийство Хлебникова подрывным образом присваивает геополитическую логику “Большой игры”, борьбы за сердце материка между Россией и Британией в конце XIX века. По мере перехода стратегически важных областей Центральной Азии в руки России, Индия всё отчётливее проступает в имперских устремлениях Санкт-Петербурга. К.П. Победоносцев, министр иностранных дел (the foreign minister) Александра III, полагал Индию конечной целью продвижения России на восток.16 Тем не менее, “культурное освоение” Индостана по-прежнему плелось в хвосте политических амбиций. Положение резко изменилось с открытием Суэцкого канала (1869), когда путешественники из числа восторженных провозгласили Индию “колыбелью цивилизации”, а её мистическую привлекательность рекламировали „индусских учений обложки в витринах”.17
Тем не менее, “культурное освоение” Индостана по-прежнему плелось в хвосте политических амбиций. Положение резко изменилось с открытием Суэцкого канала (1869), когда путешественники из числа восторженных провозгласили Индию “колыбелью цивилизации”, а её мистическую привлекательность рекламировали „индусских учений обложки в витринах”.17
Теософское общество в высшей степени взвинтило одержимость русских Индией. Мария Карлсон подробно документирует его роль как основного поставщика „древней мудрости” пёстрому сообществу кабинетных учёных, переводчиков, передовых писателей и художников. Ключевые фигуры движения — Блаватская, её последовательница Анни Безант и молодой протеже Безант Джидду Кришнамурти (это же имя, напомним, носит и вымышленный собеседник Истомы в «Есире») — достигли воистину непререкаемости в мнении бойцов переднего края модернистской революции в русском искусстве и литературе.18 Теософские положения, заимствованные из философии Веданты, служили подспорьем не только символистам в их поиске ноумена, но пришлись ко двору и футуристам-заумникам, и визуальным беспредметникам.19
Теософские положения, заимствованные из философии Веданты, служили подспорьем не только символистам в их поиске ноумена, но пришлись ко двору и футуристам-заумникам, и визуальным беспредметникам.19
Но есть и не затронутое исследователями настроение умов, благоприятствовавшее победному шествию теософии по России. Одна из причин того, что индийская духовность оказалась столь привлекательной именно здесь, а не в англоязычном мире, целевой аудитории движения: одновременные подвижки националистического толка в умах русских мыслителей. В отличие от славянофилов XIX века, чей словарь исконного, не кивающего на Европу самостояния проистекал из православной веры, властители дум fin de siecle обратили взоры на расово и религиозно чуждый россиянам Восток. Николаю Данилевскому, Константину Леонтьеву, Владимиру Ламанскому и эсхатологическому милленаристу Владимиру Соловьёву низкопоклонство местной элиты перед Европой виделось добровольным закабалением, гибельным последствиям которого следует противопоставить исконную, веками подавляемую азиатчину россиян.20 Кроме того, в эстетическом репертуаре и политическом лексиконе многих модернистов подспудная тоска по Степи подпитывала энтузиазм к восприятию индийской религиозной философии. Иван Бунин, например, объяснял свою „любовь к Индии, таинственному Востоку и духовной колыбели человечества ‹...› органическими родовыми связями с Востоком”.21
Кроме того, в эстетическом репертуаре и политическом лексиконе многих модернистов подспудная тоска по Степи подпитывала энтузиазм к восприятию индийской религиозной философии. Иван Бунин, например, объяснял свою „любовь к Индии, таинственному Востоку и духовной колыбели человечества ‹...› органическими родовыми связями с Востоком”.21 Во время революции символисты Валерий Брюсов22
Во время революции символисты Валерий Брюсов22 и Александр Блок23
и Александр Блок23 узрели в Будде воплощение поэта, духовного наставника и степного всадника одновременно (a composite metaphor of poet and moral preceptor alongside the steppe horseman). Вопреки безоговорочному осуждению “буржуазного мистицизма” предыдущих поколений, авангардные ответвления футуристского движения — одним из столпов которого был Хлебников — заявляли, что прикосновение к древней Индии есть способ изжить „нашу рабскую покорность Европе”.24
узрели в Будде воплощение поэта, духовного наставника и степного всадника одновременно (a composite metaphor of poet and moral preceptor alongside the steppe horseman). Вопреки безоговорочному осуждению “буржуазного мистицизма” предыдущих поколений, авангардные ответвления футуристского движения — одним из столпов которого был Хлебников — заявляли, что прикосновение к древней Индии есть способ изжить „нашу рабскую покорность Европе”.24
Заморская колония Британии казалась тем более привлекательной, что предоставляла дополнительные возможности для обоснования приемлемости “русской азиатчины”. Разделяя с дальневосточными соседями России статус древней цивилизации, Индия не была запятнана вооружённой борьбой ни с Русью, ни с Московией. Это был Восток первозданной чистоты, который не ставил русским в упрёк ни покорение Сибири, ни завоевание Степи.
Таким образом, при общем росте самосознания, восприятие Индии в России немногим отличалось от западноевропейского. Географически удалённый Индостан застыл в предзаданности „древней индийской мудрости” понятийно неотличимым от британского способа держать “жемчужину британской короны” на расстоянии вытянутой руки, „как обычный предмет любования”.25 Идейный разброд очевиден даже у оказавшего огромное влияние на несколько поколений модернистов Владимира Соловьёва — философа и поэта, одним из первых обратившегося лицом к Азии. «Панмонголизм» — название поэмы 1894 года и эссе 1899 года26
Идейный разброд очевиден даже у оказавшего огромное влияние на несколько поколений модернистов Владимира Соловьёва — философа и поэта, одним из первых обратившегося лицом к Азии. «Панмонголизм» — название поэмы 1894 года и эссе 1899 года26 — в ницшеанском духе пророчит гибель цивилизационной химеры Европейской России от рук подавляемого ей восточного прошлого, в образе жёлтой орды во главе с японцами; при этом в поэме «Ex Oriente Lux» (1890) тот же Соловьёв чает возрождение нации посредством паломничества в Индию, едва ли не дословно воспроизводя известное высказывание Гёте о человечестве, собравшемся на берегах Ганга.27
— в ницшеанском духе пророчит гибель цивилизационной химеры Европейской России от рук подавляемого ей восточного прошлого, в образе жёлтой орды во главе с японцами; при этом в поэме «Ex Oriente Lux» (1890) тот же Соловьёв чает возрождение нации посредством паломничества в Индию, едва ли не дословно воспроизводя известное высказывание Гёте о человечестве, собравшемся на берегах Ганга.27
Виды Хлебникова на Индию в корне отличаются от воззрений русского умнечества из числа предшественников и современников поэта. Хлебников не относит её к далекому пространству и времени, чуждому соображениям об азиатском прошлом России, — он полагает заморскую колонию Британии действенным средством для переосмысления проявлений имперского насилия здесь, у себя на родине. В письме к Алексею Кручёных читаем о прогулке в Индию не для приобщения к её духовности, а чтобы заглянуть в монгольский мир (not to discover its timeless spirituality but rather „to take a look at the Mongol world” ‘заглянуть в мир монголов’).28
В то время как многие представители русской богемы отправлялись на поклонение западным храмам и светочам искусства, посещали Святую землю и даже Северную Африку,29 странничество Хлебникова было не модным поветрием, а образом жизни. Пешком и на поездах он покрыл огромное пространство; при этом отправная точка и конец пути всадника оседланного рока оказались в пределах преисполненной народами, языками и вероисповеданиями России.
странничество Хлебникова было не модным поветрием, а образом жизни. Пешком и на поездах он покрыл огромное пространство; при этом отправная точка и конец пути всадника оседланного рока оказались в пределах преисполненной народами, языками и вероисповеданиями России.
Подобно Истоме в «Есире», Хлебников родился близ Астрахани. Проведя много лет в Санкт-Петербурге — куда он прибыл в 1907 году, чтобы совершенствоваться в математике и лингвистике, включая год занятий санскритом (including a year of Sanskrit), — он присоединился к экспедиционному корпусу Красной Армии, отправленному в Иран для оказания помощи местным повстанцам. Именно там в свои писания поэт вводит святого странника как образец для подражания.30
Бродячий аскет, неизменный во все времена носитель восточной мудрости, приобретает в «Есире» подлинно автобиографическое измерение даже в политических устремлениях поэта: вымышленный Кришнамурти смыкает пограничье, где родился Хлебников, с далёким Индостаном, где тот никогда не был, рассказами о злодеяниях тамошней имперской власти, ни на йоту не более человеколюбивой, нежели российская. Странствуя, герой повести отнюдь не пребывает в безмятежном созерцании красот Востока, но выказывает намерение создавшего его поэта довести до читателя три чрезвычайно важных соображения посредством
— придания встрече выходца из британской колонии с обитателем восточного пограничья Российской империи накала гражданственности: рассказ Кришнамурти потрясает волгаря, заставляя его признать, что русские принадлежат к тому же всемирному сословию подневольных рабов, что и насельники Индостана;
— использованием просветлённого сознания Истомы для опровержения дихотомии Востока и Запада, своекорыстно предпринятой европейским империализмом и прививаемой к национальному сознанию россиян местной элитой;
— всемерным одобрением странствия как свободы личности от государственных границ, т.е. альтернативное имперскому целеполагание.
Вся троица намерений Хлебникова проглядывает уже в зачине «Есира». В самой среде обитания Истомы на исламской оконечности России — омываемом водами реки приюте животных и людей — очевидна пограничность:
Недалеко от черты прибоя, на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина.31
В сочетании с заголовком — лингвистически заданном, надо полагать, предварением повести — заимствованное Истомой у Кришнамурти санскритское приветствие ‘Ом’ размывает естественную связь между языком и национальным самосознанием:
— Аум, — тихо прошептал он, склонившись над колосом синих цветков. ‹...›
Лебедь времени, Кала Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга.32
Хотя Кришнамурти на сей раз принимает облик ведического олицетворения вечности Калахамсы, мудрец разочаровывает Истому своим отказом делиться мистическими откровениями. Вместо этого святой человек становится выразителем исторического сознания. Он сообщает новости о движении сопротивления империи Великих Моголов в далёком Индостане и описывает преследования духовных вождей, которые взвалили на себя это политическое бремя. Истома проводит ночь, внимая рассказам о Нанаке (1469–1539), основателе сикхизма, о забитом простонародье, поднявшем в XVII веке вооруженное восстание против императора Аурангзеба под руководством Тегх Бахадура и Говинда Сингха, о суфийском мистике Кабире (1440–1518), вместе с которым, по преданиям, Нанак посещал лачуги обездоленных, о Шиваджи (1627–1680), предводителе победоносной армии повстанцев. Сведения эти вызывают у волжского рыбака неожиданный отклик: чуждые русскому уху имена и диковинные истории становятся первыми шагами к осознанию Истомой бедственного положения своей родины.
Он как тень следует за брамином, который кормит бродячих собак и освобождает лебедя, обречённого на убой. Заметив его настойчивость, индус предсказывает: „Ты увидишь мою родину”.33 Как будто во исполнение этого предсказания, Истома попадает в плен, и работоргорцы угоняют его на восток, в Степь. Хождение по рукам перекупщиков знакомит его с наслоениями верований и образом жизни насельников земель, на которые Россия положила глаз ещё во времена Ивана Грозного. Он бродит по татарским селениям, пережиткам Золотой Орды, где лелеют мечту отделиться от Москвы; пользуется гостеприимством старообрядцев (receives hospitality from Old Believers), отколовшихся от Православной церкви в XVII в. и бежавших подальше от Москвы; становится свидетелем мирного сосуществования буддийских, исламских и языческих верований племён, отрицающих оседлый образ жизни:
Как будто во исполнение этого предсказания, Истома попадает в плен, и работоргорцы угоняют его на восток, в Степь. Хождение по рукам перекупщиков знакомит его с наслоениями верований и образом жизни насельников земель, на которые Россия положила глаз ещё во времена Ивана Грозного. Он бродит по татарским селениям, пережиткам Золотой Орды, где лелеют мечту отделиться от Москвы; пользуется гостеприимством старообрядцев (receives hospitality from Old Believers), отколовшихся от Православной церкви в XVII в. и бежавших подальше от Москвы; становится свидетелем мирного сосуществования буддийских, исламских и языческих верований племён, отрицающих оседлый образ жизни:
‹...›
змея бесшумно скользила около надписи „Нет Бога, кроме Бога” (Шахада, исламское исповедание веры) ‹...›
Старый калмык пил бозо — чёрную водку калмыков.
Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную водку в священную чашу.
— Пусть меня милует Чингиз-богдо-хан! — важно проговорил он, опустив голову.34
Поворотный событием повести оказывается присоединение к каравану работорговцев бесстрашного сикха по имени Кунби: он помогает Истоме бежать и, в конце концов, достичь Индостана. Следующие пять лет рыбак проводит среди странствующих святых людей разнообразных вероисповеданий. Однако Индия не оправдывает его ожиданий благостного конца пути. Вместо обетованного просветления, он узнаёт, что все виды государственной, религиозной и этнической принадлежности призрачны, и, следовательно, лишены смысла. Странствия по Индии открывают ему глаза на кредо Кришнамурти — Адвайти Веданту. Школа мысли Шанкары настаивает, что Я (атма) неотличима от мирового духа, он же вселенская сущность (Брахма), как две капли воды. Согласно Адвайти, жизнь есть путешествие с целью освобождения от всех наружных проявлений личности; это непременное условие слияния с Брахмой:
И то, что ты можешь увидеть глазом, и то, что ты можешь услышать ухом, — всё это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.
Она — мировая душа, Брахма.35
Словно повторяя круговорот атмы, повесть о скитаниях Истомы заканчивается на родине, в дельте Волги. Однако привычная с детства обстановка не вызывает у него ни радости, ни успокоения:
Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.
Куда? — он сам не знал.36
Хотя мой краткий пересказ лишь отдалённо передаёт необычное построение и словесную разработку «Есира», внятны, надеюсь, дискурсивные переходы от приключенческого рассказа к историографии, от философской экзегезы к мифопоэзии, от автобиографии к беллетристике, посредством которых автор переосмысливает отношение русских к Азии. Можно проследить риторику и идеологию проповедуемого им единства судеб, сопоставляя путешествие Истомы с тремя созвездиями текстов:
— теософскими откровениями;
— стремлением Хлебникова к взаимоувязке историографии, имперского чувства и национального самосознания;
— воззванием, составленным одновременно с «Есиром», где поэт предлагает небывалую картографию постреволюционного будущего.
Политизация таинственного Востока
Будоража Истому не посулами всеведения, а подробностями освободительных движений бесправного простонародья Индостана, хлебниковский Кришнамурти оказывается ключом к разгадке единственного в своём роде использования индийских первоисточников теософии. Реального Джидду Кришнамурти (1895–1986), сына бедного брахмана из окрестностей Адьяра, штаб-квартиры общества в Индии, ученица Блаватской Анни Безант сделала всемирно известным, возвысив до главы движения «Звезда Востока». Во время турне по Европе и Соединенным Штатам (1911) — именно тогда Хлебников погружался в санскрит (in 1911 — the moment of Khlebnikov’s immersion in Sanskrit) — Безант провозгласила своего протеже воплощением одновременно Христа и Будды, что вызвало взрыв негодования в российской прессе.37 Менее известен русский ответ на ту политическую роль, которую теософы сыграли в колониальной Индии. Первая мировая война — повивальная бабка не только русской революции, но и освободительного движения в этой британской колонии. Борьба Безант за права женщин и неприкасаемых увенчалась её союзом с Ганди, побудив тысячи адептов теософии примкнуть к Индийскому национальному конгрессу.38
Менее известен русский ответ на ту политическую роль, которую теософы сыграли в колониальной Индии. Первая мировая война — повивальная бабка не только русской революции, но и освободительного движения в этой британской колонии. Борьба Безант за права женщин и неприкасаемых увенчалась её союзом с Ганди, побудив тысячи адептов теософии примкнуть к Индийскому национальному конгрессу.38
Вымышленный Хлебниковым Кришнамурти — свидетельство того, что поэт имел точные сведения о дрейфе теософии от эзотерики к тому, что называют злобой дня. В таком случае, сведения о жестоком подавлении восстания империей Великих Моголов оказываются иносказанием зверств британской администрации. Учиняя варварский (не лучше ли сказать историософский?) погром в безмятежном доселе мирке Истомы, эмиссар теософии низводит колониальный Восток из волшебной грёзы на грешную землю. Появление настоящего Кришнамурти в российской прессе совпало с глубоким сдвигом в самопознании Хлебникова, который Рэймонд Кук полагает превращением футуристского „воина” в созерцающего „пророка”.39
Основная причина этой “смены вех” — всепоглощающая увлечённость поэта историей. Однако его подход к предмету выламывается из общепринятых рамок причинности, приравнивая к одновременности соответствие отстоящих одно от другого событий математическому критерию однородности. Логикой числовых последовательностей, а не географическим или временны́м соседством единит он крупные властные образования, разбросанные по векам и частям света. Натиск Западной Европы на Восток неразрывно связан с захватническими устремлениями России на её азиатских окраинах, а современный империализм воспроизводит образцы господства и подчинения седой древности.40 Знаковая фигура Кришнамурти, перенесённая из ХХ века в XVII-й и наложенная на этно-политический ландшафт имперского Прикаспия, представляет собой яркий пример пространственно-временны́х перестановок Хлебникова.
Знаковая фигура Кришнамурти, перенесённая из ХХ века в XVII-й и наложенная на этно-политический ландшафт имперского Прикаспия, представляет собой яркий пример пространственно-временны́х перестановок Хлебникова.
Как и все пограничные земли, Нижняя Волга изобилует следами векового насилия, чрезвычайно важными для изысканий Хлебникова во времени. Родной край Истомы занимает видное место (particularly significant) и в эссе «Учитель и ученик» (1912),41 и в «Новом учении о войне»,42
и в «Новом учении о войне»,42 где Блаватская названа важной в идейном отношении предтечей автора (is named as an important intellectual predecessor of the author). В обеих работах соответствия между геополитическими сдвигами используются для обоснования гипотезы о том, что англичане унаследовали и воспроизвели властные институты социального и политического угнетения времён Великих Моголов, а Россия в “Большой игре” вторит покорению Казани (XVI в.), одного из последних оплотов гибнущей Золотой Орды (Казань расположена вверх по течению реки, о которой повествуется в «Есире»). Однако столь же мощный посыл уравновешивает перекрёстные токи насилия в двух этих областях Востока: разговор индуса с волгарём — излюбленный Хлебниковым приём подачи сообщения о сопротивлении имперской власти. После первой встречи с брамином Истома оказывается на рынке, где в толпе ‹...› чаще и чаще слышалось имя Разина.43
где Блаватская названа важной в идейном отношении предтечей автора (is named as an important intellectual predecessor of the author). В обеих работах соответствия между геополитическими сдвигами используются для обоснования гипотезы о том, что англичане унаследовали и воспроизвели властные институты социального и политического угнетения времён Великих Моголов, а Россия в “Большой игре” вторит покорению Казани (XVI в.), одного из последних оплотов гибнущей Золотой Орды (Казань расположена вверх по течению реки, о которой повествуется в «Есире»). Однако столь же мощный посыл уравновешивает перекрёстные токи насилия в двух этих областях Востока: разговор индуса с волгарём — излюбленный Хлебниковым приём подачи сообщения о сопротивлении имперской власти. После первой встречи с брамином Истома оказывается на рынке, где в толпе ‹...› чаще и чаще слышалось имя Разина.43 Степан Разин, волжский пират XVII века, был обезглавлен в Москве после разгрома руководимого им восстания. Герой многих произведений Хлебникова,44
Степан Разин, волжский пират XVII века, был обезглавлен в Москве после разгрома руководимого им восстания. Герой многих произведений Хлебникова,44 Разин служит отправной точкой продолжительного разговора о прошлом и настоящем Индии (Razin provides the point of departure for a lengthy meditation on India’s past and present) в «Учителе и ученике». Сложив даты предводимого Разиным восстания, Хлебников приходит к 317 (By adding up the constituent numbers of the years in which Razin staged his uprising, Khlebnikov arrives at 317), предполагаемой дате просветления Будды.45
Разин служит отправной точкой продолжительного разговора о прошлом и настоящем Индии (Razin provides the point of departure for a lengthy meditation on India’s past and present) в «Учителе и ученике». Сложив даты предводимого Разиным восстания, Хлебников приходит к 317 (By adding up the constituent numbers of the years in which Razin staged his uprising, Khlebnikov arrives at 317), предполагаемой дате просветления Будды.45 В этой же таблице находим 1526, год победы первого императора Моголов Бабура в битве при Панипате.46
В этой же таблице находим 1526, год победы первого императора Моголов Бабура в битве при Панипате.46 Любопытно, что число 1857 в смежной ячейке — год, когда индусские и мусульманские солдаты Британской Ост-Индской компании подняли печально известное восстание сипаев.47
Любопытно, что число 1857 в смежной ячейке — год, когда индусские и мусульманские солдаты Британской Ост-Индской компании подняли печально известное восстание сипаев.47
В «Новом учении о войне» Хлебников математизирует предваряющие Первую мировую войну (во время которой сам он был ненадолго призван в армию, где назвал себя йогом в плену военщины48 ) знаковые события, причём в сводной таблице имена Разина и основательницы теософского движения расположены одно близ другого (a numeric frame that positions Razin close to the founder of the Theosophical movement). На первый взгляд, понятийное сближение Разина с Блаватской (Razin’s proximity to Blavatsky) противоречит здравому смыслу, ибо самые известные работы её — «Разоблачённая Изида» (1877), «Тайная доктрина» (1888) и «Ключи к теософии» (1889), считающиеся переводами посланий махатм (великих духов), имеют мало общего с реалиями прошлого и настоящего. Теософские сочинения Блаватской не содержат прямых ссылок на историю ни России, ни Индии, хотя эта американка русского происхождения много путешествовала и там, и тут. Исключение — «Из пещер и дебрей Индостана», повесть о её первых шагах на пути духовного просветления, включающая путевые очерки, опубликованные в русском переводе популярным еженедельником (serialized in Russian translation in a popular weekly) частями (1879–1886).49
) знаковые события, причём в сводной таблице имена Разина и основательницы теософского движения расположены одно близ другого (a numeric frame that positions Razin close to the founder of the Theosophical movement). На первый взгляд, понятийное сближение Разина с Блаватской (Razin’s proximity to Blavatsky) противоречит здравому смыслу, ибо самые известные работы её — «Разоблачённая Изида» (1877), «Тайная доктрина» (1888) и «Ключи к теософии» (1889), считающиеся переводами посланий махатм (великих духов), имеют мало общего с реалиями прошлого и настоящего. Теософские сочинения Блаватской не содержат прямых ссылок на историю ни России, ни Индии, хотя эта американка русского происхождения много путешествовала и там, и тут. Исключение — «Из пещер и дебрей Индостана», повесть о её первых шагах на пути духовного просветления, включающая путевые очерки, опубликованные в русском переводе популярным еженедельником (serialized in Russian translation in a popular weekly) частями (1879–1886).49 Целиком русская версия этого сочинения была издана в 1912 году,50
Целиком русская версия этого сочинения была издана в 1912 году,50 как раз тогда, когда Хлебников изучал санскрит (precisely when Khlebnikov was studying Sanskrit) и приступил к поиску новой философии истории.
как раз тогда, когда Хлебников изучал санскрит (precisely when Khlebnikov was studying Sanskrit) и приступил к поиску новой философии истории.
Потусторонний Восток
Критических комментариев к развёрнутому рассказу Блаватской о её „стремлении познать себя”51 в Индии нет. Однако даже беглый взгляд на «Из пещер и дебрей Индостана» подметит их удивительное сходство с воображаемым путешествием Хлебникова.
в Индии нет. Однако даже беглый взгляд на «Из пещер и дебрей Индостана» подметит их удивительное сходство с воображаемым путешествием Хлебникова. 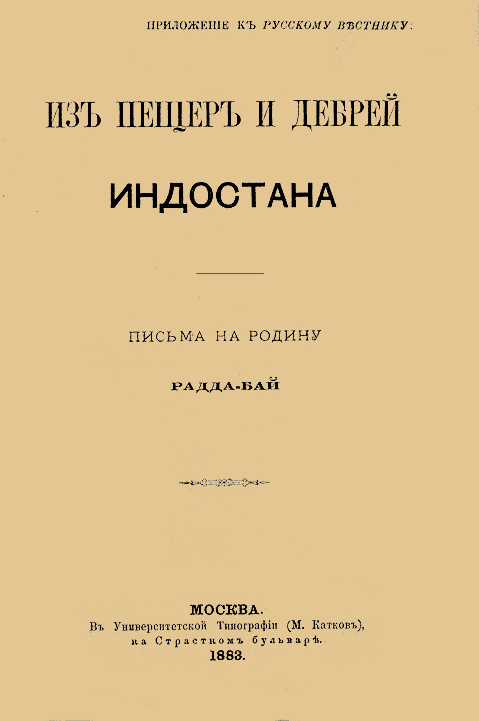 Рассказывая о местах, затерянных на просторах Азии подобно невзыскательному пограничью Истомы, Блаватская сходит с проторённых путей. Летописным событиями она предпочитает мифологию и предания, противопоставляя перлы мудрости, воспринятые при случайных встречах со странствующими святыми людьми, знаниям, кропотливо собранным кабинетными востоковедами. Подобно Хлебникову, Блаватская зачастую отказывается от событийной внятности путевого очерка ради мифопоэтических или аллегорических приёмов кодирования „скрытых”, „образных” измерений её путешествия.52
Рассказывая о местах, затерянных на просторах Азии подобно невзыскательному пограничью Истомы, Блаватская сходит с проторённых путей. Летописным событиями она предпочитает мифологию и предания, противопоставляя перлы мудрости, воспринятые при случайных встречах со странствующими святыми людьми, знаниям, кропотливо собранным кабинетными востоковедами. Подобно Хлебникову, Блаватская зачастую отказывается от событийной внятности путевого очерка ради мифопоэтических или аллегорических приёмов кодирования „скрытых”, „образных” измерений её путешествия.52
Политическая непредвзятость, с какой путешественница излагает каждый шаг на пути своего духовного обновления, заставляет подозревать «Из пещер и дебрей Индостана» важным первоисточником «Есира». Блаватская приписывает духовный первотолчок своей поездки Свами Даянанде Сарасвати (1824–1883) — личности, подобной хлебниковскому Кришнамурти. Даянанда, проникновенный знаток Адвайти Веданты, возглавил реформистское движение «Арья Самадж». Безоговорочный монизм Адвайти стал теоретической и духовной основой для массового движения против кастовой системы, неграмотности и бесправия женщин. Уверившись в праведности этого махатмы, Блаватская задумывается о применимости древнего учения Шанкары к современности.53
Даянанда был из числа первостепенных мыслителей второй половины XIX века, открыто связывавших сопротивление колониализму с возрождением незападных систем знания.54 Блаватская всецело принимает его изречение, почерпнутое из трудов Шанкары, „познай самого себя” (atmanan biddhi) как первый шаг к просветлению. Возвращение внутрь себя, в собственное прошлое, утверждает она, есть политический акт „разоблачения мифов, навязанных колонизаторами”.55
Блаватская всецело принимает его изречение, почерпнутое из трудов Шанкары, „познай самого себя” (atmanan biddhi) как первый шаг к просветлению. Возвращение внутрь себя, в собственное прошлое, утверждает она, есть политический акт „разоблачения мифов, навязанных колонизаторами”.55 Не случайно первое озарение Истомы в Индии — отклик на песнопение уличного мистика: Будь сам, самим собой, через самого себя углубляйся в самого себя.56
Не случайно первое озарение Истомы в Индии — отклик на песнопение уличного мистика: Будь сам, самим собой, через самого себя углубляйся в самого себя.56
Примеры самопознания, приводимые Блаватской, — Нанак,57 Кабир58
Кабир58 и Шиваджи59
и Шиваджи59 — те же исторические личности, о которых Кришнамурти сообщает Истоме при первой их встрече. Укладываясь в XVI–XVII века — времена восстания Разина — они играли важнейшую роль в духовном сближении Блаватской с Даянандой. Она воспринимает Арья Самадж как современное проявление духовных движений, подготовивших развал империи Великих Моголов. Идея Блаватской о реинкарнированном сопротивлении, хотя и диаметрально противоположна математической логике Хлебникова, выказывает подход к истории, поразительно схожий с его собственным; то же наблюдаем и в обоюдном увлечение сикхизмом. В «Из пещер и дебрей Индостана» есть целая глава о превращении сикхов из миролюбивых земледельцев, исповедующих экуменическое учение Нанака, в армию бойцов, сражающихся против Аурангзеба. Упоминая об этом восстании времён Великих Моголов, Блаватская предсказывает: сикхи, составляющие немалую часть вооружённых сил Британской Индии, однажды выступят против величайшей в мире имперской державы.60
— те же исторические личности, о которых Кришнамурти сообщает Истоме при первой их встрече. Укладываясь в XVI–XVII века — времена восстания Разина — они играли важнейшую роль в духовном сближении Блаватской с Даянандой. Она воспринимает Арья Самадж как современное проявление духовных движений, подготовивших развал империи Великих Моголов. Идея Блаватской о реинкарнированном сопротивлении, хотя и диаметрально противоположна математической логике Хлебникова, выказывает подход к истории, поразительно схожий с его собственным; то же наблюдаем и в обоюдном увлечение сикхизмом. В «Из пещер и дебрей Индостана» есть целая глава о превращении сикхов из миролюбивых земледельцев, исповедующих экуменическое учение Нанака, в армию бойцов, сражающихся против Аурангзеба. Упоминая об этом восстании времён Великих Моголов, Блаватская предсказывает: сикхи, составляющие немалую часть вооружённых сил Британской Индии, однажды выступят против величайшей в мире имперской державы.60 В «Есире» именно сикх выступает посредником единения Русского Востока с Британским. Признав в Кунби родственную душу, волжский рыбак заявляет: „Я тоже сикх”,61
В «Есире» именно сикх выступает посредником единения Русского Востока с Британским. Признав в Кунби родственную душу, волжский рыбак заявляет: „Я тоже сикх”,61 и этот последователь Нанака помогает Истоме бежать из неволи, оберегая от опасностей на пути в Индию.
и этот последователь Нанака помогает Истоме бежать из неволи, оберегая от опасностей на пути в Индию.
Подобный же позыв сострадания ближнему, внушённый учением Шанкары, побуждает Блаватскую к отказу от роли сторонней наблюдательницы. Полагая себя археологом утраченного знания, она решает искать „Индию, неведомую её завоевателям” и противостоять „клевете на вечный Восток”.62 Проект Блаватской, таким образом, не ограничивается прививкой Адвайти к современности. Её конечная цель — новый подход к Востоку, чуждый европейской мысли. Она высмеивает путеводители и путевые заметки: „Всё, что там сообщено, выказывает торгово-политические устремления европейцев, оставляя в тени великие возможности и сердце Индии”.63
Проект Блаватской, таким образом, не ограничивается прививкой Адвайти к современности. Её конечная цель — новый подход к Востоку, чуждый европейской мысли. Она высмеивает путеводители и путевые заметки: „Всё, что там сообщено, выказывает торгово-политические устремления европейцев, оставляя в тени великие возможности и сердце Индии”.63 Чтобы понять Адвайти Веданту, Блаватская обращается не к столпам санскритологии Уильяму Джонсу и Максу Мюллеру, а к изустно передаваемому — от Даянанды и отрекшихся от собственности йогов до уличных проповедников — знанию брахманов. Какой бы ни была достоверность её толкований, подоплёка теософской увлечённости “древнеиндийской философией” — неприятие востоковедения как приспешника империи. Знание Блаватской языков Индостана, в лучшем случае, поверхностно. Тем не менее, она не убоялась бросить вызов профессиональным филологам, уверенная в том, что “открытие” европейцами санскрита — следствие коммерческих и политических нужд, приведших к „слепой объективации” индийских языков и преданий.64
Чтобы понять Адвайти Веданту, Блаватская обращается не к столпам санскритологии Уильяму Джонсу и Максу Мюллеру, а к изустно передаваемому — от Даянанды и отрекшихся от собственности йогов до уличных проповедников — знанию брахманов. Какой бы ни была достоверность её толкований, подоплёка теософской увлечённости “древнеиндийской философией” — неприятие востоковедения как приспешника империи. Знание Блаватской языков Индостана, в лучшем случае, поверхностно. Тем не менее, она не убоялась бросить вызов профессиональным филологам, уверенная в том, что “открытие” европейцами санскрита — следствие коммерческих и политических нужд, приведших к „слепой объективации” индийских языков и преданий.64 Блаватская настаивает, что её слова надлежит воспринимать как двоякое противоядие: на уровне познания окружающей действительности и в качестве аллегории, раскрывающей суть духовных исканий.65
Блаватская настаивает, что её слова надлежит воспринимать как двоякое противоядие: на уровне познания окружающей действительности и в качестве аллегории, раскрывающей суть духовных исканий.65 Она предупреждает, что „поверхностному смыслу” слов и понятий, предлагаемому востоковедами, её собственное истолкование будет неизменно противоречить.66
Она предупреждает, что „поверхностному смыслу” слов и понятий, предлагаемому востоковедами, её собственное истолкование будет неизменно противоречить.66 Личностный уклон Адвайти, которым у Блаватской пронизана её критика сигнификации, очевиден и в смысловой многослойности «Есира». Памятуя о предъявляемых индологам обвинениях, на которые столь щедра теософия, неустанный поиск Хлебниковым подлинного значения слов приобретает явно политическую окраску.67
Личностный уклон Адвайти, которым у Блаватской пронизана её критика сигнификации, очевиден и в смысловой многослойности «Есира». Памятуя о предъявляемых индологам обвинениях, на которые столь щедра теософия, неустанный поиск Хлебниковым подлинного значения слов приобретает явно политическую окраску.67
Ещё более уместным применительно к его повести является критерий, устанавливаемый Блаватской для доступа к „глубочайшей истине”, стоящей за языками Индии.68 Она убеждена, что овладение таковой доступно лишь тем, кто связан с Востоком по праву рождения (She is convinced that authentic meaning is available only to those who organically belong to the East).69
Она убеждена, что овладение таковой доступно лишь тем, кто связан с Востоком по праву рождения (She is convinced that authentic meaning is available only to those who organically belong to the East).69 Однако признание себя азиаткой — нечто большее, чем риторический жест. Подходя к стойке таможни в Бомбее с американским удостоверением личности, Блаватская представляется британскому офицеру: „Русская дикарка” (Blavatsky defines herself as a „Russian savage” to the British officer).70
Однако признание себя азиаткой — нечто большее, чем риторический жест. Подходя к стойке таможни в Бомбее с американским удостоверением личности, Блаватская представляется британскому офицеру: „Русская дикарка” (Blavatsky defines herself as a „Russian savage” to the British officer).70 Иронический привкус её высказываний, ощутимый на протяжении всего повествования, наиболее отчётлив при описании реальных или умозрительных встреч с теми, кого принято считать знатоками дела: имперскими администраторами и западными санскритологами. Когда Блаватская называет себя русской дикаркой, она, думается, высмеивает подход англичан к России во время “Большой игры”.71
Иронический привкус её высказываний, ощутимый на протяжении всего повествования, наиболее отчётлив при описании реальных или умозрительных встреч с теми, кого принято считать знатоками дела: имперскими администраторами и западными санскритологами. Когда Блаватская называет себя русской дикаркой, она, думается, высмеивает подход англичан к России во время “Большой игры”.71 Однако в пикировке с профессиональными востоковедами — ни с кем из них она лично знакома не была — слова ‘русский’ и ‘дикость’ уже не идут рука об руку, что вполне соответствует внутреннему расколу России на Европу и Азию. В отличие от русских модернистов, бравирующих „родовыми связями с Востоком”, Блаватская подаёт себя азиаткой в колониальном смысле. Из тирад о врождённом знании тайн языка вдруг выглядывает негативная для русских “образина” широколицего, узкоглазого и плосконосого азиата: Блаватская с гордостью заявляет, что предки её были калмыками, а не славянами (she states militantly that her ancestors were not Slavs but Kalmyks).72
Однако в пикировке с профессиональными востоковедами — ни с кем из них она лично знакома не была — слова ‘русский’ и ‘дикость’ уже не идут рука об руку, что вполне соответствует внутреннему расколу России на Европу и Азию. В отличие от русских модернистов, бравирующих „родовыми связями с Востоком”, Блаватская подаёт себя азиаткой в колониальном смысле. Из тирад о врождённом знании тайн языка вдруг выглядывает негативная для русских “образина” широколицего, узкоглазого и плосконосого азиата: Блаватская с гордостью заявляет, что предки её были калмыками, а не славянами (she states militantly that her ancestors were not Slavs but Kalmyks).72
Именно такое происхождение приписывал себе и Хлебников (also claimed Kalmyk origins), что сильно повредило ему как русскому писателю-патриоту (a remarkable deconstruction of his own image as a Russian citizen and national man of letters). Известны несколько его кратких жизнеописаний; наиболее подробное из них — «Свояси» (1914). Анкета, или опрос — чисто имперское заведение, бытующее в России с XIX века. Поначалу анкетирование использовалось для контроля за инородческим населением империи (to catalog and regulate the non-Russian demographic of the empire), в дальнейшем опрос стал действенным орудием советского правительства и остаётся частью российской системы идентификации по сей день. Любопытно, что Хлебников подстраивает форму и идеологию анкетирования под себя. Под его пером бездушная отписка становится лирическим самоизъявлением, а её конфессиональная графа — средством испомещения представителя титульной нации на имперское пограничье.
Сочетая стилизованный стиль опроса с полётом фантазии, Хлебников выстраивает сложную тропологию своего появления на свет. В терминах, которые одновременно подчёркивают и опровергают парадигмальное противопоставление европейской и азиатской частей России, он показывает естественные преграды между ними — Волгу и Каспий — путями оживлённого сообщения. Поэт настаивает, что родился в Ханской ставке на полузатопленном острове в устье Волги (a half-submerged island on the Volga-Caspian estuary), похожем на полудикий, вытянутый в виде полумесяца Кулалы рыбака Истомы. Более того, поэт признаётся, что повязан со своей малой родиной текущей с его жилах „калмыцкой кровью” (Kalmyk blood, ‘Калмыцкая кровь’), с особым тщанием скрываемой русскими родословными (the most repressed part of Russia’s genealogy).73 Калмыки же оказываются и первым насельниками азиатской России, приютившими главного героя «Есира» (embrace the protagonist of «Yasir».). Тогда-то старый калмык и приобщает Истому (inducts Istoma) к шаманско-буддийско-исламскому мировоззрению своего народа посредством обряда винопития.
Калмыки же оказываются и первым насельниками азиатской России, приютившими главного героя «Есира» (embrace the protagonist of «Yasir».). Тогда-то старый калмык и приобщает Истому (inducts Istoma) к шаманско-буддийско-исламскому мировоззрению своего народа посредством обряда винопития.
Бросаемые такого рода признаниями (invocations of the Kalmyks parallel) вызовы в высшей степени свойственны и Блаватской. Будь то своеобразный теософ из кибитки (the Theosophist’s visage), поящий Истому из общего горшка чёрной водки (Istoma’s drinking from the common pot of „black vodka”) или текущая в жилах поэта кровь (or the blood in the poet’s veins), — именно телесность, а не отвлечённые умопостроения о пространстве и времени подвигают обоих писателей отождествить себя с кочевым племенем. Повествователь в указанных произведениях отнюдь не склонен соблюдать норматив действие → сообщение. Мэри Луиз Пратт создала красноречивый образ европейского путешественника — как правило, мужчины, — стоящего “над схваткой” бесплотного наблюдателя, чьи потуги на непредвзятость основаны на чуждости обстановке и людям, которых он описывает.74
Стратегия представления путешественника географическим, религиозным и этническим чужаком заимствована Хлебниковым и Блаватской из «Хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, в компании среднеазиатских купцов спустившегося по Волге в Астрахань, оттуда в Иран, и далее караванными тропами в юго-западную Индию. Хотя только Блаватская упоминает Никитина во введении к своему повествованию,75 его голос покрывает всё пространство «Есира». Подобно герою Хлебникова, купец XV века говорит на диковинной смеси русского, арабского, фарси и других языков Центральной Азии, взывая к Аллаху значительно чаще, нежели к христианскому Господу.76
его голос покрывает всё пространство «Есира». Подобно герою Хлебникова, купец XV века говорит на диковинной смеси русского, арабского, фарси и других языков Центральной Азии, взывая к Аллаху значительно чаще, нежели к христианскому Господу.76
Путешествие Никитина из России в Индию имеет решающее значение для понимания того, как Хлебников дополняет и, в итоге, превосходит Блаватскую. Несмотря на то, что в «Из пещер и дебрей Индостана» сообщения купца XV века приведены, духовное перерождение носителя русского языка к теософским поискам подлинности не имеет ровно никакого отношения. Да, нападки Блаватской на филологию как имперское учреждение сами по себе революционны. Но её кругозор не охватывает всего проживающего на просторах Евразии многоэтнического, многоконфессионального, многоязычного сообщества, сквозь которое Никитин двигался „за три моря”, меняясь ка личность.
В «Есире» же видим весь путь “раскультуривания” купца Азией. Причём Хлебников не только воспроизводит многообразие усвоенных Никитиным языков, но пополняет его тезаурус классическим санскритом. Смешанный язык омусульманившегося купца подрывает самовластие двух национальных идентичностей — православной христианской России и индуистской Индии, — открывая их этим для иных пространств и голосов.
Теософия освобождения
Посредством уравнивания священнодействий старого калмыка и Кришнамурти Хлебников показывает обоюдозаряженность трансазийской переклички «Есира». В Астрахани индийский мудрец совершает обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжёлого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в тёмные воды Волги — Северной невесты!77 Вскоре после этого кочевник обучает Истому поклонению ветру, овевающему Евразию (the nomad instructs Istoma in the worship of wind that flows across Eurasia). Движимые соединёнными стихями ветра и воды караваны торговцев, подобные никитинскому, преодолевают естественные барьеры не только между европейской и азиатской частями России, но и между индуистской и исламской Индией. Стихии же определяют и конечную цель пути: “пустота” калмыцкой космологии (the blank “space” ‘пустота’ of Kalmyk cosmology)78
Вскоре после этого кочевник обучает Истому поклонению ветру, овевающему Евразию (the nomad instructs Istoma in the worship of wind that flows across Eurasia). Движимые соединёнными стихями ветра и воды караваны торговцев, подобные никитинскому, преодолевают естественные барьеры не только между европейской и азиатской частями России, но и между индуистской и исламской Индией. Стихии же определяют и конечную цель пути: “пустота” калмыцкой космологии (the blank “space” ‘пустота’ of Kalmyk cosmology)78 идентична мокше, освобождению от земных уз, в философии Адвайти.
идентична мокше, освобождению от земных уз, в философии Адвайти.
Однако путешествие не заканчивается этим откровением. Прорвав серебристую ткань обмана,79 рыбак с Волги превращается в писателя, чья лучшая книга — белые страницы — книга природы, среди облаков.80
рыбак с Волги превращается в писателя, чья лучшая книга — белые страницы — книга природы, среди облаков.80 Содержание этой книги раскрыто в манифесте «Индо-русский союз»,81
Содержание этой книги раскрыто в манифесте «Индо-русский союз»,81 составленном Хлебниковым одновременно с «Есиром» (1918–1919). О сути воображаемого литературно-политического диалога окраин России с заморской колонией Британии двух мнений быть не может: манифест перенацеливает международный вектор Октябрьской революции. Обращённый изначально в сторону капиталистического Запада, он должен развернуться к „Востоку во всей его пространственной полноте”.82
составленном Хлебниковым одновременно с «Есиром» (1918–1919). О сути воображаемого литературно-политического диалога окраин России с заморской колонией Британии двух мнений быть не может: манифест перенацеливает международный вектор Октябрьской революции. Обращённый изначально в сторону капиталистического Запада, он должен развернуться к „Востоку во всей его пространственной полноте”.82
Предлагая объединить великие народы материка Асцу (Китай, Индию, Персию, Россию, Сиам, Афганистан), Хлебников видит Индо-русский союз отнюдь не переизданием Союза Советских Социалистических Республик. Воображаемая федерация должны быть “зоной свободы передвижения” по просторам Азии, уже не разделённой геополитическими границами. Памятуя о том, что утопия в переводе с др.-греч. οὐ (не) + τόπος (место), Асцу допустимо истолковать как иносказание „пустого пространства”, где оказался Истома в конце пути (ASSU can be interpreted as a terrestrial realization of the “blank space” inhabited by Istoma at the end of his journey). Неудивительно, что именно в Астрахани, соединяющей три мира — арийский, индийский и каспийский, треугольник Христа, Будды и Магомета, — волею судьбы образован этот союз,83 Хлебников видит ядро евразийского общежития, основа которого — взаимодействие, а не этно-пространственное обособление.84
Хлебников видит ядро евразийского общежития, основа которого — взаимодействие, а не этно-пространственное обособление.84
Подвижные сообщества прошлого и будущего, которые стирают не только территориальные, языковые и религиозные границы, но и границы между торговлей, духовностью и политикой, порождают спорную географию повести Хлебникова, раскрывая при этом его кредо: свободу. Проистекающее из подспудных связей двух Востоков, мировоззрение «Есира» может показаться чрезмерно передовым для России начала ХХ века. Но эпохе деколонизации и глобализации, когда люди, тексты, идеи и образы мгновенно переносятся через необъятные пространства, оно созвучно как никакое другое. При всём несходстве высказываний Блаватской о Индостане и понимания Хлебниковым степного Поволжья — обманчиво пустого пространства с его языковыми, этническими и религиозными пересечениями, — оба отвергают насилие статичных, одномерных концепций национальной идентичности.
————————
Примечания *
* Этот и все остальные неатрибутивные переводы принадлежат мне. —
А.Б.
 **
** Заключение в круглые скобки высказываний автора указывает на сомнение переводчика в соответствии таковых истине. —
В.М. 1 Р. Дуганов
1 Р. Дуганов. «Новое учение о войне». Поэт, История, Природа. Appendix // Вопросы литературы 10 (1985). С. 184.
 2
2 Collected Works of Velimir Khlebnikov / trans. Paul Schmidt. 3 vols.
Cambridge: Harvard UP. 1987–1998. P. 103.
 3 Велимир Хлебников
3 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 187.
 4 Ibid
4 Ibid, с. 191.
 5 Blavatsky, H.P
5 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical. 1975. Print. Supp. to vol. 50 of Collected Writings. P. 54, 55, 89, 91.
 6
6 Ранние исследования отношения Хлебникова к Востоку:
Ю.М. Лощиц и В.Н. Турбин. Тема Востока в творчестве Хлебникова // Народы Азии и Африки 4 (1966): 147–60;
воспроизведено на www.ka2.ruMirsky, Salomon. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs.
Münich: Verlag Otto Sagner. 1975;
воспроизведено на www.ka2.ruТартаковский, П.И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебникова в 1900–1910-е годы.
Ташкент: ФАН. 1987
воспроизведено на www.ka2.ruстрадают не только отсутствием критического отношения к этому термину, но и своего рода географической всеядностью: создаётся впечатление, что Япония, Китай, Персия и Индия существуют как единое — не только в тропологическом, но и в идеологическом плане — с Центральной Азией или Кавказом образование. Даже посвящённая «Есиру» монография, где “восточным ”источникам повести уделено самое пристальное внимание (
Drews, Peter. «Esir». Velimir Khlebnikov, 1885–1985 / ed. Johannes Holthusen.
Munich: Sagner. 1986. P. 154), пребывает в той же парадигме. Напротив, Ronald Vroon и Harsha Ram предлагают тонкие, историзированные комментарии к контекстам, которые ранее объединялись термином “Восток”.
 7 Said, Edward
7 Said, Edward. Culture and Imperialism.
New York: Vintage. 1994. P. 10.
 8
8 В то время как критики из разных областей науки уделяют всё больше внимания определяющей роли Азии в формировании российской идентичности, исследователи литературы и истории культуры творчески используют постколониальную теорию для моделирования национально-специфического ориентализма. Однако, как отмечает Харша Рам, „прочтение сказанного как синекдохи постколониальной критики в целом” существенно ограничивает поиски этих учёных. Следовательно, дискуссии об отношениях между европейским и российским ориентализмами по-прежнему сосредоточены на том, что Рам называет „миметически-репрезентативными” влияниями, вместо того чтобы переходить к обсуждению идеологических и риторических формаций. (
Ram, Harsha. Between 1917 and 1947: Postcoloniality and Russia-Eurasia. PMLA 121.3. 2006. P. 832).
 9 Chatterjee, Partha
9 Chatterjee, Partha. The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories.
Princeton: Princeton UP. 1993. P. 76–115.
 10 Gandhi, Leela
10 Gandhi, Leela. Affective Communities: Anticolonial Thought, Fin-de-Siecle Radicalism, and the Politics of Friendship.
Durham: Duke UP. 2006. P.7.
 11 Chaadayev, Peter
11 Chaadayev, Peter. Philosophical Letters and Apology of a Madman / trans. Mary-Barbara Zeldin.
Knoxville: U of Tennessee P. 1969. Р. 41.
 12
12 См.:
Bassin, Mark. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // Slavic Review 50.1 (1991): 1–17;
Frank, Susi K. Orte und Raüme der russischen Kultur. Aus Anlaæ einer geokulturologischen Untersuchung zur russischen
usad’ba von Vasilij Ščukin // Die Welt der Slaven 45 (2000): 103–32;
Wolff, Larry. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment.
Stanford: Stanford UP. 1994.
 13 Bassin, Mark
13 Bassin, Mark. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // Slavic Review 50.1 (1991). Р. 4–8.
 14 Lo Gatto, Ettore
14 Lo Gatto, Ettore.
Panmongolismo di V. Solov’ёv,
I venienti Unni di V. Brjusov, e
Gli Sciti di A. Blok // For Roman Jakobson.
The Hague: Mouton. 1956. 296–300;
Nivat, Georges. Du ‘Panmongolisme’ au ‘Mouvement eurasien’: Histoire d’un thème littéraire // Cahiers du monde russe et soviétique 3 (1966): 460–78;
Mirsky, Salomon. Der Orient im Werk Velimir Chlebnikovs.
Münich: Verlag Otto Sagner. 1975. P. 36–48;
Ram, Harsha. The Poetics of Empire: Velimir Khlebnikov between Empire and Revolution // Social Identities in Revolutionary Russia / ed. Madhavan Palat.
Basingstoke: Palgrave. 2001. P. 210–211;
Vroon, Ronald, and Andrea Hacker. Velimir Khlebnikov’s ‘Perevorot v Vladivostoke’: History and Historiography // Russian Review 60.1 (2001): 36–55.
 15 Cooke, Raymond
15 Cooke, Raymond. Velimir Khlebnikov: A Critical Study.
New York: Cambridge UP. 1987. P. 140;
воспроизведено на www.ka2.ruRam, Harsha. The Poetics of Empire: Velimir Khlebnikov between Empire and Revolution // Social Identities in Revolutionary Russia / ed. Madhavan Palat.
Basingstoke: Palgrave. 2001. P. 216–17.
 16 Победоносцев, К.П
16 Победоносцев, К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1.
М.: ГИЗ. 1923. С. 576.
 17 Тартаковский, П.И
17 Тартаковский, П.И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебникова в 1900–1910-е годы.
Ташкент: ФАН. 1987. С. 23.
 18 Carlson, Maria
18 Carlson, Maria. No Religion Higher Than Truth: A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922.
Princeton: Princeton UP, 1994. P. 188–205.
 19 Bowlt, John
19 Bowlt, John. Esoteric Culture and Russian Society // The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890–1985.
New York: Abbevill. 1986. Р. 165–83;
Douglas, Charlotte. Beyond Reason: Malevich, Matiushin, and Their Circles // The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890–1985.
New York: Abbeville, 1986. Р. 185–200.
 20 Banerjee, Anindita
20 Banerjee, Anindita. The Trans-Siberian Railroad and Russia’s Asia: Literature, Geopolitics, Philosophy of History // Clio 34.2 (2005). Р. 26–29.
 21 И. Бунин
21 И. Бунин. Чехов // Собрание сочинений. Т. 5.
M.: Правда. 1956. С. 264–273.
 22 В. Брюсов
22 В. Брюсов. Гимн Атону //Собрание сочинений в 7 томах. Т. 2.
M.: Художественная литература. 1973–1975. С. 382.
 23 А. Блок
23 А. Блок. Вопросы, вопросы, вопросы // Собрание сочинений в 8 томах. Т. 5.
M.: Художественная литература. 1960–1963. С. 330–338.
 24 Bowlt, John
24 Bowlt, John. Esoteric Culture and Russian Society // The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890–1985.
New York: Abbevill. 1986. Р. 171.
 25 Spurr, David
25 Spurr, David. The Rhetoric of Empire: Colonial Discourse in Journalism, Travel Writing, and Imperial Administration.
Durham: Duke UP. 1993. Р. 59.
 26 Владимир Соловьёв
26 Владимир Соловьёв. Стихотворения и статьи.
Munich: Fink. 1968.
 27 Said, Edward
27 Said, Edward. Orientalism.
New York: Vintage. 1979. Р. 19.
 28 Велимир Хлебников
28 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том 6–2.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 146.
 29 Bowlt, John
29 Bowlt, John. Esoteric Culture and Russian Society // The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890–1985.
New York: Abbevill. 1986. Р. 178.
 30
30 Необычное слияние мистицизма и политического сознания в вымышленной фигуре Кришнамурти очевидно и в лирическом образе Куррат эль-Айн, радикального исламского мистика, возглавлявшей антиколониальные восстания в Иране и Азербайджане. См.:
Vroon, Ronald. Qurrat al-Ayn and the Image of Asia in Velimir Khlebnikov’s Post-revolutionary Oeuvre // Russian Literature 50 (2001): 335–62.
 31 Велимир Хлебников
31 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 187.
 32 Ibid
32 Ibid, с. 190.
 33 Ibid
33 Ibid, с. 191.
 34 Ibid
34 Ibid, с. 193–194.
 35 Ibid
35 Ibid, с. 200.
 36 Ibid
36 Ibid, с. 201.
 37 Carlson, Maria
37 Carlson, Maria. No Religion Higher Than Truth: A History of the Theosophical Movement in Russia, 1875–1922.
Princeton: Princeton UP, 1994. Р. 97.
 38 Vohra, Ranbir
38 Vohra, Ranbir. The Making of India. 2nd ed.
New York: Sharpe, 2001. P. 131.
 39 Cooke, Raymond
39 Cooke, Raymond. Velimir Khlebnikov: A Critical Study.
New York: Cambridge UP. 1987. P. 140).
 40 В.В. Иванов
40 В.В. Иванов. Категория времени в искусстве и культуре ХХ века // Structure of Texts and Semiotics of Culture / ed. Jan van der Eng.
The Hague: Mouton, 1973. P. 105.
 41 Велимир Хлебников
41 Велимир Хлебников. Учитель и ученик // Творения / ред. М.Я. Поляков.
М.: Советский писатель. 1986. С. 288.
 42 Р. Дуганов
42 Р. Дуганов. «Новое учение о войне». Поэт, История, Природа. Appendix // Вопросы литературы 10 (1985). С. 185.
 43 Велимир Хлебников
43 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 190.
 44 Vroon, Ronald
44 Vroon, Ronald. Velimir Khlebnikov’s ‘The Seashore’ (‘Morskoi bereg’) and the Razin Constellation // Russian Literature Triquarterly 12 (1974): 295–326;
Vroon, Ronald. Velimir Khlebnikov’s ‘Razin: Two Trinities’: A Reconstruction // Slavic Review 39.1 (1980): 68
84.
 45 Велимир Хлебников
45 Велимир Хлебников. Учитель и ученик // Творения / ред. М.Я. Поляков.
М.: Советский писатель. 1986. С. 285.
 46 Ibid
46 Ibid, с. 290.
 47 Ibid
47 Ibid, с. 291.
 48 Vroon, Ronald
48 Vroon, Ronald. Introduction. Khlebnikov, Collected Works 3: 1.
 49 Zirkoff, Boris
49 Zirkoff, Boris. Preface. From the Caves and Jungles of Hindostan. By H.P. Blavatsky.
Wheaton: Theosophical. 1975. ХХХ.
 50 Ibid
50 Ibid, ХХХI.
 51 Blavatsky, H.P
51 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 47.
 52 Ibid
52 Ibid, p. 9.
 53 Ibid
53 Ibid, p. 16–37.
 54 Vohra, Ranbir
54 Vohra, Ranbir. The Making of India. 2nd ed.
New York: Sharpe, 2001. P. 103.
 55 Blavatsky, H.P
55 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 20–21.
 56 Велимир Хлебников
56 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 198.
 57 Blavatsky, H.P
57 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 209–238.
 58 Ibid
58 Ibid, p. 381–385.
 59 Ibid
59 Ibid, p. 60–69, 130–132.
 60 Ibid
60 Ibid, p. 234–35.
 61 Велимир Хлебников
61 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 197.
 62 Blavatsky, H.P
62 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 9–10, 12.
 63 Ibid
63 Ibid, p. 4–5, 10–11.
 64 Ibid
64 Ibid, p. 92–102, 113–18.
 65 Ibid
65 Ibid, p. 910.
 66 Ibid
66 Ibid, p. 23.
 67 Cooke, Raymond
67 Cooke, Raymond. Velimir Khlebnikov: A Critical Study.
New York: Cambridge UP. 1987. P. 67–103.
 68 Blavatsky, H.P
68 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 185.
 69 Ibid
69 Ibid, p. 484.
 70 Ibid
70 Ibid, p. 12.
 71 Malia, Martin
71 Malia, Martin. Russia under Western Eyes.
Cambridge: Harvard UP. 1999. P. 92, 98.
 72 Blavatsky, H.P
72 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 50.
 73 Велимир Хлебников
73 Велимир Хлебников Анкета // Собрание сочинений / ред. Р.В. Дуганов. Т. 4.
M.: РАН. 2000. С. 58.
 74 Pratt, Mary Louise
74 Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation.
New York: Routledge. 1992. P. 59.
 75 Blavatsky, H.P
75 Blavatsky, H.P. From the Caves and Jungles of Hindostan.
Wheaton: Theosophical, 1975. Р. 3.
 76 Banerjee, Anindita
76 Banerjee, Anindita . By Caravan and Campfire: Chorasani Narratives about Hindustan and Afanasij Nikitin’s Journey beyond Three Seas // Die Welt der Slaven 48 (2003): 69–80.
 77 Велимир Хлебников
77 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Том пятый.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 191.
 78 Ibid
78 Ibid, с. 195.
 79 Ibid
79 Ibid, с. 200.
 80 Ibid
80 Ibid, с. 199.
 81 Велимир Хлебников
81 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Т. 6–1.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 271–272.
 82 Ram, Harsha
82 Ram, Harsha. The Poetics of Empire: Velimir Khlebnikov between Empire and Revolution // Social Identities in Revolutionary Russia / ed. Madhavan Palat.
Basingstoke: Palgrave. 2001. P. 224.
 83 Велимир Хлебников
83 Велимир Хлебников. Собрание сочинений в шести томах / под общей редакцией Р.В. Дуганова. Т. 6–1.
М.: ИМЛИ РАН. 2004. С. 271.
 84 Vroon, Ronald
84 Vroon, Ronald. Qurrat al-Ayn and the Image of Asia in Velimir Khlebnikov’s Post-revolutionary Oeuvre // Russian Literature 50 (2001): 341–342.
Воспроизведено по:
Anindita Banerjee. Liberation Theosophy:
Discovering India and Orienting Russia between Velimir Khlebnikov
and Helena Blavatsky.
PMLA, 126.3. 2011. P. 610–624.
см. здесь
Перевод В. Молотилова
Изображение заимствовано:
Н.К. Калмаков (1873–1955). Женщины Наджи (Les femmes des Nadjis). 1911.
51.5 × 71 см. Бумага, пастель, цветные мелки. Частное собрание.



 lena Blavatsky was the only one who traveled to India in search of what it means to be a Russian (Одна Блавацкая поехала в Индию, чтобы узнать, что такое быть русским).*
lena Blavatsky was the only one who traveled to India in search of what it means to be a Russian (Одна Блавацкая поехала в Индию, чтобы узнать, что такое быть русским).*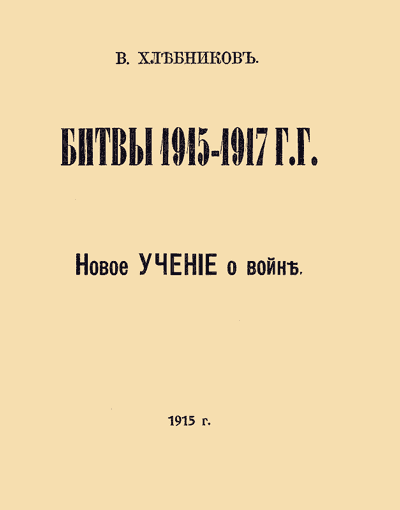 Словно бравируя этим, его короткая лирическая повесть «Есир» — название это Пол Шмидт2
Словно бравируя этим, его короткая лирическая повесть «Есир» — название это Пол Шмидт2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
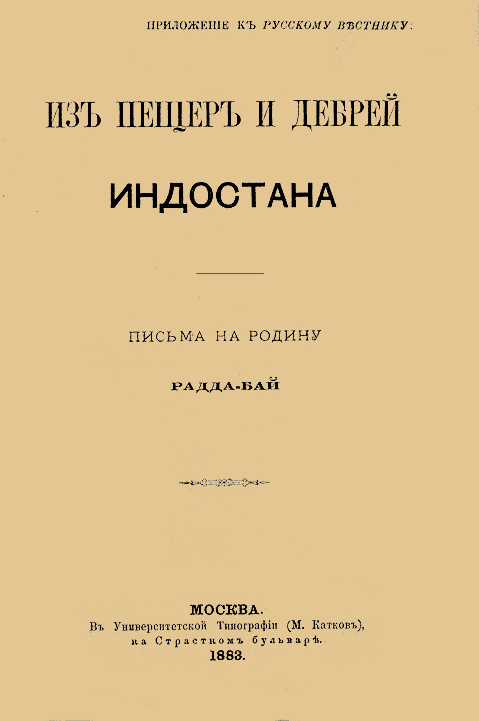 Рассказывая о местах, затерянных на просторах Азии подобно невзыскательному пограничью Истомы, Блаватская сходит с проторённых путей. Летописным событиями она предпочитает мифологию и предания, противопоставляя перлы мудрости, воспринятые при случайных встречах со странствующими святыми людьми, знаниям, кропотливо собранным кабинетными востоковедами. Подобно Хлебникову, Блаватская зачастую отказывается от событийной внятности путевого очерка ради мифопоэтических или аллегорических приёмов кодирования „скрытых”, „образных” измерений её путешествия.52
Рассказывая о местах, затерянных на просторах Азии подобно невзыскательному пограничью Истомы, Блаватская сходит с проторённых путей. Летописным событиями она предпочитает мифологию и предания, противопоставляя перлы мудрости, воспринятые при случайных встречах со странствующими святыми людьми, знаниям, кропотливо собранным кабинетными востоковедами. Подобно Хлебникову, Блаватская зачастую отказывается от событийной внятности путевого очерка ради мифопоэтических или аллегорических приёмов кодирования „скрытых”, „образных” измерений её путешествия.52![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()