





И это только говорится — Анонимного Автора, а на самом деле (разоблачаю явочным порядком во славу Его Личности) это — Николай Дмитриевич Филиппов, чьё поэтическое вниманье к Поэту Василью Каменскому гордо заставляет меня на этой странице дружески обнять и расцеловать Николая Дмитриевича.
 И Поэт ультрафиолевыми лучами глаз — когда в глубокой комнате Прасковьи Ефимовны поёт Стихи Свои — провидит кроткую душу Анонимного Автора, душу, взлетевшую до чудесного ожерелья из напевных строк:
И Поэт ультрафиолевыми лучами глаз — когда в глубокой комнате Прасковьи Ефимовны поёт Стихи Свои — провидит кроткую душу Анонимного Автора, душу, взлетевшую до чудесного ожерелья из напевных строк:
Славный Друг Поэт, Я нежно взволнованно благодарю Тебя за этот звучальный порыв во имя Еgо вершинное.
Я ведь знаю:
В расцветных долинах грядущих дней Ты ещё не раз в ответ услышишь о Чуде, посланном Тебе в подарок Васильем.
———————
Из Кисловодска мы — Я с Володей Гольцшмидтом — дали одну гастроль во Владикавказе,  а вернувшись, подписали контракт с дирекцией Казарова и Акопова гастролировать по Кавказу.
а вернувшись, подписали контракт с дирекцией Казарова и Акопова гастролировать по Кавказу.
Трёхмесячная нарзанно-искристая жизнь кончалась.
За это время Поэт побывал на Эльбрусе (верхом), Бештау, Бермамыте, Машуке, Джинале, Нарзанной Долине, на Казбеке — по Военно-Грузинской дороге.
Был на месте дуэли Лермонтова, любимца Поэта в юношестве.
Он написал о Нём стих, напечатанный тогда же у Петросяна в Кавказком Крае, где, впрочем, были также напечатаны Кисловодск, Ессентуки, Железноводская лань.
В конце августа Поэт, опьянённый не меньше кахетинским, чем девушками, оставил Кисловодск.
Еgо не совсем трезвое состоянье облегчило отъезд.
Дальше.
На автомобиле от Владикавказа Он поехал по Военно-Грузинской дороге — вдоль шумного Терека — Дарьяльским ущельем — через Крестовый перевал — долиной Арагвы — до оранжерейного Тифлиса.
В Тифлисе Поэт поселился зимовать.
Я снял уютную комнату на Кипиановской 8 в грузинской милой семье Кучихидзе, где Он немного научился грузинскому языку.
Ряд гастролей в Тифлисе и вокруг: Баку, Кутаис, Батум (контракт) дали Поэту здесь горячее кавказское шумное вниманье.
Кавказское слово по случаю приезда Поэта напечатало Еgо стихотворенье Тифлис и ряд статей, посвящённых Еgо выступленьям.
Такое же сердечное вниманье оказали Ему Оризон, Сахалхо-Пурцели, Закавказская Речь, Тифлисский Листок и другие многие газеты столицы.
Конечно, много и острили — особенно популярный А.И. Канчели, Н. Захарова, Букштейн, Н. Дундарова.
Критик Я. Камский в Закавказской Речи чутко, культурно, тонко писал о Нём фельетоны.
Согретый исключительным вниманьем Поэт решил напечатать здесь книгу стихов Девушки Босиком, матерьял для которой имелся в изобилии.
 В цирке Ефимова выступал чемпионат лучших мировых борцов, среди богатырей был знаменитый борец и авиатор Иван Заикин. Ещё будучи студентом, Поэт был его горячим поклонником в Петрограде.
В цирке Ефимова выступал чемпионат лучших мировых борцов, среди богатырей был знаменитый борец и авиатор Иван Заикин. Ещё будучи студентом, Поэт был его горячим поклонником в Петрограде.
Встреча двух чемпионов Тела и Духа, Ивана Заикина и Василья Каменского, состоялась в духане за кахетинским с лезгинкой.
Вскоре они — два бурлака Волги да Камы — близко подружились и почти не раставались.
Поэт постоянно ходил в цирк и хорошо познакомился с товарищами Заикина: Иваном Поддубным, Алексеем Кельцовым (арбитр и талантливый яркий парень), Клеменсом Булем, Вахтуровым, Святогором, негром Ципсом, Яковом Лешим, Манько и со всеми артистами цирка, среди которых остро выделялся замечательный клоун-гимнаст Донато, всеобщий любимец.
Поэт чаще и чаще стал вспоминать свою рыцарскую клятву в детстве: во что бы то ни стало послужить в цирке артистом.
Для пробы Поэт в день бенефиса друга Заикина неожиданно для всех появился на арене перед публикой в кругу чемпионата с хартией — сказал приветную речь бенефицианту Заикину и прочитал ему своё стихотворенье-экспромт.
Заикин воистину обладает изумительной интуитивной стихийностью — в его размахе чувствуется волжское раздолье бурлака–мудреца–поэта.
Искренность, внутренняя талантливость, сердечность Заикина очаровали Поэта, впервые встретившего в жизни феномен Интуиции, которая даёт Заикину чудесную духовную широту и яркую образность.
И дружбу с Поэтом (известно также, что Заикин давний друг Куприна) Он сказал:
— Заикин — слон с душой поющей девушки.
Неожиданно в Тифлис приехал А. Куприн прочитать лекцию Судьба Русской Литературы.
 А. Куприн, Василий Каменский и Заикин дружно слились в Кахетинский триумвират, и духаны расцвели и закружились в виноградных возможностях.
А. Куприн, Василий Каменский и Заикин дружно слились в Кахетинский триумвират, и духаны расцвели и закружились в виноградных возможностях.
— Ай шени-чериме.
Осенний сезон в цирке Ефимова (ныне построен новый, зимний цирк) кончился, чемпионат во главе с Заикиным перешёл в зимний цирк Есиковского.
Директор Есиковский — вероятно по совету Заикина — сделал предложенье Василью Каменскому выступить у него в цирке рядовым гастролёром: в костюме Стеньки Разина верхом на коне исполнить песни из Еgо романа, а перед началом сказать речь о поэзии цирка — демократизации Искусства.
Мысль Поэту понравилась.
Он согласился на три гастроли.
Я переговорил об условьях и подписал контракт.
Дебют прошёл славно.
Поэт много волновался и светло торжествовал: ведь Он сдержал рыцарское слово — клятву ребёнка, выступил в цирке артистом.
Еgо цирковые товарищи трогательно Еgо обступили после номера и благодарили за речь, где возносилось демократическое искусство цирка — от римского до сегодняшнего цирка, где цирковые артисты славились мастерством пластики и яркой любовью к круглой арене, где Поэт пророчествовал расцвет современного цирка с участьем лучших сил Единого Искусства Синтеза.
Буржуазная пресса Москвы и Петрограда осудила Поэта за демократизацию поэзии, ничуть не предполагая революционного взрыва.
Ещё бы: разве, мол, пристойно Поэту, хотя бы и народному — автору Стеньки Разина — выступать в цирке, в котором уличная простая публика даже не раздевается, а артисты цирка все — клоуны (Утро России, Театр, газ. Нов. Сатирикон, Ж. Журналов).
А вот Поэт прикоснулся к цирковой публике, к цирковым артистам и искренно-трепетно полюбил цирк, где чуткости, культурности, мастерства и соборности в сотню раз больше любого театра, всегда пошлой драмы с пошлыми актёрами — сплошь бездарными дилетантами.
Ведь когда-то Поэт был близок к драматическому театру, и с ужасом об этом вспоминает.
Цирк же преобразил Его, возродил, орадостил. Поэт будто помолодел на 10 лет. Вместо трёх гастролей прошло восемь. Последняя — Еgо бенефис.
Однако Поэт утомился гастролями, и Я серьёзно взялся за печатанье книги стихов Девушки босиком с помошью Заикина.
Работа пошла энергично: нашлась типография, бумага, появилась корректура.
Я не спал ночи, исправляя корректуру.
Через месяц Девушки Босиком — 2-я книга стихов Василья Каменского — вышла.
Обычная пятница литературного салона Назаряна была посвящена новой книге.
Автор Девушки Босиком говорил речь о футуризме, читал стихи.
От лица новой армянской поэзии Поэта приветствовал Поэт Кара-Дэрвиш — светлая талантливая голова (автор Свирель Жизни).
Поэт стал часто выступать со стихами в благотворительных кафэ, куда Он являлся, встречаемый обычно апплодисментами.
В газетах-журналах появились как всегда обильные и разнообразные рецензии.
Книга разлеталась стремительно: один только Тифлис разобрал пол-изданья.
Нечаянно появился Д. Кручёных, и Поэты вместе с художником Кириллом Зданевичем (изумительный мастер динамических рисунков) затеяли альбомную книгу 1918 (цена 25 руб. экз.) — и быстро выпустили.
Тогда же из Петрограда от издательства Современное Искусство Н.И. Бутковской пришла телеграмма, что Книга о Евреинове вышла, и авторский экземпляр выслан.
Таким образом, вышла 5-я книга Василья Каменского.

Когда от культурной, энергичной издательницы Натальи Ильинишны Бутковской Книга о Евреинове была получена, Поэт возрадовался кахетински: Он схватил в охапку эту желанную, с любовью изданную книгу (яркая обложка А.К. Шервашидзе) и побежал в духан над Курой справлять свой авторский праздник.
И — эх, большой таши — зазвучала лезгинка в мыслях, в сердце, во всех радугах Саэро.
И не было Поэту удержу — так понравилась Ему заколдованная Книга о Евреинове.
Кахетинские восторги переливались водопадно.
Пускай знают заботливые друзья Н.И. Бутковская, Е.Я. Молчанова, Н.Н. Евреинов, что в эти дни пробегающая с вершин Кура видела Поэта сияющим в облаках.
И не слабее сиял Иван Заикин — оба с сигарами, с песнями.
Где-то напротив сидела Соня с Георгием Артемьевичем Харазовым, остроумным доктором математики. Или их не было — Поэт не помнит.
Нина Дубченко, поэтесса и друг Поэта, ушла на курсы.
А где друг Володя Гольцшмидт, в какие страны уаэропланил он ворочать человеческие души телеграфными столбами, кого он — рыцарь солнечных радостей — убедит истинно жить, а не проживать жизнь — эххх-ммма.
———————
 Старушка-Кремль (Карамель) новых дней подвергнут бичеванию:
Старушка-Кремль (Карамель) новых дней подвергнут бичеванию:———————
Эй — кабаки, кафэ, биллиардные, базары, пристани, вокзалы, курорты — величайшей благодарностью преисполнен вам Поэт за вольнотворческий приют.
У вас в гостях истинно отдыхал Он.
И отдыхая, затевал удивительные затеи.

В кабаках — в общем стеклянном шуме — за бутылкой сочной виноградности — опьянённый — Он чуял Себя уплывающим облаком к берегам Цейлона или вспоминал песню арабианки:
Взбалмошная Еgо голова кричала:
Песнепьянство кружилось карусельно.
В кафэ (в Москве часто у Бома на Тверской), среди курящих и дамских шляп, за чёрным турецким кофе с сигарой Он, затуманенно — прищурив правый глаз — просматривал Новый Сатирикон и Журнал Журналов, где Аверченко и Василевский острили над Еgо выступленьями в цирке.
И не понимал Поэт, почему это журнал и газеты брезгливо-высокомерно относятся к великолепному яркому Искусству Цирка (Поэт демократизирует своё Творчество), а о гнилой похабщине барынь Вербицких (статьи Василевского) писать не стыдятся.
Поэт любит Цирк и пророчит ему сказочный расцвет теперь же, если в Цирк будут также привлечены Поэты, Художники, Певцы, Музыканты.
На базарах, пристанях, вокзалах Ему нравится движенье пёстрой толпы, смена лиц, торопливость, трепет, шум, звонки, свистки.
На базарах Он всегда ищет случая купить для своего Музея какую-нибудь вещь.
Курорты — ранней весной — Крым; май, июнь — своя Каменка; июль — минеральные воды: Поэт воспевает за красочность слёта гостей во славу общего отдыха, встреч, возможностей.
Главное — на курортах Поэт разливается истинной птицей и успех Еgо песен среди гостей опьяняет солнечным вниманьем.
Девушки, цветы, вино, юноши, друзья качают раскачивают Поэта до сверх-футуризма.
———————
Через месяц всяческих увлечений Поэта, известный антрепенёр Фёдор Долидзе подписал со Мной контракт на 15 гастролей по Кавказу и России с 1 февраля.
Это значило, что Поэта толкнула близость Движенья Весны:
— Дальше.
Последние дни Поэт пропадал в кофейнях у персов, накупил для своего Музея много вещей, усиленно работал над новыми лекциями, грустил по России, по Каменке, по весенним полётам.
 Замелькали Батум, Кутаис, Баку, Армавир, Екатеринодар.
Замелькали Батум, Кутаис, Баку, Армавир, Екатеринодар.
В Армавире редактор Отклики Кавказа писатель М.Ф. Михайлов и известный критик-эмигрант В.Я. Перович встретили Поэта великодружески: запоили, закормили, накурили.
И в Армавире к Поэту на лекцию неожиданно пришёл Н. Евреинов: Он проезжал в Сухум, отдыхать.
Встреча была трогательной, нежной.
Две родные птицы встретились на острове неожиданности в общем шумовом перелёте.
В Екатеринодаре Кубанский Курьер и Кубанский Край светло, по-молодому поздоровались с Гостем от Грядущего.
Дальнейший маршрут: Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Харьков, Москва.
На Ростовском перепутье у Бершадского Поэт встретился с Е. Чириковым и с композитором М. Гнесиным.
В Ростове как раз случилось величайшее из чудес мира: 26 февраля Поэт в редакции Приазовского Края узнал из телеграмм (тогда ещё негласных) о Взрыве Российской Революции.
Поэт целые ночи стоял у окна своей комнаты и ревел от нахлынувшого счастья, метался, торжествовал, махал руками, напевно читал стихи, говорил свободные слова, готовился к речам.
Народные революционные шествия с песнями и знамёнами вызывали гениальное напряженье соборного энтузиазма.
Слёзы Единого счастья горели утренними брильянтами, отражая алые волны флагов.
Мысли, сердца и души слились в Единого Друга Воли — могучого, размашного, затейного, буйного, истинного.
Явился Человек — Брат — Товарищ — Гражданин.
Утвердилась Личность.
И царская шваль сгинула в свой чёрной, зияющей кровью Яме палачей.
Ухнула бездарная куча царского села.
Побледнела осиротелая буржуазия.
Народ стал Человечеством.
Интернационал воссолнился полднем.
Идеи анархизма расцвели победно.
Поэт ходил по улицам и вдохновенно-пророчески говорил слова — гимны абсолютного Равенства, восславляя красоту Революции и Совершенство свободной Личности, основанное высшим выявленьем Творчества Духа.
Назначенные лекции — футуризма — Творческая Воля Жизни (об утвержденьи Свободной Личности) Поэт заменил революционными митингами.
В Новочеркасске — родина Стеньки Разина — студенты и курсистки устроили Поэту — автору Стеньки Разина — триумфальную встречу.
Переполненный театр ликовал.

Эти строки Поэта, напечатанные в дни чёрной реакции и прочитанные в свободные дни, произвели на новочеркаский народ (в театре на его митинге) торжественное впечатленье.
Молодёжь почуяла разом суть футуризма, рождённую революцией Духа.
Молодежь стихийно поняла истинную демократичность футуристов — единственных Поэтов из всей русской литературы, кто столько страдали от полицейских гонений, от доносов буржуазной прессы, от ненависничества аристократии и кретинизма критиков, и кто — единственные — не боялись бороться огкрыто, широко за дело грядущей революции во имя предчувствия.
Разве ещё в 1913 Давид Бурлюк. Владимир Маяковский, Василий Каменский, когда разъезжали по всей России с лекциями, разве не в десятки тысяч молодых сердец Они влили вино возбужденья Бунта за Волю, за Вперёд, за Культуру.
Пускай же помнят квалифицированные борцы за свободу, что их великая революционная пропаганда не была интенсивнее и ярче великой пропаганды анархических идей футуризма.
Кафедра этих трёх пророков-футуристов играла роль даже не буржуазной Государственной Думы в Искусстве, а роль демократического Учредительного Собранья (в Творчестве Вольной жизни), решившего возвестить Миру Союз Единого Человечества под знаменем всеравенства Интернационала.
Эта ли кафедра — всегда окружённая тысячами чающих Движенья — вместе теперь с неотцветной Весной жизни не выявила Поэта со всей Еgо сущностью Великого футуриста-Открывателя.
———————
После яростных революционных выступлений-митингов в Харькове — здесь Он встретился с друзьями, Н.И. Кравцовой, художницей, и весенним Поэтом Петниковым — и в Москве — в Эрмитаже (драм. театр Суходольского 26-го марта, где бурно выступали Маяковский, Ар. Лентулов, Василиск Гнедов, В. Гольцшмидт, П. Пермяк-Субботин) Поэт уехал в Пермь.
Выступал в Мариинской гимназии на огромном митинге учительского съезда.
В средине апреля Он с В. Гольцшмидтом устроил лекцию-митинг в Екатеринбурге.
Женственно чуткий, светлый рыцарь Поэзии — единственно честный критик, известный Сергей Виноградов в Уральской Жизни (когда-то в этой газете Поэт печатал Свои стихи) искренно писал:

Славный рыцарь, нежный Друг Футуризма Сергей Виноградов, да будет благословен яркой памятью благодарного сердца Поэта.
Из Екатеринбурга Поэт едет перед отдыхом ещё на две гастроли-митинга по заводам.
В Нижнем Тагиле Он дружески встречается с уездным комисаром — адвокатом Михаилом Николаевичем Ветлугиным, другом юношества, и заводской публикой, приветствовавшей Поэта в театре, на лекциях.
И наконец, ещё одна гастроль в Невьянске, где заводская публика сердечно апплодирует редкому гостю, и Поэт уезжает к Себе на Каменку, утомлённый сплошными переездами и нервной напряжённостью.
Он изумителный оратор: Еgо горячая, всегда страстная, живая речь длится по 4 часа с двумя маленькими перерывами, в которые Он едва успевает выпить по стакану чая.
И дальше.
Стремительным натиском Он летит всё вперед, сгорая в радужных перецветностях, преображаясь всё вновь и вновь.
Это — Еgо полётная воля.
Еgо перелётный путь.
Еgо Судьба.
———————
Теперь раздольное лето на Каменке.
Поэт живет в своём Музее, охраняемый соснами, солнечными днями и мечтами.
Он спит у открытого окна и долго смотрит на звёзды или в синий туман долины.
Встаёт с птицами, поёт стихи, спускается с горы, умывается из Каменки, идёт в нижний домик пить чай, а потом снова наверх, на балкон — или в лес.
Пока часа в 4 Маруся, жена Алёши, не закричит снизу:
— Обеда-а-аать.
А её сын Лёлька по-своему:
— Тип-тя-я-яп.
Я работаю: целый день пишу эту книгу, всё припоминаю, разбираюсь в письмах, вещах, встречах, Еgо книгах, бесконечных рецензиях о Еgо стихах, романах, лекциях, речах, философии, полётах на аэроплане, изобретениях, картинах, актёрстве (сцена и цирк), путешествиях, затеях.

Пишу же о немногом: о том только, что возможно и ярко-характерно для Еgо Личности, что — главное — создало Ему имя Великого Футуриста.
Ему 33 года — значит, впереди у Меня ещё много работы.
Я пишу настолько о немногом (слушайте, поклонники скромности), что, говоря о Еgо 5 изданных книгах, Я сознательно умалчиваю о 6 неизданных, но готовых уже к печати: 1-я Стихи, 2-я История Российского футуризма, 3-я Давид Бурлюк, 4-я Пьесы, 5-я Философия Современности, 6-я Поэмии.
Я молчу также о 13 написанных и всюду читанных лекциях — что составит ещё 3 книги — неизданных.
Эти 9 книг не изданы оттого, что все издательства крупные находятся в грубых руках невежественно-некультурной коммерции, издающей всякую дешёвую дрянь ради дешёвого матерьяла, или чаще во власти представителей старого искусства неудачников и завистников, которые откровенно-цинично душат Искусство Молодости, а рынок наполняют своими бездарными книгами во имя корысти.
Этот кошмар — и в живописи, и в театре, и в кинемо: Экран замазан сплошной похабщиной.
Раз Я был в атэлье московской большой фабрики, и режиссёр, ставивший картину, произвёл удручающе безграмотное впечатленье базарного издателя шерлок-хольмщины.
Во всех кинемо пахнет кретинизмом.
На выставках живописи богатые художники-старики гнут талантливейших пролетариев — молодых левых художников.
В театрах режиссёры ставят грязную пошлость и дурацкие водевили известных благонадёжных драматургов.
Вся эта компанья старого искусства, сгнившая вместе с царским строем, ещё жива и многочисленна: вот отчего трудно дышать истинным гениям.
Вот отчего не изданы 9 книг Василья Каменского.
У, а как эксплоатируют издатели авторов: нестерпимо говорить.
А если издаёт сам автор, то одни книжные магазины за комиссионную продажу берут 30, 40 и 50 процентов и расплату задерживают, затягивают.
У меня много пропало денег за книжными магазинами — и, думаю, у каждого, кто издавал сам.
И ещё сейчас валяются квитанции — неоплаченные магазинами старые долги: просто противно ходить получать.
Приходишь в книжный магазин или в издательство получить свои деньги за свои книги, и тебе их выдадут — далеко не сразу — в самой оскорбительной форме.
Будь они прокляты.
Вот отчего лежат неизданные книги (теперь вот за эти строки бойся мести издателей и книжных магазинов — о, как трудно издавать), — книги, спрос на которые огромен и растёт.
Я пишу эту новую книгу и стараюсь не думать об её изданьи, иначе тяжко.
Я убеждён, что и эта книга разойдётся стремительно — как все Еgо книги, однако издавать — отчаянное мученье.
Всё же Я пишу, работаю, напрягаю силы и знанья, чувства и творческие возможности, широту внутреннего размаха и Волю духовной мудрости.
Он не ищет, не ждёт, не желает никакой награды, ни похвалы, ни шумного успеха, ни упрёков, ни славы, ни денег, ни памятников — ровно ничего.
Потому Я пишу свободно, как поёт сердце и творит разум, как развёртывается панорама жизни под летящим аэропланом Сегодня с криком мотора:
— Дальше.
Я только авиатор Времени с пассажиром Вечности — Поэтом.
Только наблюдатель, собиратель, инструктор, исследователь, организатор, учёный.
Я — поступательная сила, земное.

Он — небесное. Он Гений Духа.
Я — один из феноменов.
Он — Единственный, будто солнце на небе бирюзовых возможностей.
Я энергично гордо работаю над этой книгой, а Он каждую минуту отвлекает меня: Он кругло смотрит в светлодальний простор, беспокойно шевелит крыльями, вдыхает ветер, поёт.
Что Ему моя работа над книгой: суета, скорбь, узда, условность, заблужденье.
Я это знаю и всё-таки пишу: Я болен воображеньем крайнего оптимизма — будто кому-то, где-то зачем-то нужна Книга вообще.
Чую: Он переполнен стремленьем к полёту, а Я задерживаю, останавливаю.
Он с песнями, звёздами, утренними дорогами, необузданной волей, яркоцветным размахом, друзьями, девушками, вином.
Я мешаю, не даю осуществленья, даже протестую, потому что не кончена книга и очень не хватает Поэту здорового покоя — здесь, среди сосностройной тишины гор.
Струистая, бегучая Каменка, охрани Мне Поэта, как умеешь, как можешь.
Помоги Мне, Каменка, Я устал, утомился от борьбы и одиночества, от мечтаний и почти напрасности.
Помни: ведь если не Я и не ты — сгинул бы наш Поэт.
Он всегда был и остался накануне отлёта в иное переселенье, Еgо всегда влекло к земному крушенью, и люди всегда толкали Еgо на погибель.
Может быть, мы спасём.
———————
Эй Ты, разудалая отчаянная головушка, сокол-Поэт.
Куда, в неведомые страны какие потянуло Тебя, обиженного буднями и мелочью, непониманьем и одиночеством.
Куда из дому.
А там закатиться в гавань — в греческую кофейню, где играют в кости — выпить густого чёрного турецкого кофе, закурить сигару, привезённую персами контрабандой и — обхватив голову — обдумать, что дальше.
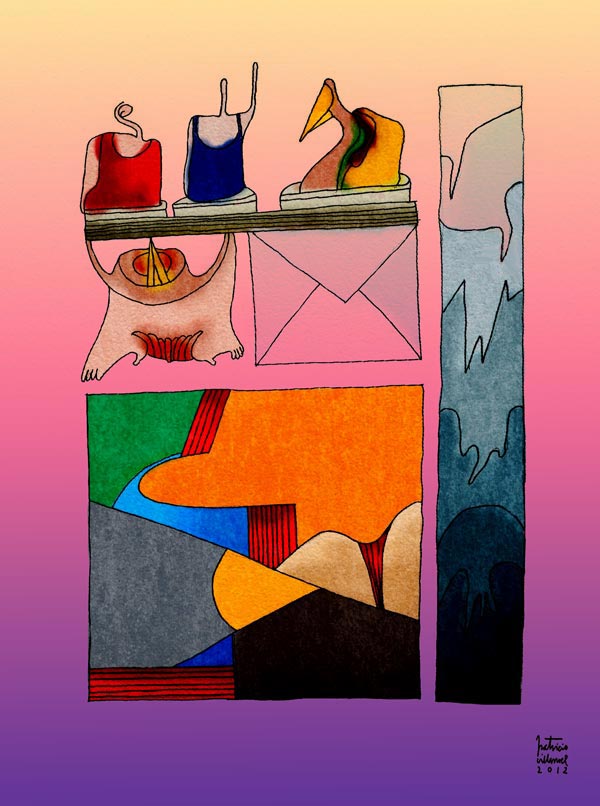 Забраться ли в горы — в татарский аул, поохотиться на диких коз.
Забраться ли в горы — в татарский аул, поохотиться на диких коз.
Может быть, сесть на корабль и укатить в Ялту — утешиться на качелях змеинноветвистой араукарии.
Али кинуться в раздолье волжское, бурлацкое широченное, размашное.
И гармонью русскую взять с собой.
Устроиться где-нибудь у Жигулевских гор у рыбака в шалаше, ухи похлебать у костра, чайку попить, пошататься, помотаться, пожить босиком, в рубахе без пояса, с открытым воротом, с засученным рукавом.
На гармонье поиграть, попеть.
Вспомнить молодецкую вольную жизнь Стеньки Разина, разгуляться с песнями.
В Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани побывать, поболтаться по базарам.
И делом первым по циркам походить: поискать, нет ли там славного богатыря несокрушимого, друга любимого Ивана Заикина (кто единственный авторитет: в пьяной драке его с Г. на крестинах у директора цирка Есиковского — свидетель Куприн — в Тифлисе зимой 1916 — оценил мою хватку орангутанга, когда Я кинулся в качестве тамады разнимать львов).
И по пристаням, конечно, потолкаться вдоволь — в чайных чайку заказать с изюмом, дальше тронуться — куда потянет.
Али разом вертануть на Кавказ.
Маленький таши.
Большой таши.
Камарджоба Духан.
Мэ всвам гвинос у цхклот.
Пью кахетинское без воды.
Хочу, куда рвутся шелестящие Крылья.
Или Поэту не близка голуборогая Грузия.
Или Поэту не родна черноласковая Армения, чьи пути — подвиги, чья судьба — священна, чьи призывы — Песни.
Кара-Дэрвиш, помни:
И ещё:
Куда же, куда, Поэт.
Дальше.
Ах Ты кудрявая солнцевеющая голова, а и где Твой перелётный покой, перелётная птица.
Дальше.
И Сам не знаешь, не ведаешь.
Только бы раздольнее Неба — стремительнее полёт — ярче, сочнее, ядрёнее Жизнь — да больше Друзей, Чудаков, Футуристов — да чтобы и всем вокруг Вольно-Буйно жилось во все колокола.
И всё-таки в Час Созерцанья Ты скажешь:
Дальше.
Поэт готовится к Отлёту: Он целый день бирюзово смотрит на горизонт юго-восточного зова — Он слышит.
———————
Сейчас — вижу по солнцу — около семи.
Воскресенье. Июль — 2-е, 1917.
Каменка.
Я сижу около дома, в лесу у костра.
Кипячу чайник.
Около в наберушке земляника — ждёт.
Я подкладываю в огонь сучья, ворочаю угли.
У меня болит правый бок и левая лопатка; вчера метал сено, упрел, устал, в баню потом ходил — сразу легче стало.
Я плохой работник: у меня много природной силы, гибкости, ловкости, смекалки, но Я пасую перед выносливостью мужика.
Быстро задыхаюсь, таю, нервничаю.
Ныне Я много косил, но не днём, когда захлёстывает овод, а под вечер, как отзанимаюсь.
Ныне же в первый раз видел, как славно пахала под озимое пар Маруся, жена Алёшина.
Конечно, плугом Гена.
Скоро Маруся будет ещё пахать — продолжать — ей нравится — легко, нужна сноровка.
Женщины-аристократки и крестьянки (у нас крестьянки пахать не будут), приезжайте смотреть: Маруся пашет, и ей нравится.
Я ещё могу ёмко колоть дрова.
У нас гостит брат Петя, матрос.
Петя служит матросом-мотористом радиотелеграфа в Гельсинфорсе, вот уже восемь лет. Всю свою молодость, красоту дней, энергию, душу, надежды, возможности — весь смысл своей судьбы отдал казарме, запаху отхожего места, скверной каше, дурному обращенью начальства, общей нестерпимой тоске таких же, как он, товарищей.
За что, кому — во имя какое.
Ох страшно, кошмарно об этом мыслить.
Нет человеческих сил слушать рассказы Пети о службе своей, перед которой каторга ему кажется желанным отдыхом.
В едком дыме костра — отмахиваясь преувеличенными движеньями — Я ищу отвлеченья.
Дальше.
Около меня лежит блокнот, подниму, стану писать ещё биографию Великого Футуриста дальше.
Поэт-Йог — и загорелый от солнца — полуголый, будто индус — неотрывно смотрит в огонь костра: может быть, Он видит Себя на берегу священного Ганга у истока, проникновенно повторяющего божественное имя Сиддарта Гаутемы, просветленного Творца буддизма.
Я пою Еgо Индию:
Теперь Он смотрит на небо.
Я снимаю вскипевший чайник, завариваю чай, пью с земляникой, иногда пишу.
Сейчас Он думает о полученном только что письме своего славного друга Марии Комаровой, знаменитой певицы, удивительной, чуткой, яркой, талантливой.
Мария зовёт Еgо:
— Приезжай на Кавказ. Хочу слышать, чуять твои мысли, твои стихи. Я знаю, тебе не хочется расставаться с милой Каменкой, но мы должны петь свои песни. Жду здесь — в Пятигорске.
Я ещё наливаю чашку чаю.
Каменка, сосны на горе, костёр, земляника.
Небо безоблачно, птицы, запах скошенной травы, творческий покой.
Один.
 А где-то там, в Пятигорске, пёстрая суета гостей, симфонический день в Цветнике, театр дорогого товарища — П.И. Амираго (Еgо антрепренёра), чудесных импрессарио Юзика Казарова, Володи Снарского, Басманова-Волынского.
А где-то там, в Пятигорске, пёстрая суета гостей, симфонический день в Цветнике, театр дорогого товарища — П.И. Амираго (Еgо антрепренёра), чудесных импрессарио Юзика Казарова, Володи Снарского, Басманова-Волынского.
Поездки Кисловодск — Ессентуки — Железноводск.
Съезд знаменитостей.
И там — на балконе Бристоля — Еgо друг Мария Комарова, нежная, поющая, грустная.
И всегда нервная, мятущаяся.
Поэт сердцем слышит её волненья, вопросы.
Чудесный она товарищ.
Ему хочется поехать, Он готов, Еgо крылья вздрагивают.
Но Я останавливаю: Мне необходимо работать сейчас — закончить книгу Еgо–Моя биография Великого Футуриста.
Я также знаю: Еgо тянет к Песням, к движенью, к друзьям, к любви.
Дальше.
Я понимаю, чувствую, сознаю.
А Еgо здоровье — ведь на Каменке лучше.
О, Я слишком Еgо знаю; Поэт ничуть никогда не бережёт своего здоровья — как денег — как славы — как общественного мненья, и тратит всё это — земное — во весь Свой размах.
Если б отдаться воле Еgо хоть раз без контроля в жизни — Он сгинул бы быстро.
И всем было бы просто безразлично.
Ах, не всё ли равно всем: есть Он или нет.
Всё на свете эгоистично-условно.
Пусть Он воображает, фантазирует, увлекается, любит, творит, поёт.
Он — Поэт.
Я наливаю медленно чаю, кладу земляники, успокаиваю Поэта: ехать на Кавказ ещё нельзя.
———————
В комнате ветка оранжевой рябины.
Поэт потерял покой.
Он каждую ночь видит во сне море в Крыму, рыбаков из Балаклавы, корзины с виноградом, девушек в белых платьях, солнце на берегу у волн, корабли, дельфинов, крепкий турецкий кофе.
Просыпаясь, кричит Мне:

— Дальше.
А Я работаю и упорно молчу: Мне осталось совсем мало, ещё несколько страниц, несколько слов.
Ведь Ему 33 года, и Мой труд впереди.
Я потом когда-нибудь напишу вторую часть Еgо Дней и Моих минут.
Теперь же Он начинает меня побеждать — кажется, снам Поэта суждено осуществиться.
Скоро снова: Пермь — Ялта.
Так было много раз.
На пароходах по Каме-Волге до Саратова, там по дороге в Симферополь, оттуда на автомобиле в Ялту.
Этот маршрут Я повторяю, пою, пишу, декламирую, чтобы только успокоить Поэта.
Быть может, через 10 дней придётся расстаться с Каменкой, с Еgо Музеем, родными. И в путь — дальше. Всё к лучшему, к совершенному.
Счастливый утровеющий час да встретит юношеские глаза Поэта, сияющие счастьем осеннего перелёта с севера на юг, с Цингала на Ай-Петри.
К снегу — в Москву: стану там издавать Эту книгу, но как — ещё не знаю.
Изменила ли революция теперь условья издательства или предстоит борьба с прежним ужасом — увидим. Если будет нужно — возьмём своё силой молодости, надавим упругими бицепсами Духа и Тела, но не уступим тьме.
Наша закалённость в борьбе за святое дело Истины, наша загорелость от солнца культуры, наша радиоактивная энергия, наша гениальная футуристичность — верная порука за наше победное шествье —
— Дальше.
Революция Духа — за нами.
За нами — всё молодое Человечество со всей своей красотой вольнотворческого бунта.
Революция дала великое благословенье нашему Футуризму на океанский размах.
За нами подвиги гениальных парней — Достойных сынов своего пророческого искусства.
Имя Великого футуриста Василья Каменского ещё много тысяч раз будет алошёлково развеваться сокрушительным знаменем над молодецкими головами юношей и девушек.
Тише.
Сейчас Поэт будет читать Стихи.
Он совершит чудо.
———————
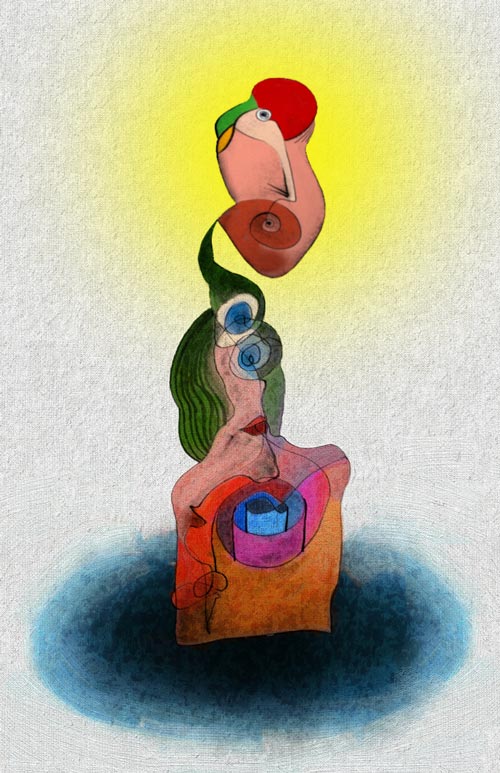
———————
Эхх, и летит Поэт.
 Мма — и купается в лебединых облаках.
Мма — и купается в лебединых облаках.
Ну — и что ж.
Памятник ли, судьба ли, любимая ли, один ли.
И не такой Он: где-нибудь будет стоять на тропинке в горах у моря или на Каменке (у часовни своей) с посохом, с мешком (сухари, чай и стихи) за спиной: это и будет — памятник.
Это и приснится любимой — и, может быть, у стога свежего сена накошенных мечтаний о солнце.
Помнится Ему: белый домик, ограда церковная и месяц молодой, чёткий.
И летит Поэт к счастью.
Я кончаю книгу и думаю о восковой свече — о кротости во имя Еgо перед иконостасом судьбы.
Меня осудят все: ивы, чьё сердце чутко только для себя и немного для близких, — и вы, чья дружба ограничена и условна, — и вы — и даже вы — чья любовь гордо называется любовью.
И меня будут судить: ведь Я сохранил Поэта до этой Книги, а теперь пусть Он полетает-согреется.
Эхх, голова-голова.
Я ещё огненнее верю: Я молюсь о Еgо голове.
Только бы удержалась голова.
А судьи кто.
Ну ничего, пустяки, не надо, трава.
Он летит, и если увидит озеро счастья, и если будет надо — опустится.
Я желаю Ему творческого покоя.
Он, кажется, ищет успокоиться.
Я кончаю книгу: Я устал работать, мне трудно писать и писать — и видеть, как мимо проходит жизнь, полная ошибок, сомнений, горений, борьбы, порывов.
А где Чудо.
В чём Истина дней на земле.
Я не знаю.
Знает только Он: ведь Он так сейчас — эхх и мма и ну — высоко.
Что вопросы Ему, когда Он — весь ответ, весь песня, весь любовь.
И весь Он — Чудо, великое Чудо.
И Чудо настолько, что сейчас Я печатаю (а ещё недавно Я не знал, буду ли печатать эту книгу о Нём), и Мне не верится в расцветающее счастье: Он встретил чудесных друзей П.Е. и Н.Д. Филипповых, и эти Трое основали книгоиздательство Китоврас.
И эти Трое чуют Великий Пролом, собирая Единую Стаю Гениев.
———————
Святая–кроткая–напевная–южная.
Зовно грустит в Камышах Поэт о Тебе, когда вечером видит на дне озера упавшие звёзды.
Или это Глаза её изумрудные.
И глубина–глубина–глубина.
Ах, детка — любимая.
Ведь только Он знает, как надо подойти к изголовью кровати Твоей, чтобы уходя-улетая в ночь, оставить Тебе тихую тёплую сказку — как свет лампады в углу у икон.
Он с тобой — в Единой Душе.
Он — рыцарь истинный.
Это Он в вечном Завтра — когда приходил вечерами в гости — видел в картине Георгия Якулова призрак Лебедя: склонённую голову в грустинной изгибности.
Один — потому что полон любви, и полётов, и песен, и встреч.
Это горсточка из океана трепетного созерцанья. А Я — что я.
Пастух, поющий на свирели Еgо Поэмию о Соловье.
Поющий в глубокой комнате Прасковьи Ефимовны.
(Сейчас Я вспомнил вечер на Каменке весной: хоркают вальдшнепы, поют соловьи, а Я лежу у окна в часовне своей тишины — в соснах — и звёздно мечтаю о друзьях: где, кто, зачем).
Может быть, не надо томиться так о друзьях — тогда скажите Мне.
Детка, детка.
Я — Мудрец — Я от Мира, но я — Ребёнок: Я кем-то оставлен.
У Меня большие аквамариновые крылья Лебедя.
И утренние дороги — подруги Мои.
И Я — к Тебе, и Я — к Тебе.
Ты — святая для бога Еgо.
Тебе Он отдал ветку с поляны горноуральской рощи чудесных Дней: Тебе посвятил эту Книгу с благословеньем на Великий Пролом — Тебе кротко, по-океански сказал:
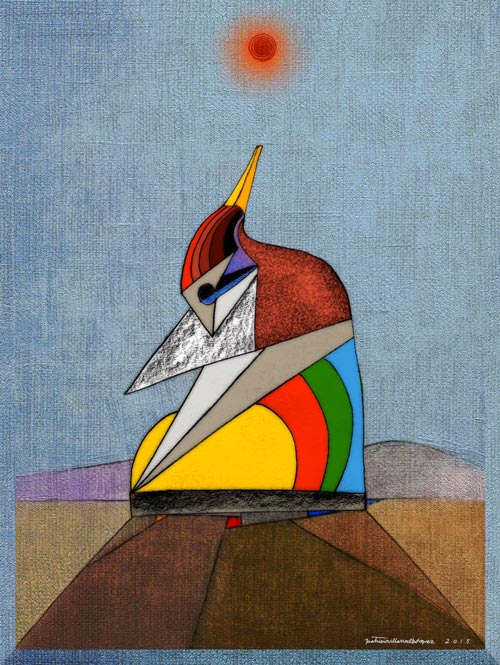 Где-то плывут корабли.
Где-то плывут корабли.
Детка.
В Крыму — в Ялте, когда все мы, рыцари Духа, мы, открыватели стран, мы, фантазёры, все соберемся в Единую Семью для Творчества — нам всем будет мудросолнечновеликопроломно.
Послушай ещё:
И Он летит, и летит, и на крик Лебедя походят Слова Еgо.
Сейчас Утро в Горах Дней.
Всё Просто, Мудро и Ясно.
Как трава: Ему ничего не надо.
Только бы вот удержалась Еgо солнцевеющая Голова, только бы удержалась.
(Если Господь пошлет ещё горсть Жизни Ему и Мне — биография развернётся без берегов. Всё — от Счастья, — от Любви, — от Друзей. До свиданья. Я тороплюсь).
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 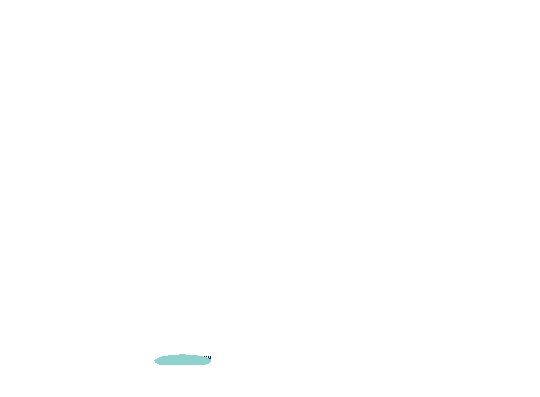 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
персональная страница В.В. Каменского | ||