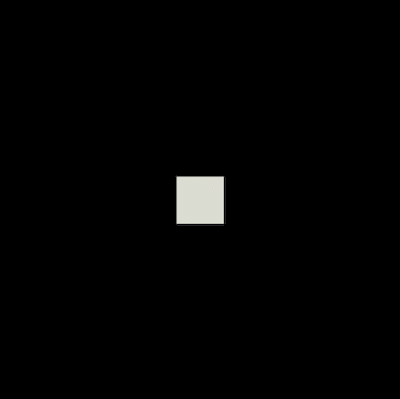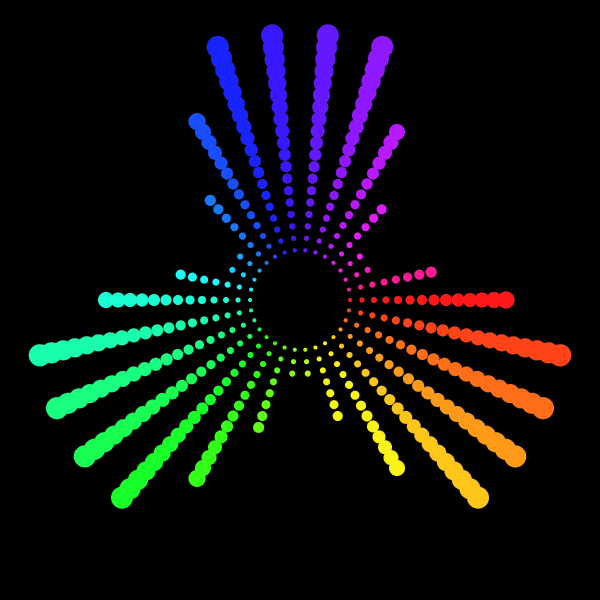Карла Соливетти
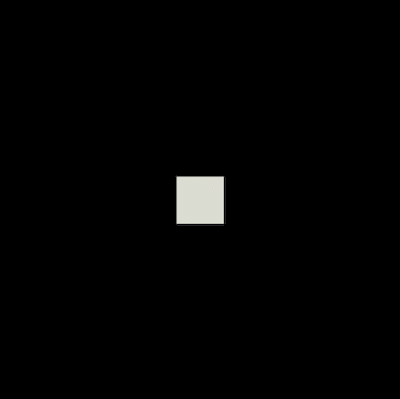
Лингвистические прозрения Велимира Хлебникова
Преамбула
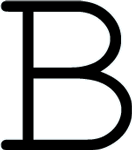
начале XX века Велимир Хлебников разрабатывает онтологическое учение, в котором сплавляются воедино наука и искусство, точное и гуманитарное знания, человек и космос, объективное и субъективное начала. Хлебников принадлежит своему времени, и его искания созвучны культурно-гносеологическому контексту первых десятилетий XX века. Но Хлебников вышел из своего времени, и не только потому, что умозрительность теоретических построений он соединял с наглядностью практического воплощения. Переведённые на язык современности, взгляды Хлебникова оказываются поразительно близкими научным устремлениям, характеризующим порубежье второго и третьего тысячелетий. В первую очередь здесь следует назвать когнитивистику. Хлебников поставил вопрос об
азбуке ума, то есть об универсальных мыслительных концептах, которые определяют вербально-интеллектуальную деятельность человека. Обратившись к системам письма, Хлебников показал, как взаимодействуют перцептивная и ментальная когнитивные способности человека. Подход к буквам как простым именам языка и попытка прочесть их как трансформы пиктограмм может рассматриваться как демонстрация интертекстуальности, но также и как демонстрация механизмов удержания знания и утраты знания. В одном пункте взгляды Хлебникова как будто расходятся с антропоцентрической научной парадигмой. Речь идёт о мыслительных концептах. Хлебников настаивал на том, что первичные кванты смысла представляют собой считывание пространственно-временных характеристик внеязыкового мира и в этом смысле они объективны. Хлебников провидел многое, и будущее покажет, сколько истины содержится в этом его представлении. В настоящей статье в разных аспектах рассматриваются лингвистические прозрения Хлебникова.
1. Иконическая связь между буквой и значением
Наряду с поэтическим творчеством, опыты “интерлингвиста” Хлебникова в области музыки, точных наук, а также его эксперименты по семантизации букв алфавита1 явились предметом многочисленных исследований учёных-филологов.2
явились предметом многочисленных исследований учёных-филологов.2 При формальном подходе, когда акцент делается скорее на звуковое своеобразие произведений поэта, чем на его лингвистические исследования, азбука ума часто интерпретируется по аналогии с теориями звукового символизма.3
При формальном подходе, когда акцент делается скорее на звуковое своеобразие произведений поэта, чем на его лингвистические исследования, азбука ума часто интерпретируется по аналогии с теориями звукового символизма.3 В этом случае азбука ума Хлебникова обычно приравнивается либо к концепции ассоциативной связи между звуком и значением, изложенной в статье К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (Бальмонт 1915: 52–67), либо к теории звука как „жеста ‹...› утраченного содержания”, детально разработанной А. Белым в «Глоссолалии» в 1917 году (Белый 1994: 3), либо к попыткам придать универсальное значение согласным и гласным, предпринятым футуристами (Д. Бурлюком, В. Каменским и пр.).
В этом случае азбука ума Хлебникова обычно приравнивается либо к концепции ассоциативной связи между звуком и значением, изложенной в статье К. Бальмонта «Поэзия как волшебство» (Бальмонт 1915: 52–67), либо к теории звука как „жеста ‹...› утраченного содержания”, детально разработанной А. Белым в «Глоссолалии» в 1917 году (Белый 1994: 3), либо к попыткам придать универсальное значение согласным и гласным, предпринятым футуристами (Д. Бурлюком, В. Каменским и пр.).
Однако данное понимание представляется односторонним. Хлебников строит азбуку ума как своеобразный объяснительный словарь, в котором выделяются толкуемые единицы и толкования. Толкуемые единицы Хлебников обозначал по-разному: имя | звук | знак | согласный звук | буква алфавита | семя слова | единица мысли | единица азбучных истин. Сам этот перечислительный ряд является удивительно ёмким и показательным, ибо будетлянин с разных сторон подходит к определению того, что является для человека минимальной когнитивной единицей, в которой хранится знание о мире и которая одновременно служит средством получения нового знания. В конечном счёте толкования будетлянина относятся не только и не столько к звукам, сколько к буквам. Он придаёт новый смысл идиоме азбучная истина — это есть истина о мире, содержащаяся в буквах азбуки. Хлебников не случайно уподоблял мудрость языка мудрости природы (Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы; СП, V: 172). Онтология азбуки укоренена в мире. И поскольку земля — звезда, а мир как вселенная — это мир звёзд, то и звёздный язык Хлебникова несёт в себе истину азбуки.
Хлебников использует в толкованиях букв азбуки динамико-математические термины (точка | линия | замкнутая кривая | движение | давление | вращение и др.). С их помощью он описывает понятия-концепты, передаваемые буквами кириллицы. Можно утверждать, таким образом, что Хлебников подходит к буквам как к пиктограммам,4 то есть видит в них графическую репрезентацию концептов, а демонстрация синэстетических возможностей звука является для него второстепенной задачей. Хлебников наделяет буквы пиктографической функцией, дешифрует буквы-пиктограммы и тем самым возвращает языку статус общепонятности, который был присущ ему до вавилонского смешения, ибо пиктограмма может интерпретироваться на любом языке.
то есть видит в них графическую репрезентацию концептов, а демонстрация синэстетических возможностей звука является для него второстепенной задачей. Хлебников наделяет буквы пиктографической функцией, дешифрует буквы-пиктограммы и тем самым возвращает языку статус общепонятности, который был присущ ему до вавилонского смешения, ибо пиктограмма может интерпретироваться на любом языке.
Поэтому представляется несостоятельной гипотеза, объявляющая азбуку ума предвестником психолингвистической теории „language habits feedback” (Mandelker 1986: 20–36), не находящая подтверждения в теоретических выкладках поэта. „Language habits feedback” предполагает ассоциативное присвоение каждому звуку определённой коннотации, воздействие и устойчивость которой прямо пропорциональны частоте употребления. В свою очередь, частота употребления есть следствие семантической близости слов с общим коннотативным ореолом и их принадлежности к общеупотребительной лексике. У Хлебникова же слова, близкие, по его мнению, с концептуальной точки зрения, сгруппированы по принципу совпадения начальной буквы. При этом слова, включённые в одну группу, могут обладать значительным семантическим разнообразием, и среди них могут быть слова, вышедшие из употребления (архаизмы) и диалектизмы.5
Не подлежит сомнению значимость звукового элемента в большинстве словесных и теоретических опытов Хлебникова. Но для Хлебникова была очевидна связь разных когнитивных способностей человека, „произносительно-слухового” и „писанно-зрительного” процессов, как их называл И.А. Бодуэн де Куртенэ. Бодуэн (1963, II: 211) писал:
Взаимоотношения между языком и письмом имеют место в языковом мышлении отдельных индивидов как носителей всякого мышления, стало быть тоже и языкового мышления, сложившегося благодаря воздействию, с одной стороны, произносительно-слуховых процессов, с другой же стороны, писанно-зрительных процессов междучеловеческого мышления.
Приоритет зрения как важнейшей когнитивной способности человека доказывается тем, что в позднепалеолитическую эпоху впервые образы сознания запечатлеваются „в живописных и скульптурных творениях”, то есть в „искусствах, придуманных для того, чтобы усиливать и закреплять сознание в доступных для передачи и восприятия формах. Наконец, с изобретением письма (около пяти тысяч лет или даже раньше), освоенная сознанием область еще больше расширилась и увеличилась” (Мамфорд 2001: 51). Напомним также, что все протописьменности не связаны непосредственно с воспроизведением речи и древнейшие виды письма устанавливают непосредственную связь между содержанием и зрительно воспринимаемым знаком. В этом контексте мы и предлагаем рассматривать зрительно-изобразительный язык Хлебникова, обратив при этом особое внимание на интерес Хлебникова к японскому языку.
Хлебников начал изучать японский язык в 1904 году и был очарован его выразительными возможностями.6 Китайское письмо (впоследствии принятое с определёнными изменениями в Японии, Корее и Вьетнаме) характеризуется преемственностью письменной традиции, позволившей сохранить непрерывный контакт между языковой системой и идеограммами, эволюция которых происходила в соотнесении с определённым количеством не менявших свое значение корней-идеограмм (Гельб 1982: 89). Занятия японским языком привели поэта к идее, что можно обнаружить и воссоздать первичный идеографический код, лежащий в основе языка, использующего фонетический способ фиксации речи. Поиск этого кода составляет единое целое с поэтической и теоретической практикой Хлебникова, которые всецело направлены на обнаружение единого критерия для создания универсального языка (каковой и мыслился как азбука ума, азбука понятий и строящийся на основе последней звёздный язык), исследование зауми и космических законов. Хлебников не случайно занялся изучением не китайского, а японского языка. Эти языки имеют разные структуры, и для Хлебникова был интересен сам механизм приспособления китайской иероглифической письменности к структуре японского языка. Этот механизм стал для Хлебникова потенциальной моделью для воссоздания универсального письменного языка.
Китайское письмо (впоследствии принятое с определёнными изменениями в Японии, Корее и Вьетнаме) характеризуется преемственностью письменной традиции, позволившей сохранить непрерывный контакт между языковой системой и идеограммами, эволюция которых происходила в соотнесении с определённым количеством не менявших свое значение корней-идеограмм (Гельб 1982: 89). Занятия японским языком привели поэта к идее, что можно обнаружить и воссоздать первичный идеографический код, лежащий в основе языка, использующего фонетический способ фиксации речи. Поиск этого кода составляет единое целое с поэтической и теоретической практикой Хлебникова, которые всецело направлены на обнаружение единого критерия для создания универсального языка (каковой и мыслился как азбука ума, азбука понятий и строящийся на основе последней звёздный язык), исследование зауми и космических законов. Хлебников не случайно занялся изучением не китайского, а японского языка. Эти языки имеют разные структуры, и для Хлебникова был интересен сам механизм приспособления китайской иероглифической письменности к структуре японского языка. Этот механизм стал для Хлебникова потенциальной моделью для воссоздания универсального письменного языка.
В статье «Художники мира!» поэт пишет о том, что немые — начертательные знаки помирят многоголосицу языков (СП, V: 217) и призывает художников использовать в качестве образца идеограммы, ссылаясь на японское и китайское письмо, способное объединить сотни диалектов. По Хлебникову, на долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, — из них строится здание слова. Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки (217). Исключительное значение имеет то, что азбука понятий мыслится Хлебниковым как краткий словарь пространственного мира, а искусство художника как раз и способно изображать видимые и пространственные стороны букв алфавита, объединив тем самым внешнюю форму с концептуальной: ‹...› в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия (219). И, наконец, первостепенная роль изобразительного искусства в создании общего письменного языка определяется тем, что живопись всегда говорила языком, доступным для всех (216). Итак, мыслители должны разработать понятия, а художники — графические знаки, и этот идеальный союз создаст универсальный язык.
2. Азбука ума
Свои теоретические выкладки Хлебников иллюстрирует примерами разрабатываемых им понятий, которые составляют азбуку ума:
В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад. ‹...› З значит отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения. Удар луча о твёрдую плоскость. ‹...› М значит распад некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой величине. ‹...› Ч означает пустоту одного тела, заполненную объёмом другого тела, так что отрицательный объём первого тела точно равен положительному объёму второго. Это полый двумерный мир, служащий оболочкой трёхмерному телу — в пределе. ‹...› С значит неподвижную точку, служащую исходной точкой движения других точек, начинающих в ней свой путь. (217–218)
По мнению Хлебникова, современные буквы — „простые имена языка” подверглись изменениям, как и изображения некоторых китайских и японских идеограмм, поэтому для проникновения в их потайной смысл необходимо восстановить их графическую этимологию, потерявшую со временем свою очевидность и зрелищность. Поэт предвосхищает работу художников и приводит свои примеры:
Вэ мне кажется в виде круга и точки в нём. Ха в виде сочетания двух черт и точки. Зэ вроде упавшего К: зеркало и луч. ‹...› Ч в виде чаши. Эс пучок прямых. (219)
Реконструкция графической этимологии — исключительно ответственный этап в построении хлебниковской концепции. Чтобы понять эту концепцию, нужно скрупулезно следовать за ходом мысли Хлебникова, и тогда то, что кажется чудным и необъяснимым, становится простым и очевидным. Возьмем, например, букву В. Почему, собственно говоря, она кажется в виде круга, и точки в нём? Хлебников показывает, как возникает эта буква: нужно нарисовать круг, обозначить его центр, провести радиус и затем начать вращать этот радиус, в результате чего одни части круга будут отсечены, а другие составят нужное кириллическое изображение. Получившееся изображение-трансформ не только демонстрирует видимое, но сохраняет память о том, что утрачено: о круге, о вращении. Эта графическая память составляет прототипическое, или концептуальное значение буквы В. Итак, за буквой В как элементом алфавитной системы скрывается чистейшая пиктограмма, и универсальная азбука человеческого ума есть азбука мыслительных концептов, составляющих план содержания букв как пиктограмм.
Хлебников напряжённо думает над пиктографическим значением букв кириллицы. В 1915–1916 он предлагает описание буквы Л:
‹...› переход движений точек из движения по некоторой прямой в движение по площади, поперечной этой прямой. Ведь капля ливня падала вниз, потом стала частью лужи. А лужа, жидкое досковидное тело, поперечное пути капли. (198)
В 1919 году, та же буква предстает как круговая площадь и черта оси (219) — дополнение процесса результатом и плоскостного изображения пространственным. В определении значения русского М (деление некоторого объёма на неопределённо большое число частей, равных ему в целом; 207) содержится зрительный образ деления (205), и это полностью соответствует графеме М, вписанной в идеальный круг и делящей его на части.
На пиктографическом принципе основано описание букв, сделанное Хлебниковым в 1912–1920 гг. Интересно отметить параллель между “пиктографическим” русским и китайским письмом. И там и здесь присутствует „семантическое толкование пространства”. Но в китайском письме каждый знак вписан в идеальный квадрат как символ идеи пространства (Fioroni 1977: 363), в то время как Хлебников чаще обращается к форме круга. То же можно сказать о движении. Концепт движения представлен у Хлебникова в семантическом толковании графем. Многие знаки китайского письма наделены исходной „глагольной семантикой” и соотносятся с существующими в природе видами движения.7 Для Хлебникова простейший язык видел только игру сил. Может быть, в древнем разуме силы просто звенели языком согласных (СП, V: 172). И конечно, не случайно Хлебников считал русские предлоги простейшими словами, своего рода радикалами, сохранившимися в современном языке в качестве показателей движения в пространстве. По, со, ко, до, во суть имена движения или отсутствующего или уменьшающего расстояния между двумя (НП: 331). Фактически он наделял предлоги и союзы свойствами глагола, аналогию чему можно найти в некоторых китайских идеограммах.
Для Хлебникова простейший язык видел только игру сил. Может быть, в древнем разуме силы просто звенели языком согласных (СП, V: 172). И конечно, не случайно Хлебников считал русские предлоги простейшими словами, своего рода радикалами, сохранившимися в современном языке в качестве показателей движения в пространстве. По, со, ко, до, во суть имена движения или отсутствующего или уменьшающего расстояния между двумя (НП: 331). Фактически он наделял предлоги и союзы свойствами глагола, аналогию чему можно найти в некоторых китайских идеограммах.
3. От пиктограммы к идеограмме
Первые теории Хлебникова, касающиеся азбуки понятий, представляют собой попытку (возможно, интуитивную) создать пиктографический словарь понятий. То есть уже в 1912 году он пытался завязать узел общезвёздного труда — задача, доверенная им позднее мастерам изобразительного искусства (СП, V: 220).
Хлебников собирает слова с одинаковой начальной буквой и выявляет их общую семантическую составляющую. Сходным образом происходит расшифровка некоторых составных идеограмм: общая начальная буква соответствует ключу иероглифа, оставшаяся часть слова представляет собой уже не пиктограмму, а так называемый „фонетик” — фоническую группу, звуки, которые указывают, как надо читать графему-ключ. В попытке воссоздать универсальный первоначальный язык Хлебников в действительности пытается приблизиться к идеальному, с его точки зрения, шифру-коду: прибегает к концептуальной редукции значения с целью привести группу слов к единой букве-архетипу.
Русское слово в концепции Хлебникова становится идеограммой, и в его значении он как бы выделяет две семантические плоскости: на одной располагается пиктографическое значение (“чистое слово”), на второй — словарное (“бытовое слово”), и первое значение выступает как внутренняя форма словарного, объясняя и обогащая его (229). Так в слове чара пиктограмма Ч образует “глубинную” семантическую плоскость: Оболочка. Поверхность, пустая внутри, налитая или обнимающая другой объём (207). Но тогда и словарное значение этого слова Хлебников толкует по-новому: чара, как волшебная оболочка, сковывающая волю очарованного — воду по отношению чары (236). И мы сразу ощущаем внутреннюю убедительность такого толкования, подкрепляемого спецификой употребления всего словообразовательного гнезда (ср. особенно очаровать, быть очарованным). В существительном молитва пиктограмма М предлагает зрительный образ деления. Этот концепт проникает в предлагаемое Хлебниковым толкование этого слова: действие умаляющее, делящее на части или чужой гнев или силы природы (204). Понятие любить соотносится с буквой Л. Хлебников определяет её и как переход точек из одномерного тела в двумерное тело под влиянием остановки движения, и есть точка перехода, точка встречи одномерного мира и двумерного мира (198). Отсюда слово любить. В нём сознание одного человека падало по одному измерению — одномерный мир. Но приходит второе сознание, и создается двумерный мир двух людей, поперечный к первому, как плоскость лужи поперечна падающему дождю (198–199).
Перед Хлебниковым стояла очень сложная задача: он должен был объяснить, как взаимодействуют когнитивные способности человека — чувственное восприятие и ментальные структуры, зрительное и умопостигаемое (абстрактное). И он нашёл объяснение, выделив мыслительные операции метафоры, метонимии, синекдохи, “умножение смыслов”. Причём существенно то, что, по Хлебникову, сами эти мыслительные операции отражают существующие в природе и посему универсальные объективные связи (Fenellosa 1973: 22). Хлебников продолжает дальше и исследует синтагматику пиктограмм. Он вводит в рассмотрение семантику второй согласной буквы. Отличительная черта второй буквы заключается в том, что она иногда может быть семантически антонимична первой, что соответствует восточному принципу противоположности (инь и янь), согласно которому любая вещь (в том числе идеограмма) заключает в себе две полярно противоположные стороны (в древнеславянской культуре этому соответствует противопоставление чёт-нечет — Вяч.Вс. Иванов 1976: 39–49). Таким образом, собственные имена, абстрактные неодноконсонантные слова (то есть являющиеся результатом взаимодействия двух и более понятий-пиктограмм), начатые одной и той же согласной „не просто объединяются одним и тем же понятием, но оказываются ареной борьбы противоположностей, столь социально значимой, что поэт называет её паны и холопы в азбуке” (Григорьев 1983: 81).
На определённом этапе выделяемые Хлебниковым основы азбуки ума начинают напоминать „семантические примитивы” (если воспользоваться термином А. Вежбицкой) в том смысле, что речь идёт о „фундаментальных человеческих концептах” (Вежбицкая 1999: 16). А именно: Хлебников стремится выделить первичные знаки-понятия, сочетающиеся по ассоциативным кодам, типичным для идеограмм. Например, исходя из того, что буква Ч имеет в русском языке форму чаши, Хлебников утверждает, что если эта буква будет иметь во всех языках одно и то же значение, то решён вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться че-ноги, все виды чашек — че-воды — ясно и просто. Во всяком случае, хата значит хата не только по-русски, но и по египетски (СП, V: 236).
Хлебников присвоил всем согласным русского алфавита (кроме Ф) статус графических знаков-ключей, но он столкнулся с тем, что не знает, как передать графически грамматические связи, выражаемые, скажем, в русском языке формой родительного падежа. Попытка передать систему русского языка идеографическим письмом вызвала, таким образом, значительные затруднения. Хлебников и сам это сознавал и определил разработанный им союз практического и звездного языков как первый крик младенца (221). Но он перевёл при помощи азбуки ума целую фразу русского языка на язык универсальный.
Вот пример текста на универсальном языке:
Ша + со (гуннов и готов), вэ Атиллы ча по, со до но бо + зо Аэция, хо Рима, со мо вэ + ка со, ло ша степей + ча (220)
являющийся переводом с русского:
Соединившись вместе, орды гуннов и готов собрались кругом Атиллы, и, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но встреченные и отражённые Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту.
Непосвящённому текст на универсальном языке может показаться бредом безумца. Но — только непосвящённому. Во-первых, это действительно напоминает толкование на языке семантических примитивов. Во-вторых, даже зрительно видно, насколько прост синтаксис перевода по сравнению с громоздким и намеренно утяжелённым русским синтаксисом. В-третьих, понятно, где возникают трудности. Это собственные имена, которые представляют особую подсистему в языке и для которых требуются дополнительные графические приёмы, функционально сходные, например, с хираганой и катаганой в японском языке. Далее, это морфологические категории и отсутствие различий между частями речи. В.П. Григорьев видит в этих трудностях доказательство неудачи теории Хлебникова (Григорьев 1983: 79–80). Но они вполне сопоставимы с особенностями идеографического и иероглифического письма и корнеизолирующих языков. И следует поразиться тому, как много удалось передать в переводе на универсальный язык, и как безошибочно здесь опознаны специфические черты языков разного строя и отдельных подсистем внутри одной языковой системы, что составляет, по существу, идиоэтнический компонент универсального языка.8
Хлебникова интересовала не только закреплённая и устойчивая связь между означающим и графическим знаком, но и динамический процесс означивания — семиозис. Он обратился к формированию значения отвлечённых имён, то есть к возникновению нового графически неизобразимого значения при соположении двух изображений-пиктограмм. Вступая в синтагматическую связь, идеограммы вступают в семантическое взаимодействие таким образом, что создают внутреннюю форму9 для передачи отвлечённого понятия (как, скажем, в предикатной метафоре у Цветаевой: „Любовь — это кровь и пот...”). Иначе говоря, в идеографическом письме первичные изображения или “праизображения” (ассоциативная связь которых определяет богатство языка) фиксируются посредством единичных графических символов, пиктографически выделенных, и следовательно, легко воспринимаемых и узнаваемых. Разделение слов на буквы-пиктограммы позволяет установить реляционные коды и расшифровать внутреннюю форму, которая представляет собой не означаемое, а скорее семантический потенциал, характеризующий каждое изображение-понятие. Гибкость и комбинаторная динамика изображений-понятий обусловливает возможность непрерывного образования новых означаемых. Позднее Эйзенштейн займётся изучением объединения графических знаков в составные идеограммы с целью установления аналогии с процессом кинематографического монтажа, определив механизм перехода „от изображения предмета к передаче понятия” (Вяч.Вс. Иванов 1999: 244) путём сочетания нескольких значимых элементов.
для передачи отвлечённого понятия (как, скажем, в предикатной метафоре у Цветаевой: „Любовь — это кровь и пот...”). Иначе говоря, в идеографическом письме первичные изображения или “праизображения” (ассоциативная связь которых определяет богатство языка) фиксируются посредством единичных графических символов, пиктографически выделенных, и следовательно, легко воспринимаемых и узнаваемых. Разделение слов на буквы-пиктограммы позволяет установить реляционные коды и расшифровать внутреннюю форму, которая представляет собой не означаемое, а скорее семантический потенциал, характеризующий каждое изображение-понятие. Гибкость и комбинаторная динамика изображений-понятий обусловливает возможность непрерывного образования новых означаемых. Позднее Эйзенштейн займётся изучением объединения графических знаков в составные идеограммы с целью установления аналогии с процессом кинематографического монтажа, определив механизм перехода „от изображения предмета к передаче понятия” (Вяч.Вс. Иванов 1999: 244) путём сочетания нескольких значимых элементов.
Хлебников, что называется, на пальцах показывает, как в идеографическом письме осуществляется хранение, преобразование и порождение знания о мире, если выражаться языком когнитивистики. Возможности лексического обновления языка обусловлены в идеографическом письме высокой степенью комбинаторной мобильности пиктографического знака, позволяющей создавать и выражать на письме новые понятия, сохраняя языковую структуру и избегая иностранных заимствований и кáлек. Означаемое идеограммы — это не описание предмета или понятия, а его изображение, организующее семантические связи, создающее процесс означивания, возвращая, таким образом, отношения между референтами и их составляющими элементами (Cheng 1977: 15). Таким образом, перцептивно-зрительный код — „первичная система моделирования” (Lotman 1969) становится когнитивной базой мыслительных операций. Алфавитно-буквенное письмо есть чисто графическое отображение языковых знаков, то есть изображение знаков знаками, „вторичная система моделирования”, поэтому знание о мире не имеет в нём изначальной укорененности. Но показательно, что в языковом мышлении зрительные образы-представления также играют огромную роль.
Преобладание визуальных представлений составляет характерную черту нашего обращения с языковым материалом. В своём жизненном опыте мы имеем дело с отвлечёнными понятиями и конкретными предметами; первые вообще не имеют чувственного воплощения, вторые воспринимаются в симультанном воплощении различных признаков, апеллирующих к различным органам чувств. Но когда некий феномен становится фактом нашей языковой памяти, отложившись в ней в качестве языкового выражения, наше обращение с этим его вторичным языковым бытием проходит под знаком господства визуального начала. Свойства предмета или понятия тем или иным путём транслируются в зрительный образ (Гаспаров 1996: 266).
Как представляется, именно идеографическую систему письма Хлебников использует для создания полисемантического и открывающегося поэтическому видению “созвездия” (звёздного языка), выполняющего когнитивные и коммуникативные функции. Зашифрованный смысл каждого знака японского или китайского письма сохраняет сжатые с течением времени древние представления-понятия. В зависимости от уровня чтения и поставленных задач (Cheng 1977: 14; Cardona 1981: 138) эти понятия могут в любое время быть вычленены из содержащих их знаков. Подобно крайне стилизованным идеограммам или фоническим группам, графические знаки, подвергнувшись тщательному семантическому анализу (в том числе на основе числовой символики их компонентов), обнаруживают ряд хранящихся в них социальных, мифологических, религиозных и магических значений, не проявленных в современном употреблении.10 Заумь, язык магии и заклинаний, помещённые Хлебниковым в один ряд с поэтическим и звёздным языком, могут быть подвергнуты расшифровке и осмыслению при помощи схем азбуки ума. Переход Хлебникова от исследований морфемы к анализу графемы и использование идеографического письма в качестве основы универсального языка объясняются особой внутренней организацией и специфическими свойствами пиктограмм и идеограмм, отсутствующими в фонетике.
Заумь, язык магии и заклинаний, помещённые Хлебниковым в один ряд с поэтическим и звёздным языком, могут быть подвергнуты расшифровке и осмыслению при помощи схем азбуки ума. Переход Хлебникова от исследований морфемы к анализу графемы и использование идеографического письма в качестве основы универсального языка объясняются особой внутренней организацией и специфическими свойствами пиктограмм и идеограмм, отсутствующими в фонетике.
Понятие зауми, восходящее к словосочетанию ‘за умом’, толкуется Хлебниковым следующим образом:
Заумный язык — значит находящийся за пределами разума. Сравни ‘Заречие’ — место, лежащее за рекой, ‘Задонщина’ — за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особое право на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным. (СП, V: 235)
Именно через азбуку ума Хлебников предполагает сделать заумный язык разумным. Хлебников не раз подчеркивал, что мыслимое в слове предшествует словесному, слышимому (191), что кроме языка слов есть немой язык понятий из единиц ума (ткань понятий, управляющая первым). Так, слова Италия, Таврида, Волынь (земля волов), будучи разными словесными жизнями, суть одно и то же — рассудочная жизнь, бросающая тени на поверхности наречий и государств” (188). Тогда оказывается, что заумь по Хлебникову — это язык до ума, и отражает некое прямое, не искажённое умом восприятие мира человеком. Если мы поймём заумь, то — по Хлебникову — мы тем самым поймём и устройство Вселенной. Это положение находит подтверждение в современных теориях когнитивистики. В этом смысле Хлебников предстает перед нами как “лингвист будущего”, предвосхитивший научную проблематику рубежа XX–XXI веков. Говоря современным языком, графемы-пиктограммы Хлебникова отражают концепты, которые являются результатом чувственного восприятия человеком окружающего его пространства. А для “пророка” Хлебникова слово является высшей силой, соединяя в себе “функции управления” с мыслительной деятельностью человека, и его судьбой:
Слово управляет мозгом, мозг — руками, руки — царствами. Мост к самовитому царству — самовитая речь ‹...› следовательно, слово имеет тройственную природу: слуха, ума и пути для рока ‹...› — это было открыто языку говоров — рок в двух значениях: ‹впадали реки› слово и судьба ‹...› (188)
4. Идеографическая система и алфавитная система
В поэтических текстах и в попытках переводов с русского языка на звёздный Хлебников представляет изображения-понятия в традиционной алфавитной форме, ожидая их графического усовершенствования от художников. Пиктографический характер изображений-понятий непосредственно не очевиден, и буквы воспринимаются читателями только как коррелят звуковых элементов. Именно художники должны найти способ отобразить на бумаге смысловое соответствие букв с их изобразительной экспрессивностью.11 В 1914 году П.Н. Филонов, значительно приблизившийся в аналитическом и “атомизированном” искусстве к лингвистическим опытам Хлебникова (Альфонсов 1982: 213–216), иллюстрируя «Изборник стихов» поэта, преобразил „отдельные буквы в символ, обозначающий слово в целом” (Ковтун 1989: 214). Два согласных, П и Н, содержащиеся в имени Перун, представляют зигзаг молнии, буква Г в слове гадюка приобретает очертания извивающейся змеи, согласный К в слове шиповник превращается в стилизованную ветвь с цветами и шипами. Ковтун отмечает: „В каждом случае отдельная буква становится идеограммой, изобразительным символом целого понятия. Мы слышим шиповник и видим шиповник” (Ковтун 1989: 214). Е.Ф. Ковтун называет в качестве одного из возможных источников, повлиявших на Филонова, сборник китайской поэзии в переводах «Свирель Китая», вышедший на полгода раньше «Изборника». Редактор сборника В. Марков особенно подчёркивает способности идеограммы „непосредственно выразить мысль” при помощи полисемичного графического изображения.12
В 1914 году П.Н. Филонов, значительно приблизившийся в аналитическом и “атомизированном” искусстве к лингвистическим опытам Хлебникова (Альфонсов 1982: 213–216), иллюстрируя «Изборник стихов» поэта, преобразил „отдельные буквы в символ, обозначающий слово в целом” (Ковтун 1989: 214). Два согласных, П и Н, содержащиеся в имени Перун, представляют зигзаг молнии, буква Г в слове гадюка приобретает очертания извивающейся змеи, согласный К в слове шиповник превращается в стилизованную ветвь с цветами и шипами. Ковтун отмечает: „В каждом случае отдельная буква становится идеограммой, изобразительным символом целого понятия. Мы слышим шиповник и видим шиповник” (Ковтун 1989: 214). Е.Ф. Ковтун называет в качестве одного из возможных источников, повлиявших на Филонова, сборник китайской поэзии в переводах «Свирель Китая», вышедший на полгода раньше «Изборника». Редактор сборника В. Марков особенно подчёркивает способности идеограммы „непосредственно выразить мысль” при помощи полисемичного графического изображения.12 Возможно, что Филонов, которого связывали с поэтом узы дружбы и взаимного уважения, увидел интерес, проявляемый Хлебниковым к пиктограмме, или же знал о его увлечении японским языком.
Возможно, что Филонов, которого связывали с поэтом узы дружбы и взаимного уважения, увидел интерес, проявляемый Хлебниковым к пиктограмме, или же знал о его увлечении японским языком.
Интерес к визуальному языку и идеографическому письму, проявлявшийся в Европе в конце XIX – начале XX века, в России получил особое распространение благодаря характерной для тех лет ориентации на архаику и примитивизм, и интенсивному интересу к фольклору, мифологии, поэтическим формам и языкам древних цивилизаций, преимущественно восточных. Не случайно В. Розанова так привлекали иероглифы и египетские “виньетки” из «Книги мёртвых» (Розанов 1899), К. Бальмонт проявлял огромный интерес к древним цивилизациям и искусству в Мексике, а также к письменности майя.13 Позднее каллиграф А. Ремизов назовет Восток и в особенности Китай „мифической родиной письменности” (Ремизов 1961: 40), а П. Флоренский, признавая автономию идеографической письменности по отношению „к словесному языку”, определит её как „универсальный язык человечества” (Флоренский 1971: 523).
Позднее каллиграф А. Ремизов назовет Восток и в особенности Китай „мифической родиной письменности” (Ремизов 1961: 40), а П. Флоренский, признавая автономию идеографической письменности по отношению „к словесному языку”, определит её как „универсальный язык человечества” (Флоренский 1971: 523).
В 1904 году журнал «Весы», который был в первом десятилетии XX века объектом пристального внимания Хлебникова (Харджиев 1975; впрочем, это не помешало Хлебникову в 1914 отозваться о «Весах» крайне резко; СП, V: 193), помимо статей и рецензий, посвящённых древним и первобытным формам религии и культуры, публиковал предложения по созданию “универсального языка” и рецензии по истории японской письменности и литературного наследия, в которых особое внимание уделялось идеографическому письму.14 В центре внимания оказывается двойственная операция, осуществляемая при расшифровке идеограммы: чтение и зрительное восприятие, — особого вида искусство, которое не только заменяет слова, но и изобразительно представляет саму идею.15
В центре внимания оказывается двойственная операция, осуществляемая при расшифровке идеограммы: чтение и зрительное восприятие, — особого вида искусство, которое не только заменяет слова, но и изобразительно представляет саму идею.15 Кроме того, журнал «Весы» не раз обращался к проблематике идеограмм и к иероглифическому письму, используя их как аргумент против готовившейся реформы правил орфографии, вызвавшей горячие и продолжительные дискуссии (работы по осуществлению реформы были начаты в 1904 году, возобновлены в 1914 году и закончены в 1918 году).16
Кроме того, журнал «Весы» не раз обращался к проблематике идеограмм и к иероглифическому письму, используя их как аргумент против готовившейся реформы правил орфографии, вызвавшей горячие и продолжительные дискуссии (работы по осуществлению реформы были начаты в 1904 году, возобновлены в 1914 году и закончены в 1918 году).16 Наряду с аргументами исторического, эстетического и практического характера, приведёнными противниками реформы, журнал сочувственно откликался на утверждения об истинности, подлинности идеографического письма, в отличие от упрощенной алфавитной системы.17
Наряду с аргументами исторического, эстетического и практического характера, приведёнными противниками реформы, журнал сочувственно откликался на утверждения об истинности, подлинности идеографического письма, в отличие от упрощенной алфавитной системы.17
Подобных убеждений придерживался Вяч. Иванов, который в журнале «Вопросы жизни» в 1905 г. объявил себя противником изменения графическо-визуального аспекта букв алфавита, так как сохранение алфавита является, по его мнению, гарантией жизненности языка, которая в случае упрощения была бы утрачена (см. Еськова 1966: 87). Позднее, в 1918 году Вяч. Иванов написал статью «Наш язык», в которой подробно развивал свои возражения против „пресловутой орфографической реформы”:
‹...› измышляют новое правописание, которым нарушается преемственно сложившаяся соразмерность и законченность его начертательных форм ‹...› Но чувство формы нам претит: разнообразие форм противно началу всё изглаживающего равенства. (Вяч. Иванов 1994: 398)
Интерес Вяч. Иванова к иероглифическому письму связан с его теорией языка (см. его статью «Поэт и чернь»; Вяч. Иванов 1904, 3: 1–8), в которой поэт выделяет первобытно-мифотворческую стадию, характеризуемую высокой степенью когнитивности и способностью к ясновидению, и современную стадию, на которой язык теряет всякую связь с мифом. Задачей поэта является возродить эту связь, он „изобретает новое — и обретает древнее” (7–8). Тем же путём идёт и Хлебников, изучающий прошлое в перспективе движения к утопическому будущему.
Верным сторонником пиктографического письма являлся также Николай Фёдоров. Статья Николая Федорова «О письменах», опубликованная в журнале «Весы» в середине 1904 года18 (на неё позднее сошлётся Д. Бурлюк в «Поэтических началах»), оставила зримый отпечаток в наследии футуристов и, в частности, в творчестве Хлебникова. Провозглашённое в первых манифестах поэтов неприятие печатных букв, признание за графическим написанием семантической функции — в этих идеях и в способе их выражения (выбор лексики, образы) можно видеть прямое влияние размышлений Н. Фёдорова о скорописи, которая, „урезывая буквы, как урезывают в ту же эпоху платье, как сокращаются церемонии и обряды, лишает буквы их величия”. То же можно сказать и о важном значении палеографии, которая, „следя за изменением почерка, открывает перемены настроения, совершавшиеся в духе поколений” (Фёдоров 1904: 2–4). Н. Фёдоров прослеживает деградацию письма, утратившего с ходом прогресса первичную выразительность идеограмм и иероглифов — выразительность, которая ослабла и закостенела в алфавитной системе и наконец полностью исчезла с началом печати. Иероглифическая грамота же, по мнению Н. Фёдорова, представляет собой „живое письмо”, первую технику письма, требующую от писателя „художественных способностей и полноты души” (Фёдоров 1904: 4).
(на неё позднее сошлётся Д. Бурлюк в «Поэтических началах»), оставила зримый отпечаток в наследии футуристов и, в частности, в творчестве Хлебникова. Провозглашённое в первых манифестах поэтов неприятие печатных букв, признание за графическим написанием семантической функции — в этих идеях и в способе их выражения (выбор лексики, образы) можно видеть прямое влияние размышлений Н. Фёдорова о скорописи, которая, „урезывая буквы, как урезывают в ту же эпоху платье, как сокращаются церемонии и обряды, лишает буквы их величия”. То же можно сказать и о важном значении палеографии, которая, „следя за изменением почерка, открывает перемены настроения, совершавшиеся в духе поколений” (Фёдоров 1904: 2–4). Н. Фёдоров прослеживает деградацию письма, утратившего с ходом прогресса первичную выразительность идеограмм и иероглифов — выразительность, которая ослабла и закостенела в алфавитной системе и наконец полностью исчезла с началом печати. Иероглифическая грамота же, по мнению Н. Фёдорова, представляет собой „живое письмо”, первую технику письма, требующую от писателя „художественных способностей и полноты души” (Фёдоров 1904: 4).
Сходство лингвистических концепций философа и поэта заключается не только в интересе к идеографическому письму. Обоюдное стремление к утопическому единоязычию имеет целью вернуть народам утраченную возможность единообразного видения мира, которое, не теряя индивидуальности, должно ориентироваться как на Восток, так и на Запад, как на прошлое, так и на достижения современной науки. Интуиция веры состояла в том, что познание и использование тайны вселенной обеспечит лучшее будущее всему человечеству. Фёдоров не ставил перед собой задачу создать новый или искусственный язык, но полагал необходимым, используя „возрождающую” филологию, осуществить сравнительный анализ всех языков, в особенности наиболее древних, который возродил бы первородную чистоту и понятность праязыка (Фёдоров 1906, 1: 255–256, 348–349). Философ „общего дела” ставил перед лингвистом задачу, которую можно интерпретировать как персональный призыв к Хлебникову — составить словарь корней всех языков, ибо „изучение языка представляет собой выявление похожих черт в других языках”. Хлебников как поэт, вооружённый персональной „воображаемой филологией” (Григорьев 1982: 18–38), в те же годы намеревался достичь действительного решения поставленной задачи.
5. Язык / письмо
Нет ничего необычного в том, что Хлебников, уже поставивший перед собой цель найти универсальный язык, прибегнул к изучению идеографической системы в то время, как споры вокруг реформы правил орфографии позволили россиянам, чья привязанность к рукописной форме оказалась одной из наиболее стойких (Janecek 1984: 3–18), осознать, что письмо всегда заключало в себе не только “семантическую”, но и изобразительную, “наглядную” сторону.
В 1912 году И.А. Бодуэн де Куртенэ (Бодуэн 1912) высказал свое мнение о соотношении “русский язык — письмо” в многостраничном отчёте о проделанной работе в качестве члена подкомиссии по реформе правил орфографии. Предвосхищая свою будущую полемику с заявлениями футуристов о семантическом значении письма и графических знаков, учёный признаёт за письмом исключительно функцию обозначать язык и подчёркивает необходимость и удобство чёткого разделения между фонемой и графемой. Теория лингвиста, в которой правила орфографии рассматриваются с точки зрения их пользы, а само письмо представлено исключительно как алфавитная система, не получила признания со стороны писателей и поэтов того времени. Поддержанное символистами стремление Вагнера к синтезу всех видов искусства, а также интерес к визуальному письму представляют собой основу для развития тесного сотрудничества и общности исследований литературного и художественного авангарда, которая в дальнейшем подтолкнет поэтов-художников к осознанному размышлению об экспрессивном потенциале визуального языка и о возможности взаимодействия между миром слова и миром изображения.
Признание важности зрительных элементов, высказанное в первых манифестах кубофутуристов, наряду с подчеркиванием необходимости фонетических поисков в качестве одного из главных принципов построения поэтического языка,19 становится, так же как и концепция слова, одним из элементов, дифференцирующих различные тенденции в поэтической практике футуризма. Для Кручёных, например, попытка синтеза звукового и зрительного элемента представляет собой поиск самостоятельной экспрессивной функции означающего как на звуковом, так и на зрительном уровне. Он ориентируется в обоих случаях на случайность, алогичность, основанную на иррациональном содержании или на значениях подсознания. Для будущего лефовца Маяковского визуализация графического элемента отвечает требованиям новой массовой коммуникации. После победы революции поэт мотивирует первые формальные попытки словесно-визуального синтеза потребностью вскрыть “плакатные” свойства слова, повышающие эффективность воздействия вывески, лозунга, рекламы.
становится, так же как и концепция слова, одним из элементов, дифференцирующих различные тенденции в поэтической практике футуризма. Для Кручёных, например, попытка синтеза звукового и зрительного элемента представляет собой поиск самостоятельной экспрессивной функции означающего как на звуковом, так и на зрительном уровне. Он ориентируется в обоих случаях на случайность, алогичность, основанную на иррациональном содержании или на значениях подсознания. Для будущего лефовца Маяковского визуализация графического элемента отвечает требованиям новой массовой коммуникации. После победы революции поэт мотивирует первые формальные попытки словесно-визуального синтеза потребностью вскрыть “плакатные” свойства слова, повышающие эффективность воздействия вывески, лозунга, рекламы.
Хлебников проводит углублённое исследование минимальных семантических элементов языка, заключённых в корнях слов, в буквах алфавита, в музыкальных нотах, в цифрах; он анализирует графический знак с целью выявить первоначальные элементы письма. Поэт как бы проделывает в обратном направлении путь символической редукции знаков, в результате которого пиктограммы, преодолевая промежуточные фазы, раз за разом приближались к фонетическому звучанию, к алфавитной форме передачи информации, преобладающей в современном мире.
Заслугой Хлебникова является максимальное развитие кубофутуристской теории, согласно которой графический профиль букв имеет как звуковое, так и смысловое значение. Переход от фонемы и морфемы к графеме представляет собой оригинальную переработку современных Хлебникову философско-научных концепций. Так, к концу 10-х годов Хлебников приходит к мысли о том, что в семантике согласных преобладают пространственные значения, а в семантике гласных — временные. Р. Вроон указывает, что главным источником для Хлебникова была монография Щербы о русских гласных и их акустических параметрах, цифровой подход к гласным, позволявший определить их соотношение с другими исчисляемыми физическими и культурными явлениями. Исследования Хлебниковым числа не случайны. Именно “цифровые обозначения” традиционно приводятся как типичный пример идеографической системы записи при „условности связи означающих знаков с соответствующими понятийными категориями” (Гамкрелидзе 1999: 668). Онтологическое отношение число-слово сохраняется очевидным, по Хлебникову, в некоторых простых словах, не потерявших иконичность первородного языка и связь с архаическим бытом. Число ‘семь’ этимологически соотносится поэтом со словом ‘семья’, поскольку в прошлом семья состояла из семи человек (семь-я), и отсюда же выводится этимология числа ‘восемь’, которое говорит о входе в семью (во-семь) нового человека (СП, V: 184–185). Таким образом поэт стремится показать, что слова суть лишь слышимые числа нашего быта, озвучание сил природы и что законы мира совпадают с законами счёта (266). Число — это тоже всеохватывающий принцип: само слово начинается с согласной Ч, имеющей в этом случае значение оболочки оболочек.
6. Пиктограмма и математическая прерывность
Учение Хлебникова не может быть понято без учёта общего культурного базиса, породившего многочисленные идеи и исследования российских интеллектуалов начала века, в том числе в области литературы и новых научных открытий, таких как теория четвёртого измерения Эйнштейна, неэвклидова геометрия,20 но прежде всего в области прерывности в математике.
но прежде всего в области прерывности в математике.
Размышления Хлебникова во многом близки к учению теолога и математика Павла Флоренского, с которым поэт познакомился в 1916 году (Петровский 1923: 145–147): их роднили разносторонность и широта интересов, большое значение, придаваемое математике, физике и языкам, понимание этимологии как игры и, в частности, обоюдное стремление к объединению знаний в различных областях науки в целях поиска единого инструмента для познания вселенной. Теория П. Флоренского о принципе прерывности как основе для новой концепции вселенной, выдвинутой математиками Кантором и Бугаевым,21 а также его “семиотическое” понятие науки как описания различных явлений (например, языка как системы определённых терминов в их взаимосвязи — см. Vjač.Vs. Ivanov 1989: 24–25), нашли отклик в видении мира и лингвистико-математических исследованиях поэта.
а также его “семиотическое” понятие науки как описания различных явлений (например, языка как системы определённых терминов в их взаимосвязи — см. Vjač.Vs. Ivanov 1989: 24–25), нашли отклик в видении мира и лингвистико-математических исследованиях поэта.
Хлебниковская концепция числа как информационной основы вселенной, начиная от истории и заканчивая духовными принципами, лежит в основе атомной, монадной теории космоса, включающей в себя процесс мышления и язык, который представляет собой воспринимаемую чувствами оболочку числовых отношений. По мнению Хлебникова, числа как минимальные исчисляемые единицы выражают собой отношения и взаимосвязи, движения и напряжения в макрокосмосе, в полной мере представленные в идеограммах — пиктограммах. В графическом микрокосмосе представлена динамика изменения явлений и предметов, их статика и способ выражения такой модели мышления, которая стремится привести кажущуюся реальность к законченной системе концептуальных отношений, а значит — знаков (Pignato 1987: 89). Позднее (1920–1930) П. Флоренский, основываясь на теории идеографического письма, задумывает создать словарь символов, систематический сборник графических изображений, выражающих понятия в соответствии с философией Платона (разделяемой и Хлебниковым), согласно которой значения всех конкретных форм явлений происходят из основных геометрических фигур.22
Symbolarium Флоренского, азбука ума и Доски судьбы Хлебникова представляют собой математический принцип прерывности, применённый к языку, мышлению и времени.
“Раскопки” этимонов русского языка, различные виды словотворчества, исследования чисел, исторических законов, а также букв и пиктограмм, музыкальных тонов происходят у Хлебникова на основе “прерывной” модели реальности, расчленяемой на минимальные значимые единицы, структурируемые поэтом в семантическую модель динамико-оппозиционного типа. Буквы-пиктограммы, отражающие реальность как комплекс динамико-геометрических отношений, рассматриваемых как “игра сил”, и прототипы математических операций противопоставлены между собой и внутри себя в соответствии с двоичной системой, принятой в математике, в истории, в природе, в мысли. Числа два / три, отношение пространство / время, событие / контрсобытие, соответствуют семантическим оппозициям букв азбуки ума и представляют собой неделимые биномы, движущие процессы будущего. Как для языка математики, так и для понятий пространство / время Хлебников использует метафору дерева, содержащего в корнях бесконечную сеть возможностей созидания и познания. На числовую и пиктографическую систему Хлебников возлагает задачу моделирования всей полноты действительности, передавая функцию выражения кодифицированного содержания от словесных форм графико-символическим формам как первичной моделирующей функции. Поэт предпочитает графический и числовой коды, автономные по отношению к устному регистру речи и наилучшим образом соответствующие нашим перцептивным возможностям. В соответствии с теорией Хлебникова концептуальный универсум (но не его запись в языковых единицах) содержится непосредственно в пиктограммах и в цифрах. Благодаря этому знаки-символы, уже готовые для оперирования с ними, как нельзя лучше подходят для передачи мышления по аналогии и для комплексного представления реальности (как в случае китайских идеограмм, изображающих Десять тысяч Существ — собой завершённое графическое воспроизведение мира). Символизируя макрокосмос и упорядочивающие его отношения, образные коды Хлебникова имеют различное значение и могут быть интерпретированы на нескольких уровнях.
Таким образом, в мире корней, букв, идеограмм и чисел Хлебников пытается идентифицировать принципы-архетипы и реляционные модели, позволяющие читать единую книгу вселенной. Действуя на всех уровнях реальности в соответствии с единым принципом прерывности, код Хлебникова позволяет не только перейти при интерпретации от одного ряда к другому, но и воздействовать на события, используя существующие соответствия между различными уровнями реальности. В работе «Доски судьбы» поэт указывает, что будущее может быть предвидено, исчислено, включено в уже установленные ряды событий; любое отдельно взятое явление может быть подведено под общий закон.
Будучи убеждён в том, что мыслительная деятельность воспроизводит отношения, коренящиеся в действительности, и что аналогичная структура языка и математики таит в себе некий Код кодов, Хлебников, с одной стороны, “впадал” в одну из форм онтологического структурализма как метода познания действительности, а с другой стороны, производил металингвистические операции с элементарными механизмами языка. Его исследования языка, чисел и пространственно-временных отношений превращаются в оригинальное и сложное художественное творчество.
————————
Примечания  1
1 См. статьи: «Изберём два слова:...», «Ухо словесника...», «Каким образом в со...», «З и его околица», «Вступительный словарик односложных слов» (Хлебников 1940: 325–333, 345–347), «Учитель и ученик», «Разговор двух особ», «Неизданная статья», «Разговор Олега и Казимира», «Разложение слова», «О простых именах языка», «Перечень. Азбука ума», «Второй язык», «Художники мира!», «О стихах», «Наша основа» (СП, V: 171–192, 198–211, 216–243). См. также метапоэтические тексты Хлебникова, в особенности: «Слово о Эль», «Царапина по небу», «Зангези» (СП, III: 70–72, 75–86, 317–368).
 2
2 См. Костецкий (1975: 34–39); Григорьев (1982: 153–166); Григорьев (1983: 74–83); Lanne (1983, 1: 51–74); Weststeijn (1983: 85–87); Cooke (1987: 67–103); Вроон (1999: 255–266).
 3
3 См. прим. 2. Интерес Хлебникова к иероглифическому и идеографическому письму признан не имеющим значения и обсуждается крайне редко и попутно (см. Григорьев 1983: 79–80; Lanne 1983, 1: 73, Cooke 1987: 81).
 4
4 Мы опираемся на следующие определения: пиктография — „этап развития письма: отображение содержания сообщения в виде рисунка или последовательности рисунков” (ЛЭС 1990: 374). Отличие пиктограмм „от знаков фонетического письма заключается в незакреплённости за пиктограммой конкретной единицы языка, в возможности интерпретации пиктограмм на любом языке” (374). Идеографическое письмо характеризуется тем, что в нем „каждый знак (изобразит, элемент) может обозначать любое слово в любой грамматич. форме в пределах круга понятийных ассоциаций, либо прямо вызываемых изображением, составляющим данный знак, либо условных” (375). Идеограмма — „письменный знак, обозначающий, в отличие от букв, не звук или слог к.-л. языка, а целое слово или корень” (171).
 5
5 Например, термины, относящиеся к двадцати различным выражениям, иллюстрирующие изображение-понятие, заключенное в букве X, основная часть которых относится к диалектизмам (СП, V: 200).
 6
6 См. рассказ Денике, одноклассника Хлебникова (Харджиев 1975: 7).
 7
7 Почти одновременно с
азбукой ума Хлебникова Е. Fenellosa говорит о способности многочисленных корней и союзов в китайском языке выражать динамическую силу глагола, то есть являться в сущности глагольными номинациями. Этим свойством обладают также многие корни санскрита (Fenellosa 1973: 16–35).
 8
8 „‹...› в содержании каждого языка необходимо различать два компонента — универсальный и идиоэтнический, из которых один общий всем языкам, а другой характеризует каждый язык в его индивидуальном своеобразии” (Кацнельсон 1972: 11).
 9
9 „В слове мы различаем:
внешнюю форму, то есть членораздельный звук,
содержание, объективируемое посредством звука, и
внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, которым выражается содержание ‹...›, например,
жалованье — действие любви (ср. синонимические слова
миловать — жаловать, из которых последнее и теперь ещё местами значит
любить), подарок, но никак не законное вознаграждение” (Потебня 1976).
 10
10 Fioroni (1977); Weiger (1965). О магической функции идеограмм см. Pignato (1987: 74–97). Магический характер языка Хлебникова рассмотрен в статье Cooke (1980: 15–42).
 11
11 Семантическое значение графических знаков было теоретически обосновано в статье А. Кручёных и В. Хлебникова «Буква как таковая» (см. Марков 1967: 60–61).
 12 В. Егорьев и В. Марков
12 В. Егорьев и В. Марков. Свирель Китая.
Санкт-Петербург. 1914, с. VII, цит. по Ковтун (1989: 219). Издательство «Союз молодёжи» опубликовало в № 2 одноименного сборника от 1914 года подборку стихотворений из первого сборника. Ковтун приводит данные о знакомстве и контактах Филонова и Маркова (219).
 13
13 Свидетельством интереса К. Бальмонта к искусству и культуре Центральной Америки явились воспоминания поэта о поездке в Южную Америку в 1904 году, опубликованные в нескольких номерах журнала «Весы» («Поэзия и стихия», 1905, № 1, сс. 1–22; «В странах солнца», 1905, № 4, сс. 1–10; № 6, сс. 19–34; № 8, сс. 17–30), а также частичный и адаптированный перевод текста «Попол Вух» (опубликованный под названием «Страна красных цветов (Мексика) и Космогония Майев: отрывки из Священной книги Пополь Вух» в журнале «Искусство», 1905, № 1, сс. 22–27, 28–41, а затем в журнале «Золотое руно», 1906, № 1, сс. 18–89; № 2, сс. 45–57). Кроме того, К. Бальмонт ссылается на индейские, перуанские и пр. языки (Бальмонт 1915: 59, 66).
 14
14 На тему “универсальный язык”, см., например, рецензию Аврелия (В. Брюсова) на книгу
Ch. André. Le Latin et le Probleme de la Langue Internationale.
Paris. 1903, в журнале «Весы», 1904, № 7, cc. 45–49, а также краткую заметку о статье «La lingua italiana come lingua universale» (опубликованной в «La nuova parola», 1903, №№ 4 и 5), в журнале «Весы», 1904, № 5, cc. 70–71. На тему “идеографические характеристики китайской и японской письменности” см. рецензию С. Ешбоева на книгу
Я.Б. Шницер. Иллюстрированная всеобщая история письмен.
Санкт-Петербург. 1903 («Весы», 1904, № 1, сс. 62–65), и, в частности, рецензию Брюсова на перевод на русский язык книги
В. Астон. История японской литературы, опубликованный во Владивостоке в 1904 году («Весы», 1904, № 9, сс. 68–70).
 15
15 См. указ. рец. Брюсова на книгу Астона («Весы», 1904, № 9, с. 69).
 16
16 «Весы», 1904, № 6, сс. 73–74. В упомянутом журнале (1905, № 1, сс. 77–78) опубликован перевод французского манифеста Союза защиты традиционной орфографии, напечатанного в «Le Beffroi», 1904, № 1, направленного против реформы правил французской орфографии, решение о необходимости которой было принято Министерством народного образования, а также статья Rimy de Gourmont (Весы, 1904, № 12, сс. 73–74). Об истории реформы правил орфографии в России и спорах, сопровождавших работу комиссии, см. также Еськова (1966: 57–96); Janecek (1984: 12–18) и М. Кузьмина (1999: 211–217).
 17
17 Это мнение выражено в трёх работах одесского лингвиста А.И. Томсона, две из которых («Реформа в ущерб грамотности и правописанию» и «Необходима реформа не правописания, а преподавания правописания») были прорецензированы в газете «Русские ведомости», №№ 267 и 281, а также в журнале «Весы», 1904, № 10, сс. 76–77. См. также Еськова (1966: 83).
 18 Н. Федоров
18 Н. Федоров. О письменах (1904: 1–5), переиздано:
Н. Федоров. Философия общего дела. T. 1.
Верный, 1906, т. II,
Москва, 1913 (переиздано Genève 1985, ed. L’age d’homme), т. 1, 20–25. H. Федоров посвятил идеографическому письму ещё одну статью, оставшуюся незаконченной (Федоров 1906, II: 223).
 19
19 В особенности «Из альманаха
Садок судей» и «Буква как таковая» (Марков 1967: 51–53,60–61).
 20
20 Рецензии на работу
N. Boucher. Essai sur l’hyperspace.
Paris. 1903 (в журнале «Весы», 1904, № 2, 71–72);
P. Barbarin. La géometrie non euclidienne.
Paris. 1903 («Весы» 1904, № 2, 70–71).
 21
21 Взаимоотношения между понятием “непрерывность”, лежащим в основе математической науки XIX века, и понятием “прерывность” как основным научным принципом XX столетия (тема дипломной работы П. Флоренского «Идея прерывности, как элемент миросозерцания» [1903], введение к которой было недавно опубликовано) рассматриваются П. Флоренским в статье «Об одной предпосылке мировоззрения», «Весы», 1904, № 9, сс. 24–35, в ней автор подчёркивает важность учений Г. Кантора и Н.В. Бугаева в этом направлении. См. также Алексеев (1905) и рецензию в журнале «Весы», 1905, № 5, сс. 57–58.
 22
22 П. Флоренский (1971: 521–527). Мистическому подходу и отсутствию научной методологии французской и русской школ символистов, скомпрометировавших, по мнению философа, само понятие “символизм”, П. Флоренский противопоставляет конкретную научную теорию, в основе которой лежит историко-сравнительный метод, позволяющий проанализировать символическое наследие более ранних культур с точки зрения „международного внеисторического словаря” и возможного практического использования графическо-визуальных знаков для выражения понятий (524–527).
Литература Алексеев, В.Г.
1905 Н.В. Бугаев и проблемы идеализма Московской математической школы.
Юрьев.
Альфонсов, В.А.
1982
Чтобы слово смело пошло за живописью (В. Хлебников и живопись). // Литература и живопись.
Ленинград.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruБальмонт, К.Д.
1915 Поэзия как волшебство.
Москва.
Белый, А.
1922 Глоссолалия.
Берлин.
1994 Глоссолалия.
Томск.
Бодуэн де Куртенэ, И.А.
1912 Об отношении русского письма к русскому языку.
Санкт-Петербург.
1963 Об отношении русского языка к русскому письму. //
И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды
по общему языкознанию, т. 2. Москва.Вежбицкая, А.
1999 Семантические универсалии и описание языков.
Москва.
Вроон, Р.
1999 О семантике гласных в поэтике Велимира Хлебникова. // Поэтика. История литературы. Лингвистика:
Сборник к 70-летию Вяч.Вс. Иванова. Москва.Гамкрелидзе, Т.В.
1999 Типология письма как знаковой системы. // Поэтика. История литературы. Лингвистика.
Сборник статей к 70-летию Вяч.Вс. Иванова. Москва.Гаспаров, Б.М.
1996 Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования.
Москва.
Гельб, И.
1982 Опыт изучения письма.
Москва.
Григорьев, В.П.
1982 Воображаемая филология Велимира Хлебникова. // Стилистика художественной речи.
Межвузовский тематический сборник. Калинин. 1983 Грамматика идиостиля.
Москва.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruЕськова, Н.А.
1966 Коснёмся истории. // Орфография и русский язык.
Москва.
Иванов, Вяч.
1904а Наш язык. // Родное и вселенское.
Москва.
1904б Поэт и чернь. // Весы, № 3.
Иванов, Вяч.Вс.
1976 Категория времени в искусстве и культуре XX века. // Ритм, пространство и время
в литературе и искусстве. Ленинград, 39–49. 1988 Эйзенштейн и культуры Японии и Китая. // Восток-Запад. Исследования, переводы, публикации.
Москва.
1999 Символ-образ и изображение в киноязыке. // Избранные труды
по семиотике и истории культуры, т. 1. Москва.Кацнельсон, С.Д.
1972 Типология языка и речевое мышление.
Ленинград.
Ковтун, Е.Ф.
1977 Русская футуристическая книга.
Москва.
Костецкий, А.Г.
1982
Лети, созвездье человечье... (В. Хлебников — интерлингвист). // Ученые записки ТГУ, вып. 613.
Тарту.
Кузьмина, М.
1999 Общество и орфографии (на материале историй реформы 1904–1918 гг . // Язык.
Культура. Гуманитарное знание. Москва.ЛЭС
1990 Лингвистический энциклопедический словарь.
Москва.
Мамфорд, Л.
2001 Миф машины.
Москва.
Марков, В.
1967 Манифесты и программы русских футуристов.
Мюнхен.
Петровский, Д.
1923 Воспоминания о Велимире Хлебникове. Леф, № 1.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruПотебня, A.A.
1905 Из записок no теории словесности.
Харьков.
1976 Мысль и язык. // Эстетика и поэтика.
Москва.
Ремизов, А.
1961 Подстриженными глазами.
Париж.
Розанов, В.
1899 О древне-египетской красоте. // Мир искусства, № 10, 105–109;
№ 11–12, 121–124; № 13–14, 1–8; № 16–17, 29–32.Федоров, Н.Ф.
1904 О письменах. // Весы, № 6, 1–5.
1906 Философия общего дела, т. 1,
Верный, 1906, т. II,
Москва, 1913 (переизд. Genève 1985, ed. L’age d’homme).
Флоренский, П.
1971 Symbolarium (Словарь символов). // Труды по знаковым системам, вып. 5.
Тарту.
Харджиев, Н.
1975 Новое о Хлебникове. // День поэзии.
Москва.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ruХлебников, В.
1940 Неизданные произведения (далее — НП) (под ред. Н.И. Харджиева и Т.С. Грица).
Москва.
Репринт: München, 1971. 1928–1933 Собрание произведений, тт. I–V (далее — СП) (под ред. Ю.Н. Тынянова и Н.Л. Степанова).
Ленинград.
Репринт: München, 1968–1972. 1986 Творения (под общей ред. М.Я. Полякова).
Москва.
Cardona, G.R.
1981 Antropologia della scrittura.
Torino.
Cheng, F.
1977 L’écriture poétique chinoise.
Paris.
Cooke, R.
1980 Magic in the Poetry of Velimir Chlebnikov. // Essays in Poetics, Vol. 56, № 2.
1987 Velimir Khlebnikov. A Critical Study.
Cambridge.
Coulmas, F.
1989 The writing systems of the world.
Cambridge.
Fenellosa, E.
1973 L’ideogramma cinese come forma di poesia.
Milano.
Fioroni, Sandri G.
1977 Matzuri: Kanji e imi. // Conoscenza religiosa, № 4.
Gelb, I.J.
1963 A Study of Writing.
Chicago and London.
Ivanov, Vjac.Vs.
1989 Le ricerche linguistiche di P.A. Florenskij. // P.A. Florenskij,
Attualità della parola. La lingua tra scienza e mito. Milano.Janecek, G.
1984 The look of Russian literature.
Princeton.
Lanne, J.-C.
1983 Velimir Khlebnikov: poete futurien, 2 t.
Paris.
Lotman, Ju.
1969 I1 problema di una tipologia della cultura. // I sistemi di segni e lo strutturalismo
sovietico (a cura di R. Faccani е U. Eco). Milano.Mandelker, А.
1986 Velimir Chlebnikov and Theories of Phonetic Symbolism in Russian Modernist Poetics. // Die Welt
der Slaven, Jahrgang XXXI, Heft 1.Pignato, C.
1987 Lo specchio fumante. Forme di divinazione e modelli di conoscenza.
Roma.
Weiger, L.
1965 Chinese Characters.
New York.
Weststeijn, W.G.
1983 Velimir Chlebnikov and the Development of Poetical Language in Russian Symbolism and Futurism.
Amsterdam.
Воспроизведено по:
Russian Literature LV (2004) 405–429
Благодарим Барбару Лённквист
(Barbara Lönnqvist, Åbo Akademi University, Turku)
за содействие web-изданию
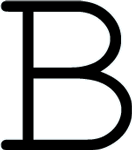 начале XX века Велимир Хлебников разрабатывает онтологическое учение, в котором сплавляются воедино наука и искусство, точное и гуманитарное знания, человек и космос, объективное и субъективное начала. Хлебников принадлежит своему времени, и его искания созвучны культурно-гносеологическому контексту первых десятилетий XX века. Но Хлебников вышел из своего времени, и не только потому, что умозрительность теоретических построений он соединял с наглядностью практического воплощения. Переведённые на язык современности, взгляды Хлебникова оказываются поразительно близкими научным устремлениям, характеризующим порубежье второго и третьего тысячелетий. В первую очередь здесь следует назвать когнитивистику. Хлебников поставил вопрос об азбуке ума, то есть об универсальных мыслительных концептах, которые определяют вербально-интеллектуальную деятельность человека. Обратившись к системам письма, Хлебников показал, как взаимодействуют перцептивная и ментальная когнитивные способности человека. Подход к буквам как простым именам языка и попытка прочесть их как трансформы пиктограмм может рассматриваться как демонстрация интертекстуальности, но также и как демонстрация механизмов удержания знания и утраты знания. В одном пункте взгляды Хлебникова как будто расходятся с антропоцентрической научной парадигмой. Речь идёт о мыслительных концептах. Хлебников настаивал на том, что первичные кванты смысла представляют собой считывание пространственно-временных характеристик внеязыкового мира и в этом смысле они объективны. Хлебников провидел многое, и будущее покажет, сколько истины содержится в этом его представлении. В настоящей статье в разных аспектах рассматриваются лингвистические прозрения Хлебникова.
начале XX века Велимир Хлебников разрабатывает онтологическое учение, в котором сплавляются воедино наука и искусство, точное и гуманитарное знания, человек и космос, объективное и субъективное начала. Хлебников принадлежит своему времени, и его искания созвучны культурно-гносеологическому контексту первых десятилетий XX века. Но Хлебников вышел из своего времени, и не только потому, что умозрительность теоретических построений он соединял с наглядностью практического воплощения. Переведённые на язык современности, взгляды Хлебникова оказываются поразительно близкими научным устремлениям, характеризующим порубежье второго и третьего тысячелетий. В первую очередь здесь следует назвать когнитивистику. Хлебников поставил вопрос об азбуке ума, то есть об универсальных мыслительных концептах, которые определяют вербально-интеллектуальную деятельность человека. Обратившись к системам письма, Хлебников показал, как взаимодействуют перцептивная и ментальная когнитивные способности человека. Подход к буквам как простым именам языка и попытка прочесть их как трансформы пиктограмм может рассматриваться как демонстрация интертекстуальности, но также и как демонстрация механизмов удержания знания и утраты знания. В одном пункте взгляды Хлебникова как будто расходятся с антропоцентрической научной парадигмой. Речь идёт о мыслительных концептах. Хлебников настаивал на том, что первичные кванты смысла представляют собой считывание пространственно-временных характеристик внеязыкового мира и в этом смысле они объективны. Хлебников провидел многое, и будущее покажет, сколько истины содержится в этом его представлении. В настоящей статье в разных аспектах рассматриваются лингвистические прозрения Хлебникова.