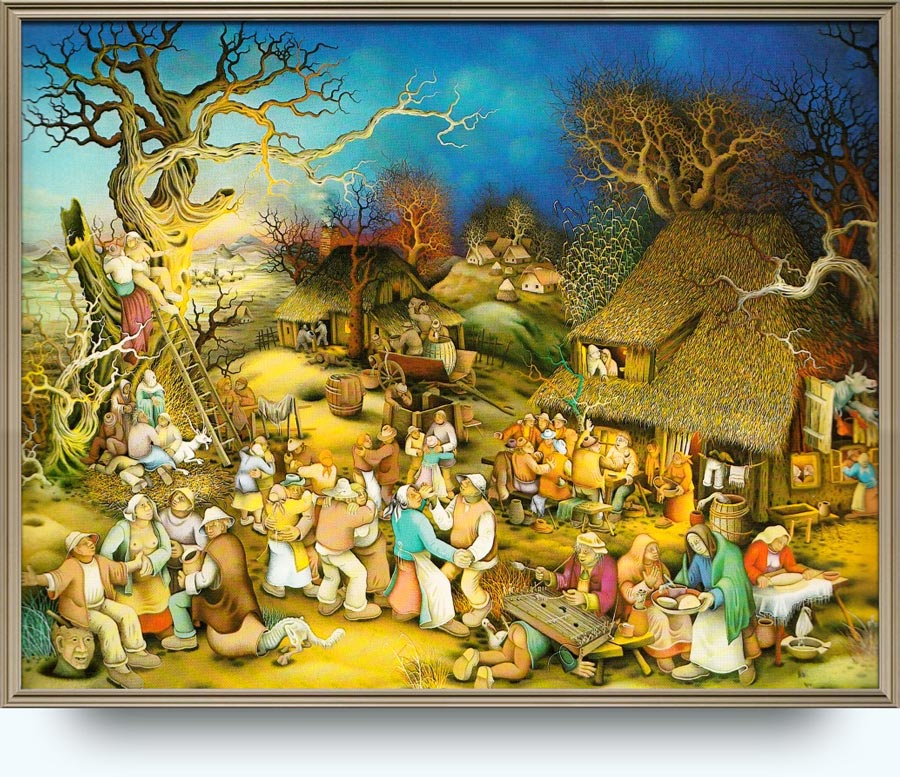
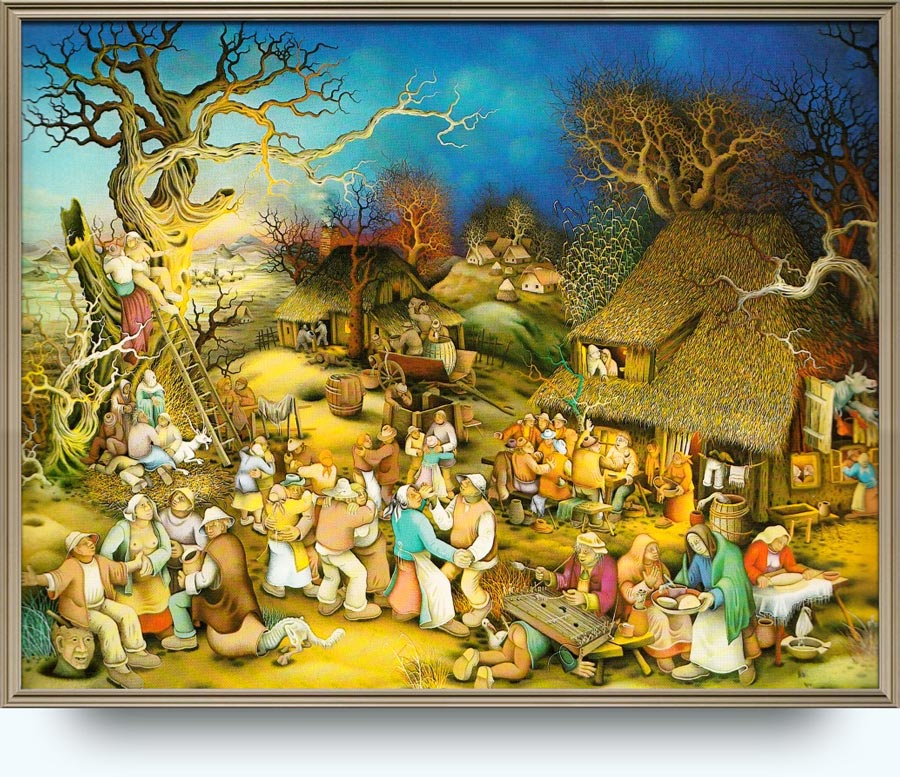

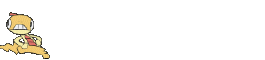
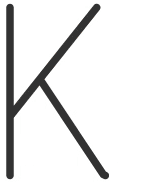 онечная цель Хлебникова — восстановление мифических представлений о мире посредством литературы. “Трезвая мысль” читателя должна быть полностью отключена, где только это возможно. Заметим, что поэт неоднократно прямо связывал трансментальный язык с заклинаниями и словесной магией, используя заумь и заговор как синонимы.1
онечная цель Хлебникова — восстановление мифических представлений о мире посредством литературы. “Трезвая мысль” читателя должна быть полностью отключена, где только это возможно. Заметим, что поэт неоднократно прямо связывал трансментальный язык с заклинаниями и словесной магией, используя заумь и заговор как синонимы.1Стремление возродить эту веру в человеке XX века настолько овладело Хлебниковым, что он попытался мифологизировать литературное творчество в целом, то есть выйти за рамки словесности в обычном её понимании. Далее мы рассмотрим два блока вопросов: содержание (становление мышления мифами, см. главу 6) и совокупность приёмов, которые обеспечивают наибольшую близость к образцам такого мышления. Примерами таковых мы займёмся прямо сейчас.
Стихотворение полностью состоит из новообразований от корня сме-. Повторение этой морфемы, напоминающее литанию, создаёт впечатление сакрального текста,5![]()
Это стихотворение — из числа произведений, с которыми молодой Хлебников ознакомил Вячеслава Иванова, и можно понять описанное Йоханнесом фон Гюнтером изумление этого символиста-мистика перед строками, которые никоим образом не предвещали последующего увлечения молодого стихотворца вопросами веры (поставленными в поэме «Ночной обыск», например). В письме к Вячеславу Иванову от 10 июня 1909 года он признаётся в безразличии к ним, предположив общее происхождение рас и религий:
Антирелигиозная и антиметафизическая установка Хлебникова особенно ярко выражена в следующем четверостишии, едва ли не нигилиста, которое весьма напоминает опусы Давида Бурлюка:
Подпись Х.В. к рисунку 1913 года Кручёных поясняет следующим образом: „Так Хлебников переставлял свои инициалы, пародируя „Христос Воскрес”.9![]()
После Октябрьской революции эта тема становится для него особо значимой: всесокрушающий порыв общественного переворота приобретает религиозную составляющую. В «Настоящем» (1921) разгневанная толпа («Голоса с улицы») требует не только социальной справедливости, но и расплаты с христианским Богом:
С недоумением, если не сказать с разочарованием, толпа в «Зангези» (1922) внимает пению убегающих божеств: „Боги улетели, испуганные мощью наших голосов. К худу или добру?”11![]()
Жизненные установки Хлебникова и Хуго Балля здесь удивительным образом перекликаются. Перелом, для Хлебникова означавший разрыв с Бурлюками и, соответственно, с футуризмом, совпал с уходом Балля из «Кабаре Вольтер». Балль стал христианским отшельником, возвратился к простому, образному строю поэзии и написал «Византийское христианство».
Опрощение Хлебникова, не в последнюю очередь под влиянием русской революции, более прерывисто и многосложно. Настойчивый поиск истинного языка, понимаемого как математическая или символическая знаковая ведава, ранее позволявшая переживать вполне лишь метафизически опосредованное знание, занимает в его модели мира порожнее место Бога. Мифологизация языка у Хлебникова, таким образом, означает отход к до- (не)религиозному состоянию сознания. Приёмы анализа речи позволяют передать новые смыслы. Так называемое внутреннее склонение и поэтическая этимология становятся важными как никогда. Уже в диалоге с Кратилом Сократ говорит Гермогену, что слово сохраняет своё основное значение, даже если некоторые буквы добавлены или опущены. Эти “производные” слова невозможно отделить от их исходного словарного поля какими угодно изменениями внешнего вида (пре- или суффиксацией, например), хотя
Основываясь на весьма схожих посылках, Хлебников приходит к открытию того, что он называет внутренним склонением (среди прочего, успешно исследованного Тодоровым и Лаухусом13![]()
В полном согласии с правилами русской грамматики, Хлебников полагает, что, формы *ле (как родительный падеж) и *лы (как дательный падеж) проистекают из “первобытного” *ла. Отсюда следует, что русские лексемы ‘лес’ и ‘лыс’ или производные от них слова ‘лесина’ и “лысина” этимологически родственны, поскольку их корневые морфемы — косвенные случаи вымершего “исконного” *ла. Хлебников углубляет свою мысль, своеобразно истолковывая обнаруженную им родственную связь:
Тот факт, что Малларме провёл те же псевдоэтимологические изыскания, предвосхитив открытие Хлебникова до мелочей,15![]()
Хлебников собрал нéсметь подобных поэтических этимологий, некоторые из которых затмят любую небывальщину. Например, в псевдонаучном трактате «О бродниках» он пытается извлечь подробности быта этих кочевников из русского слова ‘бродяга’ исключительно с помощью лингвистического анализа — в очередной раз утверждая, что знание можно извлечь непосредственно из языка.
Изобретение (скорее, заимствование) Хлебникова в очередной раз подтверждает его стремление к полному, с нуля, переустройству языка. Когда во многих своих стихотворениях он, казалось бы, произвольно связывает слова, далёкие по значению, но похожие по звучанию, он стремится открыть новые смыслы, обнаружить скрытое единство в, казалось бы, разрозненных явлениях, то есть постичь мир заново, мысля мифами:
Так египетская мифология “переопыляет” современную синестетическую концепцию языка. Стремление обнаружить слова-глаза Ка привело Хлебникова к созданию целых стихотворений из поэтических этимологий и паронимов.17![]()
Менее эффектно, зато более тонко в художественном отношении, Хлебников возводит поэтическую этимологию в средоточие смысла здесь, например:
Стихотворение разделено на три части: первая строка описывает неблагоприятную для лирического Я внешнюю обстановку; строки 2–4 противопоставляют самооценку восприятию в глазах общества; три строки финала, на первый взгляд, не имеют никакой связи с первоначальным заявлением.
Напряжение возникает из несовместимых представлений о себе: пугливом диком кролике и короле государства времен. Только распознав в последнем намёк на изыскания Хлебникова в области философии истории (по крайней мере, один раз его не шутя назвали „королём времени”19![]()
![]()
Выявление “архисемы” текста, понятийной пары “кролик-король”, позволяет понять и последние три строки, в которых, очевидно, устанавливается лингвистическая связь: небольшой (морфологически) шаг разделяет два уподобления, tertium comparationis которых — лирическое Я (в данном случае, тождественное Хлебникову). Этот шаг видим, с одной стороны, в уменьшительном суффиксе -ик, с другой — в противопоставлении полнозвучной и неполнозвучной морфем корня, что одновременно представляет собой одно из чередований гласных, отличающих современный литературный русский язык от древнерусского (более примитивного — стало быть, когнитивно предпочтительного, по Хлебникову).
Таким образом, последние три строки содержат пояснение на синхронном и диахронном уровнях к метафорически выраженному посылу о том, что противоположные, казалось бы, вещи не лишены определённой близости и скрытого внутреннего родства. Здесь Хлебников высказывает мысль, весьма напоминающую упомянутое выше дальневосточное учение о всеединстве, подхваченное В. Соловьёвым и его последователями.
Отсюда воистину шаг небольшой до образности, в которой соотношение размеров или расстояний даётся в обратной перспективе или даже с точностью до наоборот: В этот день голубых медведей / Пробежавших по тихим ресницам | И каждый зеркальный небоскрёб моего волоса и т.п.
Для Хлебникова это язык, посредством которого восприятию мира возвращается былая свежесть. Изъяснение на нём способно раскрыть внутренние закономерности нашего существования: обнаружен действенный приём познания. Своё открытие, позволяющее освоить невообразимые ранее смысловые связи непосредственно в языке, Хлебников описал следующим образом:
Поразительно, с какой настойчивостью вопрос содержания произведений Хлебникова вновь и вновь возвращает нас к его языковедческим изысканиям. Открытие внутреннего склонения применительно к русскому стихосложению — вклад Хлебникова в современную русскую поэзию, который трудно переоценить.
Так, Эткинд подобные приёмы у Ахматовой и Цветаевой прямо приписывает влиянию Хлебникова.22![]()
![]()
Благодаря русскому формализму, особенно в школах, близких к структурализму, утвердилось представление о том, что отдельные звуки в поэзии несут особую нагрузку. Отсюда представление о фонетическом уровне стихотворения как микросистеме внутри его смысловой оболочки. Слова, фонетически связанные друг с другом посредством созвучия, вступают в особые смысловые отношения внутри данного текста, вне его таковые не существуют.
Эта, ставшая едва ли не общепринятой, идея косвенно восходит к художественной практике футуристов, особенно Хлебникова. Его внутреннее склонение прямо предназначено для смычки звукового и содержательного уровней языка:
Хлебников порой волхвует именами собственными, но крайне редко столь откровенно, как в стихотворении «Усадьба ночью...», построенном по образцу ритуальных заклинаний, которые следует рассматривать только с точки зрения именной каббалистики. Читаем:
Как это часто бывает, словообразование служит магии языка. В данном случае Хлебников превратил большинство имён собственных в глаголы повелительного наклонения, дабы усилить действенность анимистического колдовства. Усадьба, ночная природа и небесные явления связываются с крупнейшими знатоками ратного дела, властителями дум, музыкантами и живописцами. Людям разных времён, культур и даже континентов предстоит вдохнуть новую жизнь в теневой ландшафт — застывший в томительной неопределённости слепок деятельного мира преходящих личностей. Упомянутая выше синкретика хлебниковского языка поэзии, в данном случае представляя мифическое пространство, „тотемический окоём” Кассирера,28![]()
Уже в первых двух строках заложен главный идеологический посыл — синтез России и Азии, о котором Хлебников мечтал всю свою жизнь. Усадьбе29![]()
![]()
Этот пример показывает, насколько мало имена собственные у Хлебникова соответствуют исторической обстановке и личным качествам их былых носителей. В случае Гасдрубала (ст. 24), например, достоверность распознавания не более 33%, поскольку неясно, кто из трёх полководцев, носивших это имя, имеется в виду. Личность растворяется в родоплеменной стихии; основанное на сходстве поименование героических поколений в эпосах, близких к мифу («Песнь о Хильдебранде», например), — пережиток такого мышления. У Хлебникова гений призываемых личностей без остатка поглощён их именами; поэт обладает неограниченной властью над поименованиями, распоряжается ими.
Во второй части стихотворения эйфория анимизма уступает место смирению (Но смерч улыбок пролетел) и смутному ощущению угрозы: лирическое Я осознаёт мимолётность смерча, хохочущего когтями криков (ст. 7–8) и, тем самым, полагающему чарам предел (см. главу 5.2). Внезапно в текст вклинивается образ противоположного свойства — палач (стих 9), и на исходе ночи вдруг становится ясно, что всё вернулось на круги своя: Ещё плеснула сутки ось (ст. 15).
Только ближе к финалу возникает действительная опасность, а именно: обиходные слова, молчаний Каины, низвергают святых выскочек и вменяют заклятие в ничто (ст. 21–22). Содержательная полярность двух основных понятийных рядов, день-слово (рассудок) и ночь-тишина-заклинание (азиатское чутьё), создаёт смысловую основу стихотворения и событийную канву внетекстового времени: власть рассудка ещё слишком велика, чтобы позволить мифическому сознанию, питаемому бессознательным (= ночным), распоряжаться чем-либо вне заповедного круга магии.
Значимость имён-обращений в этом стихотворении усиливается рассмотренным выше приёмом порождения мифа средствами словотворчества. Хлебников не ограничивается только вербализацией имён собственных, но ставит на службу делу тонкости русского словообразования. Так, от имени собственного Мамай (хан Золотой Орды, проигравший битву на Куликовом поле в 1380 году русскому войску под предводительством Дмитрия Донского) он образует пассивное причастие прошедшего времени омамен по образу и подобию общеизвестного ‘опьянён’. Переводчик этого стихотворения Петер Урбан удачно передал смысл строки Пусть сосны бурей омамаены → Mögen berauscht sein die Fichten vom Sturme Mamais.31![]()
Следует отметить, что табу на имена (как правило, верховного божества) в этом стихотворении очевидно. Степан Разин, один из столпов хлебниковской модели мира, упомянут иносказательно: двигава стихотворения подсказывает, что в строках И вас я вызвал смелоликих, / Вернул утопленниц из рек подразумевается именно Разин и его возлюбленная, утонувшая, как принято считать, в Волге.32![]()
Тому, каким образом Хлебников литературно обработал предание о Разине, посвящена следующая глава.
Это палиндром: при чтении в прямом и обратном направлении каждая строка повторяется.
«Разиным» Хлебников совершил беспримерный подвиг, сочинив поэму более чем из 400 стихов полностью в виде перевертня. Приём повторения одной и той же основы, напоминающий литанию, уже был рассмотрен, однако здесь это впечатление ещё более отчётливо. Каждая отдельная строка образует замкнутый на себя микрокосм, цикл вечного повторения. Тот же архитектурный подход очевиден и в поэме как таковой — она завершается вступительными строками Мы, низари, летели Разиным. Таким образом, каждый стих-перевертень есть уменьшенное подобие гигантского цикла вечного повторения.
Этот композиционный приём в очередной раз доказывает сквозную, глубоко продуманную преемственность хлебниковского творчества. Оказывается, цикличная статика ранних, “под старину”, поэм «Вила и Леший» и «Шаман и Венера» или обрамление поэмы «Хаджи-Тархан» мифическим образом Волги, не просто низведены до уровня “изящной словесности”, но пронизывают её насквозь: форма и содержание слиты воедино.
Перевертень можно понять и как попытку оставить потомкам неподвластный времени текст, который при прочтении в будущем (опять-таки туда и обратно) передаст одно и то же содержание — в корне отличаясь этим от бытописательства любого рода. Даже при чтении вспять послание поэта не может быть изменено (и, следовательно, лишено магической силы — распространённое среди верующих начётчиков убеждение34![]()
![]()
В «Разине» именно художественная форма, подобно мифу, обеспечивает всеобъемлющее единство отдельных явлений (= стихов); форма — начало покоя в непреходящем, вечном времени. Соответственно, и Разин, претерпев перевоплощение, причастен вечности: Я Разин со знаменем Лобачевского, — заявляет Хлебников в зачине поэмы. Формальный приём обратимой самооценки в конечном итоге определяет и личное отношение Хлебникова к Разину. В поэме «Труба Гуль-муллы» он мнит себя “вывернутым наизнанку” Разиным: Я Разин напротив / Я Разин навыворот.36![]()
Степень взаимопроникновения поэтического языка и мифа в поэме «Разин» подпадает под определение, данное мифическим текстам как таковым:
Отсутствие строгой временнóй последовательности в тексте Хлебникова не вызывает раздражения: отдельные главы (Путь → Бой → Делёж добычи → Тризна → Пляска → Сон → Пытка) содержательно независимы, то есть могут быть расположены в ином порядке, не меняя общего впечатления.
Миф о Разине, предъявленный в таком виде, полностью выдуман, достоверных сведений о бунтаре XVII века доискиваться в нём не следует. Это замечание относительно содержания согласуется с выводом Вроона38![]()
Во многом произвольная привязка отдельных глав «Разина» — неизбежное следствие осознанно мифического повествования: цель не в передаче связной последовательности событий, поэма лишена временны́х рамок, её пространство подстать «Усадьбе ночью...» (см. выше). Причина такого рода неопределённости в том, что миф повествует о событиях в недоступном человеческому измерению “священном времени”. Таковое в корне отличается от профанного восприятия дления чего-либо и может быть воссоздано только произнесением мифических текстов.39![]()
Отказ от одномерного времени имеет далеко идущие последствия. Хлебников, например, перебивает автобиографический посыл провокационным вопросом: Нужно ли начинать рассказ с детства?40![]()
Таковое не сохранилось, но допустимо предположение, что в итоге был написан рассказ «Мирсконца», в котором (если выделить самое невероятное) в начале повествования Поля и Оля стоят на пороге могилы, а в последней строке мы видим их младенцами в детских колясках.42![]()
Точки соприкосновения «Мирсконца» с приёмами создания культовых текстов налицо. Изучая магические формулы, Малиновский, например, приходит к выводу: допустимо
Любопытно, что Хлебников обычно связывает “опрокидывание” времени с человеческой жизнью. Создаётся впечатление попытки преодолеть неизбежность старения и смерти посредством мифических идей, поскольку христианская вера, несмотря на меняющийся подход к ней поэта, для этого в любом случае не годится: Опасно видеть в вере плату / За перевоз на берег цели.44![]()
Вопрос о смерти ставится в поэзии Хлебникова с неуклонным постоянством. Возможность противостояния необратимости исчезновения всех и каждого он усматривает в учении о реинкарнации. Буддийская уверенность в переселении душ и взаимозамену всего живого особенно заметна в текстах излёта его жизни: Я обретает свой “островок безопасности” в коловороте расцвета и распада:
Подобные образчики лично переживаемого времени напоминают мысль Ницше о „возвращении вечно того же самого” — мифологему, по сути.48![]()
![]()
В этом смысле показательны строки из поэмы «Влом вселенной», где поэт на примере бедствий гражданской войны в России показывает эти качели в низшей точке судьбоносной дуги:
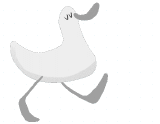
Тиран без Тэ.
Велимир Хлебников. Труба Гуль-муллы.
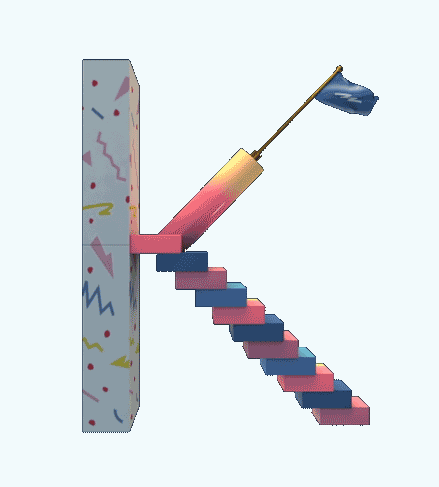 переводу Райнера Гольдта я приступил под обаянием его предварительницы на Хлебникова поле француженки русского происхождения Луды Шнитцер (Luda Schnitzer, 1913–2002). Среди прочих остроглазья цветов (СП III: 193) промокашка моей князь-ткани (НП: 318) всосала подмеченную этой инозвучобицей (СП IV: 18) в Хлебникове язвительность до того потаенную, что даже гороха, по совету Ивана Никифоровича, наевшись, не въедешь.
переводу Райнера Гольдта я приступил под обаянием его предварительницы на Хлебникова поле француженки русского происхождения Луды Шнитцер (Luda Schnitzer, 1913–2002). Среди прочих остроглазья цветов (СП III: 193) промокашка моей князь-ткани (НП: 318) всосала подмеченную этой инозвучобицей (СП IV: 18) в Хлебникове язвительность до того потаенную, что даже гороха, по совету Ивана Никифоровича, наевшись, не въедешь.— Эге, да у него Гоголь в рукаве, — мигнул понимающе глаз опытного посетителя.
— Да у него Гоголь живее всех живых! — не по-хорошему облизнулся тот же знаток.
— Врёшь, не уйдёшь. Сомлела? То-то. Ну и бока, в баркас не втащить. А мы тебя на кукан, да парусу полную волю! След кровавый стелется? Плевать. Ну вот, милости просим. Налетай, мнé что за печаль. У нас так: главное путь, а не достижение.
Уж сколько раз твердили миру: семь раз отмерь. Взыщи, то бишь, самоназвание Х.В. где-либо помимо изданной Ал. Кручёных «Записной книжки Велимира Хлебникова» (М.: ВСП. 1925. С. 2).
Справляемся в ЗкВХ, сколь веские доводы приводит Ал. Кручёных в пользу пасхального возгласа христиан посредством ёрнической перестановки букв.
В ЗкВХ множество хлебниковских подписей. Восемь из них (с. 8, 10, 11, 13, 15, 16, 16, 17) — В.Х., одна (с. 2) — Х.В.
Заглянуть в ЗкВХ соискателя из Майнца надоумил, полагаю, проф. В.П. Григорьев:
Смотрим, кто ещё разделяет мнение Ал. Кручёных о глумлении Хлебникова над христианством.
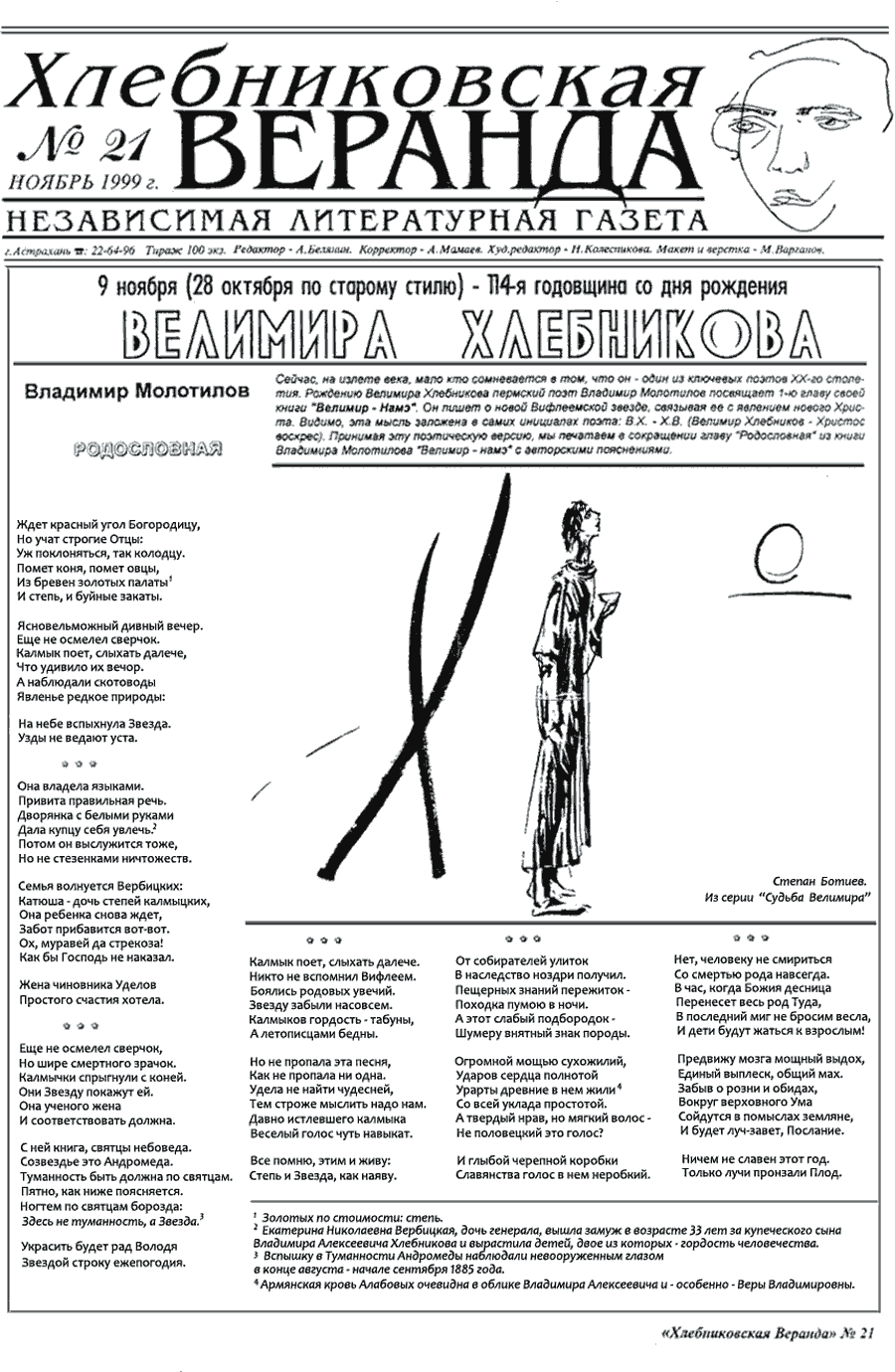
Кто из легкоголовых верандян подвёл Владимира Молотилова под анафему — знаю, но не скажу: много чести. А вот кем ославил Велимира Хлебникова Ал. Кручёных, стоит напомнить.
| 1908а | Г-н, А. (псевд.?), Рождество за границей. Рождество в Австралии // Родной Край, Херсон, 9, 2. |
| 1908b | (Dub.), (Рецензия на доклад о Л. Андрееве) // Родной Край, 14. 3., 4. |
| 1908c | (Dub.), (Рецензия на доклад о Л. Андрееве) // Родной Край, 15. 3., 4. |
| 1908d | (Dub.), (Рецензия на пьесу «Ганнеле» Г. Гауптманна) // Родной Край, 25. 11., 3–4. |
| 1909a | Наука любви // Родной Край, 3. 9., 3. |
| 1909b | Горелин, А. (псевд.). О новом искусстве, символизме и импрессионизме вообще, о выставке картин «Венок» в частности // Родной Край, 4. 9., 3. |
| 1909c | Новая психология новых писателей // Родной Край, 4. 9., 3. |
| 1909d | Новые заветы // Родной Край, 4. 9., 3. |
| 1909e | Мотивы декаданса // Родной Край, 5. 9., 2. |
| 1909f | Горелин, А. (псевд.). Выставка картин «Венок» // Родной Край, 6. 9., 3. |
| 1909g | Г., А. (псевд.). Театр и музыка (рецензия) // Родной Край, 15. 10., 4. |
| 1909h | Два властных лика любви // Родной Край, 17. 10., 3. |
| 1909i | Горелин, А. (псевд.). «Анфиса», пьеса в 4-х действиях Л. Андреева // Родной Край, 1. 11., 3. |
| 1909j | Г., А. (псевд.). Театр и музыка. Городской театр // Родной Край, 3. 11., 3. |
| 1909k | Г., А. (псевд.). Неудача таланта или неудача в таланте? // Родной Край, 4. 11., 3. |
| 1909l | Г., А. (псевд.). Лучше поздно, чем никогда! // Родной Край, 7. 11., 3. |
| 1909m | Горелин, А. (псевд.). Кровавые люди // Родной Край, 13.11., 2–3; 14. 11., 6; 19. 11., 3; 21. 11., 3; 24. 11., 3. |
| 1909n | (Dub.). Пьеса с живыми людьми // Родной Край, 18. 12., 3. |
| 1909o | Горелин, А. (псевд.). В рождественскую ночь // Родной Край, 25. 12., 2. |
| 1909p | Г., А. (псевд.). Театр и музыка (рецензия) // Родной Край, 29. 12., 4. |
| 1910a | Весь Херсон в карикатурах шаржах и портретах, вып.1, 2. Херсон. |
| 1910b | Письмо в редакцию // Юг (Херсон), 1. 1., 3. |
| 1910c | Горелин, А. (псевд.). Новая жизнь // Родной Край, 1. 1., 3. |
| 1910d | Горелин, А. (псевд.). Встреча Нового Года в Городском театре // Родной Край, 3. 1., 3. |
| 1910e | Г., А. (псевд.). Театр и музыка (рецензия) // Родной Край, 6. 1., 4. |
| 1910f | Горелин, А. (псевд.). Херсонская театральная энциклопедия // Родной Край, 9.1., 3. |
| 1910g | Г., А. (псевд.). Театр и музыка (рецензия) // Родной Край, 12. 1., 4. |
| 1910h | Г., А. (псевд.). Театр и музыка (рецензия) // Родной Край, 21. 1., 3. |
| 1912a | Старинная любовь. Рис. М. Ларионова. Москва: Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1912b | Хлебников, В. (сотр.). Игра в аду. Рис. Н. Гончаровой. Москва: Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1912c | Хлебников, В. (сотр.). Мир с конца. Рис. Н. Гончаровой, М. Ларионова, И. Роговина, В. Татлина. Москва: Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1912d | (Манифест.) (Стихи.) // Пощёчина общественному вкусу, 3–4. 87–88. Москва: Г. Кузьмин. |
| 1912e | (Репродукции картин.) // Искры (Москва) 18, 144. |
| 1913a | Помада. Рис. М. Ларионова. Москва:. Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1913b | Полуживой. Рис. М. Ларионова. Москва: Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1913c | Пустынники. Рис. Н. Гончаровой. Москва: Г. Кузьмин и С. Долинский. |
| 1913d | Кульбин, Н. (сотр.). Декларация слова как такового. Листовка. Санкт Петербург. |
| 1913e | Хлебников, В. (сотр.). Слово как таковое. Рис. К. Малевича. Москва: ЕУЫ. |
| 1913f | Возропщем. Рис. К. Малевича, О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913g | Чорт и речетворцы. Обложка О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913h | Хлебников, В. (сотр.). Бух лесиный. Рис. О. Розановой, Н. Кульбина. СПб.: ЕУЫ |
| 1913i | Утиное гнездышко дурных слов. Рис. О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913j | Взорваль. Рис. Н. Кульбина, Н. Гончаровой, К. Малевича, О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913k | В., З. (сотр.). Поросята. Рис. К. Малевича. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913l | Победа над солнцем. Музыка М. Матюшина, рис. К. Малевича. СПб.: ЕУЫ. |
| 1913m | (Проза.) // Пощёчина общественному вкусу, 3. Листовка. Москва. |
| 1913n | (Манифест.) (Стихи.) // Садок судей II, 1–2. 63–66. СПб.: Журавль. |
| 1913o | (Стихи.) // Союз молодёжи III, 68–72. СПб.: Л.И. Жевержеев. |
| 1913p | (Стихи.) // Дохлая луна, 16–17. Москва: Гилея. |
| 1913q | (Стихи. Статьи.) // Трое, 6–21. 22–41. СПб.: Журавль. |
| 1913r | (Проза.) // Летучая мышь 1, XIV. |
| 1913s | Малевич, К. (сотр.). Первый Всероссийский Съезд Баячей Будущего (поэтов-футуристов). // За 7 дней 28, 605–606. |
| 1914a | Стихи Маяковского. Выпыт. Рис. О. Розановой, обложка Д. Бурлюка. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914b | Собственные рассказы и рисунки детей. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914c | Хлебников, В. (сотр.). Тэ-ли-лэ. Рис. О. Розановой, Н. Кульбина. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914d | Хлебников, В. (сотр.). Игра в аду. 2-е изд. дополн. Рис. К. Малевича, О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914e | Взорваль. 2-е изд. дополн. Рис. Н. Кульбина, Н. Гончаровой, К. Малевича, О. Розановой. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914f | В., З. (сотр.). Поросята. 2-е изд. дополн. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914g | Хлебников, В. (сотр.). Старинная любовь. Бух лесиный. 2-е изд. дополн. Рис. М. Ларионова, О. Розановой, Н. Кульбина. СПб.: ЕУЫ. |
| 1914h | (Стихи.) // Молоко кобылиц, 73–74. Москва: Гилея. |
| 1914i | (Манифест.) (Стихи.) // Рыкающий Парнас, 71–72. СПб.: Журавль. |
| 1914j | (Стихи.) // Дохлая луна, 79–80. 2-е изд. дополн. Москва: Первый журнал русских футуристов. |
| 1914k | (Манифесты.) // Грамоты и декларации русских футуристов. СПб.: Свирельга. |
| 1915a | Малевич, К., Клюн, И. (сотр.). Тайные пороки академиков. Рис. И. Клюна. Москва: Тип. И.Д. Работнова. (На обложке 1916.) |
| 1915b | (Стихи.) // Стрелец I, 109. Петроград: Стрелец |
| 1915c | (Предисловие.) // Хлебников, В., Битвы 1915–1917 гг. (2). Петроград: Журавль. |
| 1916a | Алягров (участ.). Заумная гнига. Рис. О. Розановой. Москва: Тип. И.Д. Работнова. |
| 1916b | Война. Рис. О. Розановой. Петроград: Тип. Свет. |
| 1916c | Вселенская война ъ. Наклейки А. Кручёных. Петроград: Тип. Свет. |
| 1917a | Каменский, В. (участ.). 1918. Рис. К. Зданевича, наклейки А. Кручёных. Тифлис: Лит. Г.И. Демурова |
| 1917b | Учитесь худоги. Рис. К. Зданевича. Тифлис. |
| 1917c | Голубые яйца. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917d | Нособойка. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917e | Розанова, О. (участ.). Балос. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917f | Ковкази. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917g | Туншап. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917h | Город в осаде. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917i | Нестрочье. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1917j | Эганбюри, Э. (сотр.) // Выставка картин Кирилла Зданевича, 1-3. Тифлис. |
| 1918a | Клез сан ба. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918b | Маё. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918c | Фо-лы-фа. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918d | Рà-вà-хà. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918e | Бегущее. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918f | Рябому рылу. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918g | Цоц. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918h | Восемь восторгов. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918i | Из всех книг. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918j | Наступление. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918k | Зьют. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918l | Ф-нагт. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918m | Качилдаз. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918n | Шбыц. Тифлис-Сарыкамыш: Изд. автора. |
| 1918o | Ожирение роз. О стихах Терентьева и других. Тифлис. |
| 1918p | Малахолия в капоте. Рис. К. Зданевича. Тифлис. |
| 1918q | (Стихи.) // Фантастический кабачок 1, 9–10. Тифлис: Кольчуга. |
| 1918r | Любовное приключение Маяковского // Куранты 1, 15–18. |
| 1918s | Творчество художника Кирилла Зданевича // Тифлисский Листок, 29. 2., 4. |
| 1918t | Поэзия Юрия Дегена // Тифлисский Листок, 11. 12., 3. |
| 1919a | Речелом. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919b | Тушанчик. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919c | Зугдиди (Зудачества). Тифлис–Зугдиди: Изд. автора. |
| 1919d | Замауль. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919e | Двухкамерная ерунда. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919f | Миллиорд. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919g | Сабара. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919h | Железный франт. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919i | Саламак. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919j | Ксар сани. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919k | Избылец. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919l | Пролянский перископ. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919m | Коксовый зикр. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919n | Апендицит. Тифлис: Изд. автора. |
| 1919o | Лакированное трико. Юзги А. Кручёных. Запримечания Терентьева. Тифлис: 41°. |
| 1919p | Малахолия в капоте. 2-е изд. Тифлис. |
| 1919q | Миллиорк. Обложка К. Зданевича. Тифлис: 41°. |
| 1919r | Замауль. Вып. I. Баку: 41°. |
| 1919s | Замауль. Вып. II. Баку: 41°. |
| 1919t | Замауль. Вып. III. Баку: 41°. |
| 1919u | Замауль. Вып. IV. Баку: 41°. |
| 1919v | Цветистые торцы. Рис. К. Зданевича. Баку: 41°. |
| 1919w | (Стихи.) // Софии Георгиевне Мельниковой, 97–120. Тифлис: 41°. |
| 1919x | Предисловие // Чачиков, А. Крепкий гром, 1–8. Москва. |
| 1919y | Фантастический кабачок // Куранты 2, 19–21. |
| 1919z | Лунев, Е. (псевд.), А. Кручёных. Малахолия в капоте. А. Кручёных. Ожирение роз // Куранты 2, 25. |
| 1919aa | Лунев, Е. (псевд.), И. Терентьев. А. Кручёных грандиозарь // Куранты 2, 25–26. |
| 1919bb | Язвы Аполлона // Феникс 1. |
| 1919cc | О безумии в искусстве // Новый День, 26. 5., 2. |
| 1919dd | Аполлон в перепалке // 41°, 14–20. 7., 1. |
| 1919ee | Терентьев, И. (сотр.). Миллиорк // 41°, 14–20. 7., 2. |
| 1919ff | Азеф – Иуда – Хлебников // 41°, 14–20. 7., 3. |
| 1919gg | Порт // Азербайджан, 30. (31.?) 8., 3? |
| 1920a | Хлебников, В., Вечорка, Т. (участ.). Мир и остальное. Баку. |
| 1920b | Хлебников, В. (участ.). Мятеж. Кн. I. Баку: 41°. |
| 1920c | Мятеж. Кн. II. Двенадцать баллад о яде Корморане и др. Баку: 41°. |
| 1920d | Мятеж. Кн. III. Неприличь. Баку: 41°. |
| 1920e | Мятеж. Кн. IV. Стихи. Баку: 41°. |
| 1920f | Мятеж. Кн. V. Богоматерная. Баку: 41°. |
| 1920g | Мятеж. Кн. VI. Лирика. Баку: 41°. |
| 1920h | Мятеж. Кн. VII. Чудовища. Баку: 41°. |
| 1920i | Мятеж. Кн. VIII. Стихи. Баку: 41°. |
| 1920j | Мятеж. Кн. IX. Козёл-американец. Баку: 41°. |
| 1920k | Мятеж. Кн. X. Стихи. Баку: 41°. |
| 1920l | О женской красоте. Доклад. Баку: Изд. Лит.-Изд. отд. Политотдела Каспфлота. |
| 1920m | Хлебников, В.(сотр.). Биель. Баку. |
| 1920n | (Стихи.) // Алая нефть, 31–36. Баку: Азцентропечать. |
| 1920o | О мятеже // Коммунист, 9. 7., 2. |
| 1920p | Рабочим // Коммунист, 15. 7., 3. |
| 1920q | Новости литературы (рецензия) // Коммунист, 16. 7., 3. |
| 1920r | Нефть — Советроссии // Коммунист, 17. 7., 2. |
| 1920s | Лунев, Е. (псевд.), А. Кручёных. Замауль четвёртая // Коммунист, 14. 9., 3. |
| 1920t | Ещё! Еще!... // Азербайджанская Беднота, 12. 10., 2. |
| 1920u | Помогайте раненому... // Азербайджанская Беднота, 12. 10., 4. |
| 1920v | Лунев, Е. (псевд.). Алая нефть. Сборник стихотворений // Азербайджанская Беднота, 25. 10., 4 |
| 1920w | Революция // Азербайджанская Беднота, 28. 10., 2 |
| 1920x | Секущий Норд... // Азербайджанская Беднота, 31. 10., 3 |
| 1921a | Декларация заумного языка. Листовка. Баку. Тоже в: Искусство (Баку) 1, 16. |
| 1921b | Зззудо. Обложка А. Родченко. Москва. |
| 1921c | Цоца. Обложка А. Родченко. Москва. |
| 1921d | Заумь. Обложка А. Родченко. Москва. |
| 1921e | Хлебников, В., Петников, Г. (участ.). Заумники. Москва: ЕУЫ. (На обложке 1922). |
| 1921f | (Стихи.) // Искусство (Баку), 2–3, 19–20. |
| 1922a | Голодняк. Москва: Тип. ЦИТ. |
| 1922b | Зудесник. Зудутные зудеса. Москва: Тип. ЦИТ. |
| 1922c | Фактура слова. Декларация. Москва: МАФ. (На обложке 1923). |
| 1922d | Сдвигология русского стиха. Москва: МАФ. |
| 1922e | Апокалипсис в русской литературе. Москва: МАФ. (На обложке 1923). |
| 1923a | Фонетика театра. Москва: 41°. |
| 1923b | Собственные рассказы, стихи и песни детей. Москва: 41°. |
| 1923c | (Стихи.) // ЛЕФ 1, 49–52. |
| 1923d | (Стихи.) // ЛЕФ 2, 16. |
| 1924a | 500 новых острот и каламбуров Пушкина. Москва: Изд. автора. |
| 1924b | (Стихи.) // Поэты наших дней. Антология, 45–46. Москва: В.С.П. |
| 1924c | (Манифесты.) // Литературные манифесты. От символизма до “Октября”, 99–101. 106–108. 153–154. Москва: Новая Москва. |
| 1924d | (Стихи.) // ЛЕФ 4, 40–41. |
| 1924e | (Стихи.) // ЛЕФ 6, 24–26. |
| 1924f | Из жизни вождя // Огонёк, 24. 2., 3. |
| 1925a | Леф-агитки Маяковского, Асеева, Третьякова. Обложка В. Кулагиной-Клуцис. Москва: В.С.П. |
| 1925b | Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля, А. Весёлого и др. Обложка и концовки В. Кулагиной-Клуцис. Москва: В.С.П. |
| 1925c | Записная книжка Велимира Хлебникова. Собрал и снабдил примечаниями А. Кручёных. Москва: В.С.П. |
| 1925d | Язык Ленина. Одиннадцать приёмов Ленинской речи. Обложка В. Кулагиной, конструкции Г. Клуциса. Москва: В.С.П. |
| 1925e | Фонетика театра. 2-е изд. Москва: В.С.П. |
| 1925f | Против попов и отшельников. Москва: В.С.П. |
| 1925g | Разбойник Ванька-Каин и Сонька Маникюрщица. Уголовный роман. Рис. М. Синяковой. Москва: В.С.П. |
| 1925h | (Стихи.) // ЛЕФ 7, 30–32. |
| 1925i | Яков Шведов // Жизнь искусства 39, 7–9. |
| 1925j | Василий Казин // Жизнь искусства 44, 4–6. |
| 1925k | Умер ли «Леф»? // Вечерняя Москва, 9. 10., 2. |
| 1926a | Календарь. Москва: В.С.П. |
| 1926b | Гибель Есенина. (На обложке: Драма Есенина.). Москва: В.С.П. |
| 1926c | Гибель Есенина. 2-е изд., исправл. Москва: Изд. автора. |
| 1926d | Гибель Есенина. 3-е изд., дополн. Москва: Изд. автора. |
| 1926e | Гибель Есенина. 4-е изд. Москва: Изд. автора. |
| 1926f | Гибель Есенина. 4-е изд. Обложка и рис. В. Кулагиной. Москва: Изд. автора. |
| 1926g | Есенин и Москва кабацкая. II. Любовь хулигана. III. Две автобиографии Есенина. Москва: Изд. автора. |
| 1926h | То же. 2-е изд., дополнен. Москва: Изд. автора. |
| 1926i | То же. 3-е изд., дополнен. Москва: Изд. автора. |
| 1926j | Чёрная тайна Есенина. Обложка и рис. В. Кулагиной. Москва: Изд. автора. |
| 1926k | Лики Есенина. От Херувима до хулигана. Есенин в жизни и портретах. Рис. В. Кулагиной. Москва: Изд. автора. |
| 1926l | Новый Есенин. О первом томе «Собрания стихотворений». Обложка В. Кулагиной. Москва: Изд. автора. |
| 1926m | На борьбу с хулиганством в литературе. Обложка Г. Клуциса. Москва: Изд. автора. |
| 1926n | Проделки есенистов. Оттиск из книги «На борьбу с хулиганством в литературе». Обложка В. Кулагиной. Москва: Изд. автора. |
| 1926o | Дунька-Рубиха. Оттиск из книги «На борьбу с хулиганством в литературе». Обложка и рис. Г. Клуциса. Москва: Изд. автора. |
| 1926p | «Цемент» Гладкова и хулиганство. Оттиск из книги «На борьбу с хулиганством в литературе». Москва: Изд. автора. |
| 1926q | Хулиган Есенин. Обложка Г. Клуциса. Москва: Изд. автора. |
| 1926r | Псевдо-крестьянская поэзия // На путях искусства, 143–179. Москва: Пролеткульт. |
| 1926s | Четыре фонетических романа. Рис. М. Синяковой. Москва: Изд. автора. |
| 1927a | Приёмы Ленинской речи. 2-е изд. Конструкции Г. Клуциса. Москва: В.С.П. |
| 1927b | Новое в писательской технике Бабеля, А. Весёлого, Вс. Иванова, Леонова, Сейфуллиной, Сельвинского и др. (2-е изд. книги «Заумный язык у Сейфуллиной...»). Москва: В.С.П. |
| 1927c | О статье Н. Бухарина против Есенина. Листовка. Москва. |
| 1927d | Кума-затейница. Девичья хитрость. Пьесы (для деревенского театра). Москва-Ленинград: ГИЗ. |
| 1927e | Хулиганы в деревне. Пьеса (для деревенского театра). Москва: ГИЗ. |
| 1927f | Романовский, Н. (сотр.). Тьма. Пьеса (для деревенского театра). Москва: ГИЗ. |
| 1927g | Родительское проклятье // Сборник пьес для деревенской и клубной сцены. Москва: Московское театр, 47–69. |
| 1927h | Насильники // Сборник пьес для деревенской и клубной сцены. Москва: Московское театр, 101–126. |
| 1928a | Говорящее кино. 1-я книга стихов о кино. Москва: Изд. автора. |
| 1928b | 15 лет русского футуризма 1912–1927 гг. Москва: В.С.П. |
| 1928c | Приёмы Ленинской речи. К изучению языка Ленина. 3-е изд. Обл. и конструкции Г. Клуциса. Москва: В.С.П. |
| 1928d | Турнир поэтов. Москва: Ленинградский театр «Дома печати». |
| 1928e | Литературные шушуки. Москва: Ленинградский театр «Дома печати». |
| 1928f-o | Неизданный Хлебников, вып. I–ХIII. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1929a | Турнир поэтов. 2-е изд. Москва: Группа Лефовцев. |
| 1929b-d | Неизданный Хлебников, вып. XI–ХIII. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1929e | (Манифесты.) // Литературные манифесты от символизма к Октябрю, 77–82. Москва: Федерация. |
| 1930a | Ирониада. Лирика. Май-июнь 1930 г. Обложка И. Клюна. Москва: Изд. автора. |
| 1930b | Рубиниада. Лирика. Август-сентябрь 1930 г. Обложка И. Клюна. Москва: Изд. автора. |
| 1930c | Зверинец. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1930d | Турнир поэтов. 3-е изд. Москва: Группа Лефовцев. |
| 1929e-j | Неизданный Хлебников, вып. XIV–ХIX. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1930k | Живой Маяковский. Разговоры Маяковского. Обложка И. Терентьева. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1930l | Живой Маяковский. Разговоры Маяковского. Вып. 2. Обложка И. Клюна. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1930m | Живой Маяковский. Разговоры Маяковского. Вып. 3. Обложка И. Клюна. Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1931 | Велимир Хлебников. Невольничий берег // Литературная Газета, 4. 4., 3. |
| 1932a | Турнир поэтов второй. Москва: Стеклография «Всеросскодрама». |
| 1932b | Асеев, Н. (сотр.). Велемир Хлебников // Литературная Газета, 29. 6., 2. |
| 1932c | (Стихи.) // Красная стрела. Сборник-антология, посвящённый памяти В.В. Маяковского. Нью-Йорк: М.Н. Бурлюк. |
| 1933a-e | Неизданный Хлебников, вып. XXIII (?) –ХXVII (?). Москва: Группа друзей Хлебникова. |
| 1933f | Книги Бориса Пастернака за 20 лет. Обложка И. Клюна. Москва: Стеклография «Всекдрам». |
| 1934a | Турнир поэтов третий. Обложка И. Клюна. Москва: Стеклография «Всекдрам». |
| 1934b | Книги Н. Асеева за 20 лет. Москва: Стеклография «Всекдрам». |
| 1939 | Книги Н. Асеева за 25 лет // Литературный критик 4, 199–200. |
| 1942 | (Портрет Е. Петрова.) // Огонёк 28, 5. |
| 1962 | Неизданные стихи Велемира Хлебникова // День поэзии, 283. Москва. |
| 1967 | (Манифесты.) // Марков, В. (ред.). Манифесты и программы русских футуристов, 50–73. 80–85. 179–180. Мюнхен. |
| 1973 | Марков, В. (ред.). Кручёных, А. Избранное. Мюнхен. |
| 1976 | Капелюш, Б.Н. (ред.). А.Е. Кручёных. Письма к М.В. Матюшину // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год, 165–176. Ленинград. |
| 1977 | (Рисунки.) // Литературная Газета, 23. 2., 3. |
| 1978a | Сон о Филонове // Ковчег 1, 44. |
| 1978b | Ziegler, R. (red.). Brief von A.E. Kručenych an A.G. Ostrovsky // Wiener Slawistischer Almanach 1, 5–22. |
| 1981 | Ziegler, R. (red.). А.Е. Кручёных . Детство и юность будетлян // Neue Russische Literatur 2–3, 143–153. |
| 1983a | Дуганов, Р. (ред.). Алексей Кручёных. Из воспоминаний // День поэзии, 157–162. Москва. |
| 1983b | Ziegler, R. (red.). А.Е. Кручёных. Из неопубликованных стихотворений // Neue Russische Literatur 4–5, 83–95. |
Дотошность составительницы этого перечня Rosemarie Ziegler позволяет обоснованно предположить, что Велимир Хлебников простил (выделено красным) Ал. Кручёных его гнусную (выделено чёрным) выходку.
Ничего подобного.
В ЗкВХ составитель, наряду с исчезающе мало известными самоназваниями Хлебникова (Москвич | повелитель ста народов | Велимир Грозный | отъявленный Суворов | Завоеватель материка времени | Будущего свидетель | Волеполк) воспроизводит шесть хлебниковских строк лестного для себя содержания, сопровождая оные не весьма внятным пояснением:
Вот эта якобы шутливая приписка:
А вот её предварение:
Сдаётся мне, поймать чью-то мысль, а потом довести до самоубийства = поставить её с ног на голову. Что и сотворил с вразумительной, за редким исключением, заумью Велимира Хлебникова Ал. Кручёных своими юзгами (бессмысленными, но порой волнующими сочетаниями звуков).
Но каков туман войны! И вечно юный (= всегда неожиданный) острослов, и похвально усидчивый книжник, и девичьи глаза, и нежный-то, и очаровательный... Но: юркий скорее в порицание, чем в похвалу; предосудительно переимчивый; сплетник; шкурник (Выгоды личной любитель, прочтение Н.Л. Степанова, см.: СП III: 292). И, наконец, приписка опасен (прочтение Дуганова-Арензона, см.: СС II: 580). Если прочтение энглиз крепостной соответствует действительности, помета сия возводит Ал. Кручёных в невольные соучастники пакостей русским („Англичанка гадит”). Касаемо отрицательного двойника позволю себе напомнить вот что:
Юркий издатель (см. Завладев путём хитрости) с видимым удовольствием признаётся в заединщине с Бурлюками, но Хлебников, наверняка догадываясь об этом, — ни слова худого. Более того: поручает обнародовать свой царственный окрик и проследить за неукоснительным исполнением повеления. Удивляться доверию не приходится: «Игра в аду», «Мир с конца», «Слово как таковое», «Бух лесиный», «Тэ-ли-лэ». Старинная любовь, туды её в качель!
Но вот Велимир Грозный справляется у доверенного о судьбе письма. Справляется раз, другой, на третий старинная любовь спотыкается о наставленные рога, что, если верить Пушкину („Прошла любовь, проснулась Муза / И прояснился тёмный ум...”), изящной словесности во благо.
Позвольте счесть таковым и повторное приземление на пресловутую ЗкВХ: 2.
Итак, обзор самоназваний в свободном лично для меня доступе нигде, кроме оной, крамольного перевертня не обнаружил. Под несвободным подразумеваю рукописи Хлебникова из собрания Н.И. Харджиева, частию осевшие в Нидерландах, частию опечатанные в РГАЛИ. Вором виновника моей неосведомлённости, как видите, не называю: я вам не Хлебников.
Как это не может быть. А вы перемените Ал. и Кр. местами, перемените.
Оказывается, никакая Х.В. не подпись, а ключ, наводка, пеленг, азимут и т.п.
Предваряет подсказку толстогубый облик. Губy раскатать = мысленно покуситься на чужое, да? Вспоминаем, что во времена Некрасова ударение ставили на первый слог: гýба не дура. Где гýба, там и пáгуба, так?
И напоследок вам скажу: начато Гоголем, ему и ответ держать.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 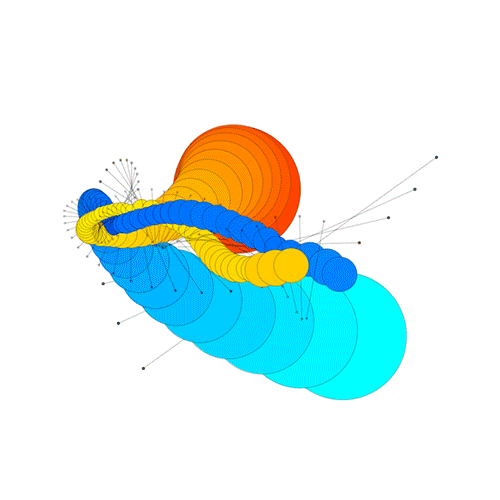 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||