

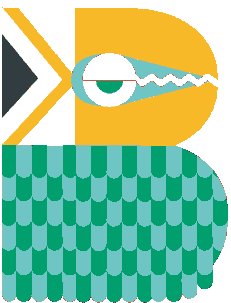 своей книге «Полутораглазый стрелец» Бенедикт Лившиц вспоминает декабрь 1911 года, проведённый вместе с тремя братьями Бурлюками в Чернянке, огромном имении графа Мордвинова, которым управлял их отец.
своей книге «Полутораглазый стрелец» Бенедикт Лившиц вспоминает декабрь 1911 года, проведённый вместе с тремя братьями Бурлюками в Чернянке, огромном имении графа Мордвинова, которым управлял их отец.В конце концов, остановились на том, что Лившиц назвал „томной Гилеей”. По его мнению, это был путь наименьшего сопротивления: символизм изобиловал греческими и латинскими названиями, даже новый литературный журнал в Петербурге назвали «Аполлон». Однако была и очевидная разница. Аполлон — имя с однозначной принадлежностью, известной любому; «Гилею» было не так легко понять. И в греческой ( Ήλαίη ), и в русской форме слово было тайной, понятной только памятливым читателям Геродота. Так греки называли местность у Черного моря, где находилась нынешняя Чернянка. Несмотря на разговоры Лившица о пути наименьшего сопротивления, название было выбрано не случайно. Бескрайняя гилейская степь, какой Лившиц застал её в день прибытия, была покрыта снегом и лишена обычных пейзажных деталей, „обозначаемых далевскими словечками”. Этот чистый, обнажённый пейзаж, недра которого таили обломки древнегреческих ваз и амфор, сразу приобрёл для него „символическое значение”. Хотя Лившиц и не раскрывает, в чём оно состоит, можно предположить, что голая степь являла собой первозданный мир, который метафорически выражал то “нулевое состояние”, из которого должно было возникнуть новое искусство.
“Футуризм” в спорах вокруг названия группы, по-видимому, не прозвучал (впервые Давид Бурлюк публично упомянул об итальянском футуризме на дебатах в феврале 1912 года, после выставки «Бубнового валета»; см. Марков 1970: 39). Одной из причин, возможно, было то, что этот ярлык уже эксплуатировали петербургские эгофутуристы во главе с Игорем Северяниным. Кроме того, в ту пору гилейцы ещё довольно мало знали о футуристском движении. Лишь в 1912 году появились «Технический манифест литературы футуризма» и первый сборник футуристской поэзии «Поэты-футуристы» — два издания, которые раскрывали цели итальянского движения более внятно, чем манифест 1909 года.
Вот почему, говоря о связи русского и итальянского футуризма, исследователи зачастую обходят гилейский период стороной; Марков, посвятивший ему отдельную главу, — исключение. Как бы то ни было, «Гилея» — подготовительный этап, её значение для позднейшего кубофутуризма не вполне очевидно.
Часто группа проходит по ведомству “примитивизма” или “неопримитивизма”: подразумевается, что она связана с направлением в русской поэзии и искусстве, популярным в 1906–1909 годах. Сборник «Ярь» Сергея Городецкого привлёк тогда пристальное внимание. Он была издан в 1906 году (на титульном листе значится 1907-й), но некоторые стихи были прочитаны ещё раньше, на “средах” у Вячеслава Иванова, и произвели фурор. Когда звучал „шаманский голос” Городецкого, вспоминает очевидец, присутствующие испытывали тот особый, „новый трепет”, который предвосхищает „появление оригинального и нового поэта” (Пяст 1929: 92).
Уклон в языческие предания, поверья, обряды и мифы Древней Руси, присущий стихам Городецкого, очевиден в книгах Константина Бальмонта («Жар-птица»), Алексея Ремизова («Посолонь», «Лимонарь»), Вячеслава Иванова («Эрос»): все они изданы в 1907 году. Новые веяния сказались и в демонологической настрое блоковского цикла «Пузыри земли» (одно из вошедших в него стихотворений, опубликованное в 1905 году, посвящено Ремизову) и в его статье «Поэзия заговоров и заклинаний» (1908). В журнале «Золотое руно» (1906–1908) значительное место занимали материалы по древнерусской археологии, мифологии и этнографии. И среди художников был тот, кто пытался воплотить этот мир на своих полотнах: Николай Рерих.
Художники и поэты новаторской складки искали в народном творчестве и первобытном искусстве новые приёмы и установки. Под влиянием, среди прочего, “африканского” стиля Пикассо и “упрощенчества” фовистов (их выставка состоялась в Москве в 1908 году) некоторые русские живописцы экспериментировали с заимствованиями из национальной традиции (третья выставка «Золотого руна» в 1909 г., где Ларионов и Гончарова использовали в качестве моделей русские иконы и народные литографии, т.н. лубок (см. Gray 1962: 87).
Существовала и третья тенденция, важная особенно для поэтов: прилежание к идеям Александра Потебни о поэтическом языке, „образности” и „конкретности” как признаках, отличающих его от практического языка (ср. Hansen-Löve 1978: 48 и далее). Это переосмысление поэтического языка, широко обсуждавшееся ещё Белым (“слово-образ” против “слова-термина”), способствовало “restitutio ad integrum” и достигло кульминации в 1913 г., когда появился лозунг „слово как таковое”, и Виктор Шкловский в лекции, прочитанной в авангардном кабаре «Бродячая собака», провозгласил „воскрешение слова”.
“Примитивизм” гилейцев заключал в себе и повышенный интерес к “скифскому” или “эллинистическому” прошлому юга России, и новую концепцию искусства, основанную не на миметической обрисовке, а на воссоздании “разъятой” реальности. Налицо попытки применить аналогичный подход и к языку поэзии.2![]()
Важность сборника Сергея Городецкого «Ярь» признаётся во всех критических обзорах этого периода (хотя «Русская литература конца XIX – начала XX вв»., издаваемая Институтом мировой литературы, умалчивает о нём), но критики педалируют его тематику, а не роль Городецкого в обновлении поэтическогог языка. «Ярь» выказывает особую интонацию, „дикую силу” (Slonim 1950: 222), но ничего подобного хлебниковскому экспериментированию здесь нет. Зато в лекции после выхода книги Городецкий рассмотрел некоторые современные тенденции, которые счёл важными для развития русской литературы. И здесь его внимание направлено на обновление поэтического языка почти в том же направлении, каким в дальнейшем будут следовать футуристы.
Эта лекция «Ближайшая задача русской литературы» была прочитана сообществу писателей и художников «Московский литературно-художественный кружок» и, судя по предисловию редакции к её печатному варианту в «Золотом руне» 1909 г., вызвала некоторую растерянность. После общего обзора символистской поэзии, обнаружившей в последнее время „явления застоя, окаменения, закрепления стиля — всё, что можно объединить под именем академизма”, Городецкий указал на „здоровый, хвойный запах” в упомянутых нами выше работах Вячеслава Иванова и Алексея Ремизова. Он дал собственное название способу обращения с языком и стилем в этих книгах и объяснил свой термин следующим образом:
Если бы русские писатели углубились в эти области, заключает Городецкий, они бы поняли, что „наша национальная гордость — это наш язык”. Лозунг этот напоминает высказывания писателей-романтиков и постромантиков (например, знаменитое стихотворение в прозе Тургенева «Русский язык»), но в нём нет и малейшего следа “квасного патриотизма”. Речь о филологическом (правда, не всегда в строгом смысле этого слова) взгляде на поэтический язык, что вскоре с неизбежностью повяжет авангардную поэзию с формалистской школой критики. Одновременно это вызов сложившемуся взгляду на русскую литературу: “доминанту” её следовало искать не в идеологических амбициях или социальной борьбе, а в языке, родном языке как носителе национального быта и, следовательно, национального самосознания (ср. статью Мандельштама «О природе слова» 1922 г.).
Итак, статья Городецкого содержит идеи, которые несколько лет спустя были развиты и переосмыслены футуристами. Возьмём, например, его термин “энергетизм”.3![]()
Формалистская школа превратила метафору в термин “ощутимость языка”. Поэтический язык, писал Шкловский, отличается от бытового тем, что его структуру можно “осязать”. Внимание читателя может быть направлено на акустическую сторону языка, на семантику, синтаксис, образность или на всё это одновременно (см.: Шкловский 1919: 4; Hansen-Löve 1978: 215 и далее). Если мы перенесёмся на несколько десятилетий вперед, то найдём ту же идею, лежащую в основе знаменитой схемы вербальной коммуникации Романа Якобсона: поэтическая функция языка заключается в его сосредоточенности на сообщении ради самого сообщения, и это „способствует осязаемости знаков” (Jakobson 1960: 356).
До сих пор я помещал “примитивизм” в исторический контекст, связывая идеи гилейцев с аналогичными течениями в русском искусстве 1906–1909 годов. Однако для правильного понимания функции “примитивизма” такой подход должен быть дополнен общим рассмотрением той особой роли, которую это понятие играет в авангардистском вызове современному состоянию художественной жизни. Нацеленный на “искусство будущего”, такой вызов оперирует рядом противопоставлений. Они не просто вращаются вокруг “сейчас” и “однажды в будущем”. Столь же важен контраст между “сейчас” и “когда-то в прошлом”: именно здесь “примитивизм” играет первую скрипку.
Одна из главных оппозиций, возникающих в авангардной ситуации в литературе, — противопоставление “литературного” “нелитературному”. Современное понятие “литература” считается слишком узким и ограниченным. Следует указать и на то, что воспринимаемое господствующей эстетикой как непристойное, низменное или вульгарное на самом деле может оказаться искусством. Действительно, на фоне окаменелого академизма всё это часто имеет особую свежесть и оригинальность. Типичным примером такого подхода в России того времени был упомянутый выше интерес к иконам, народным литографиям, народному театру, детским стихам и песенкам, заклинаниям религиозных сектантов. Книги, отпечатанные на обоях или переплетённые в мешковину, и преднамеренные опечатки в некоторых книгах Кручёных — ещё один пример вызова существующему канону с помощью “нелитературных”, “примитивных” приёмов.
Оппозиция “литературное” — “нелитературное” порождает, как видим, ещё одну оппозицию, а именно “мёртвое” — “живое”. Поэты и критики, выступавшие за новый поэтический язык, указывали, что, благодаря употреблению в бытовом общении, язык превратился в „музей мёртвых образов” (Халм), „погост мёртвых слов” (Шкловский), „улей мёртвых пчёл” (Гумилёв). В то же время, они напоминали своим читателям о более раннем, “примитивном” этапе, когда язык был живой силой, когда не было разницы между речевым общеним и поэтическим языком (Халм: „Каждое слово в языке возникло как живая метафора”).
Вполне естественно последовало и другое противопоставление: “испорченный” — “оригинальный”. Помимо общего утверждения о том, что язык “испортился” со времени своего мифического прошлого, это противопоставление можно применить и к явлениям современности. Поэтический код определённого периода постепенно достигает стадии, когда молодые поэты ощущают вырождение его первоначальной чистоты и подлинности. И тогда новые течения ставят своей задачей восстановление разрушенного, оживление мёртвого (ср. брошюру Шкловского «Воскрешение слова»). Поэтому в манифестах авангарда часто встречаются такие выражения, как purité, sessence, elémentaire (Marino 1975: 95), что по-русски означает “первобытный”, “первовозданный” (ср. Mallarmé: „donner un sens plus pure aux mots de la tribu”, T.S. Eliot: „to purify the dialect of the tribe”).
Имеются два очевидных способа, посредством которых поэты могли выполнить такую задачу. Во-первых, следует обратиться к более ранним периодам, чтобы поискать там “подлинную” или “чистую” поэзию, которую можно будет использовать в качестве образца для обновления современного поэтического языка. Другая возможность заключалась, как мы видели, в поиске этой чистоты вне традиционных жанров и шаблонов, в текстах, которые господствующая эстетика высокомерно третировала.
Существовала, однако, и третья возможность: уверить себя, что “подлинная чистота” поэтического языка была только во время óно, до появления литературы в современном её понимании, в эпоху, когда сам язык был поэзией, когда ещё чувствовалось его “внутренняя форма” (известное стихотворение Гумилёва «Слово», например, начинается словами „В оный день”). Восстание против символизма в России нашло своё знамя в лице библейского Адама. Гумилёв поначалу колебался в выборе названия нового течения: “акмеизм” или “адамизм”. Городецкий посвятил Адаму и его роли в новом мире стихотворение «Вот Адаму он поручен, | Изобретателю имён». В листовке «Декларация слова как такового» (1913) Кручёных заявлял: „Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, даёт всему свои имена” (Markov 1968: 131). Десять лет спустя Мандельштам применил тот же образ к Уолту Уитмену (используя при этом нынешний термин “первобытный”). „Как новый Адам, он стал давать имена вещам, представляя образец оригинальной поэзии номенклатуры” (Мандельштам 1966: 293).
Для групп, пришедших на смену символизму, Адам стал прообразом нового поэта, занявшего место символистского “теурга”. Он был человеком, а не пророком, пытался исследовать не абсолют, а действительность — такой, какой видел её воочию, не внимал вдохновению свыше, но, уверенный в своей творческой силе, давал свои собственные названия многообразию проявлений жизни. В этом качестве “поименователя” он, разумеется, символизировал попытки новых поэтов обновить поэтический язык. Одновременно Адам предлагал особый способ достижения этой цели. Он олицетворял заманчивую мечту о новейшем поэтическом коде, с никогда прежде не употреблявшимися знаками: он „даёт всему свои имена”, заявил Кручёных — футурист, который наиболее последовательно пытался изобрести такой код.
Поиск исконных поэтических образцов столкнулся с любопытной сложностью. Говоря об отвергнутом соратниками названии «Чукурюк», Лившиц упомянул о сложном отношении новоявленных гилейцев с Западом. Этим он мимоходом задел вопрос, который имел громадное значение для русских футуристов. Куда обратиться за образцами — к отечественной литературе или к зарубежной, где вызов устоявшемуся искусству уже дал заманчивые плоды? Это был отнюдь не праздный вопрос: речь шла о национальном престиже. На поверхность всплыло известное по истории русской культуры противопоставление “своё” — “чужое”.
Если мы обратимся к авангардным движениям в других европейских странах, то обнаружим, что и во Франции (под влиянием традиции и, возможно, военной обстановки) это был весьма деликатный вопрос. В лекции «L’esprit nouveau» Аполлинер утверждал:
Возьмём другой пример, так называемую “группу 1927 года” в Мадриде, в которую входили Лорка, Рафаэль Альберти и Висенте Алейсандре, начавшую своё движение к новой испанской поэзии с конференции, посвящённой поэту испанского барокко Луису Гонгоре. В Англии Т.С. Элиот открыл в “поэтах-метафизиках” XVII века то остроумие, тот „союз легкомыслия и серьёзности”, который мог эффективно противостоять романтическим и викторианским шаблонам. С другой стороны, английские имажинисты иной раз черпали вдохновение в китайской и японской поэзии, сделав хайку образцом новой стихотворной формы.
В своём первом манифесте русские футуристы отвергли весь новый период русской литературы, начиная с Пушкина и кончая современниками вроде Брюсова, Андреева и Бунина. Безусловно, в этом жесте было много эпатажа, но вопрос оставался: к чему прильнуть, где найти родник свежего слога? Французской, немецкой или английской поэзии предшествовали насыщенные, обильные плодами литературные движения, которые могли дать образцы более “чистой” и “оригинальной” поэзии. Но для русских авангардистов, казалось, до Пушкина источников “живой воды” не было вообще.
Они открыли, правда, „мощно неуклюжего Державина” (Мандельштам 1966: 388), но это было частью авангардной эстетики в целом: согласно «Манифесту слова как такового» (1913) нужно стремиться к тому, „чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной” (Markov 1968: 129). Мандельштамовская характеристика Державина может относиться и к стилю этого поэта вообще, и к его образности в частности, где иногда проявлялась простонародная грубость. И действительно, как указывает Марков, один из шокирующих образов Бурлюка повторяет известное сравнение Державина:
Налицо и более общая черта русской поэзии XVIII века, которая могла привлечь поэтов-авангардистов. Это был период становления русского литературного языка. Он ещё не был полностью нормирован: допускался выбор определённых словообразований, порядка слов, даже морфологических форм. Смысл некоторых слов был изменчив, и церковнославянское наследие по-прежнему играло важную роль, навязывая поэтам стилистические клише. Иными словами, ситуацию можно охарактеризовать лозунгом итальянского футуризма: „parole in libertà”. В частности, некоторые футуристские и имажинистские эксперименты с перестановкой слов напоминают русскую поэзию барокко (Винокур, 1943: 95; общее рассмотрение темы “барокко и футуризм” см.: Смирнов 1977: 118 и далее).
Когда-то имажинизм сформулировал развитие русской поэзии так: „От образного зерна первого слова, через загадку, пословицу, через «Слово о полку Игореве» и Державина — к образу национальной революции” (Nilsson 1970: 27). Как видим, от Державина есть скачок к «Слову», которое имажинисты приветствовали как первый образец имажинистской поэзии, а Кручёных видел в нём не дебют, а кульминацию русской поэзии, после чего всё неуклонно ухудшалось (Markov 1968: 127).
Потом была народная поэзия (не сказки, а загадки и пословицы) — первоначальное „образное зерно” слова, “нулевая” стадия, эпоха мифов. Особый соблазн, который в какой-то степени компенсировал всем постсимволистским группам в России отсутствие (по сравнению с прочими европейскими литературами) великих движений до 1800 года и побуждал их к смелым экспериментам с поэтическим языком, состоял в том, что здесь они могли найти утраченные связи слова с конкретным объектом (Хлебников), первообразом слова (имажинисты), исчезнувшей магией языка («Поэзия как волшебство» Бальмонта, гумилёвское «Слово»), зарождение его “эллинизма” (Мандельштам).
Визит Маринетти в Россию в 1914 году обострил проблему “национального” и “иноземного”, как бы разделив футуристов на два лагеря. В открытом письме Маяковский, Большаков и Шершеневич отрицали всякую прямую зависимость русского футуризма от группы Маринетти, указывая на литературный параллелизм, объединяющее влияние:
Хлебников и Лившиц, напротив, распространили листовку, в которой нападали на тех, кто „из личных соображений припадает к ногам Маринетти, предавая первый шаг русского искусства по пути свободы и чести, и склоняют благородную выю Азии под ярмо Европы” (Markov 1968: 150). В этом утверждении содержится несколько посылов, характерных для течения “примитивизма” и “национальной культуры”, которое я попытался обрисовать выше. Особо следует отметить выражение „первый шаг русского искусства по пути свободе и чести”. Мы можем понять этот пассаж как попытку подчеркнуть, что только с возвращением поэтического языка к его первоистоку (мифологическому, скифскому, славянскому наследию) русское искусство ступило твёрдой ногой на верный путь.
Кажется, здесь столкнулись два несовместимых взгляда на современную поэзию. Одни утверждали, что поэзия должна быть “национальной”, другие стояли за “космополитическое” искусство. Последнее подразумевает интерес к технике, изобретениям, жизни больших городов и, следовательно, поэзию, которая идёт в ногу с промышленным развитием. Те же, кто предпочитал “самобытность” и “первозданность”, говорили о возврате к мифическим истокам всего и вся, отмежёвываясь от современного жизнеустройства и технологии.
Однако эти противоречия с лёгкостью разрешились. В конце года, после начала Первой мировой войны, Маяковский, несмотря на прежний упор на “космополитизм”, в статье «Россия, искусство, мы» поднимает на щит лозунги “примитивизма”: „в России теперь есть группа молодых художников, которая уже начала воскрешать настоящую русскую живопись, простую красоту дуг, вывесок, древнюю русскую иконопись безвестных художников, равную и Леонардо и Рафаэлю”. Что касается литературы, то всякий, кто читал стихи Хлебникова или Кручёных, согласится, что они „вытекли не из подражания вышедшим у “культурных” наций книгам, а из светлого русла родного, первобытного слова, из безымянной русской песни” (Маяковский 1955: 320).
Одним из объяснений здесь были, разумеется, патриотические чувства, охватившие в первые месяцы войны большинство поэтов. Но если заглянуть глубже, станет ясно, что эти два противоположных взгляда в действительности были двумя полюсами одного и того же явления. Неудовлетворённость настоящим принимает у авангардистов два направления: возврат к периодам или этапам культуры, когда поэзия была “чистой” и “неиспорченной”, и, с другой стороны, взгляд вперёд, в будущее, когда искусство снова будет “чистым” и способным обновить мир. Обе эти утопические мечты — о “неиспорченном” прошлом и о “прекрасном” будущем — повлияли на русский футуризм.
Лёгкость, с какой они могли соединиться, наблюдаем в работах не только Хлебникова, но и Каменского и Кручёных. Последний написал небольшое стихотворение «Дыр бул щыл», пожалуй, самое цитируемое из всего корпуса текстов русского футуризма. Оно наглядно показывает способ слиятия противоположных, казалось бы, утопий русского футуризма (и связанных с каждой из них поэтических приёмов).
Стихотворение является образцом “заумного языка”, который был в центре внимания особенно в годы „слова как такового”, т.е. к “интуиции”, этого краеугольного камня эстетики футуризма (ср. Trillo Clough 1961: 43). Оно, кажется, иллюстрирует важный футуристский принцип и в другом отношении: «Дыр бул щыл» можно назвать “саморазрушающимся”, что соответствует футуристскому лозунгу „смерть искусству!” (ср. Trillo Clough 1961: 56). Стихотворение начинается весьма энергично и заканчивается постепенным спаданием напора посредством использования преимущественно кратких фонем. Последняя строка фактически может рассматриваться как предпоследняя, за которой следует мёртвая тишина.
Комментируя своё стихотворение, Кручёных сказал, что в нём „больше России”, чем в собрании сочинений Пушкина. Если читать стихотворение с учётом этого заявления, то первая строка может звучать скорее как три звука какого-нибудь примитивного охотничьего рожка, чем как футуристский “брутальный концерт”. Если оставить в стороне эти общие акустические впечатления и попытаться расшифровать стихотворение с помощью какого-либо известного языка, можно выявить корни и обрывки русских слов, но более точными окажутся совпадения с тюркским словарём (в частности, с татарским), и эта параллель, несомненно, более интересна (Nilsson 1978: 139). Такое сходство вызывает в памяти столь дорогую многим русским поэтам азиатчину (Лившиц: „Только признав себя азийским, русское искусство сбросит с себя позорное и нелепое ярмо Европы” (Markov 1968: 157) и подчёркивает “примитивистское” впечатление стихотворения.
Иными словами, код «Дыр бул щыл» можно считать и футуристским (“интуитивное понимание”, “брутальный концерт”, “смерть искусству!”), и “примитивистским” (“имитация тюркских языков”, “азиатское наследие”).
Тот факт, что оба кода соотносимы с этим произведением, ставшим своего рода эмблемой русского футуризма, ясно показывает, насколько легко встретились и слились два направления в русском литературном контексте 1910-х годов. Это, без сомнения, существенная черта русской ветви европейского авангарда.
| Персональная страница Нильса Оке Нильссона на ka2.ru | ||
| карта сайта | 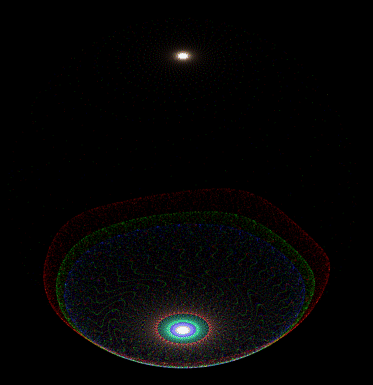 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||