

Гилея приобрела значение символа после отказа от названия Чукурюк, предложенного — вероятно, шутки ради — Владимиром Бурлюком. По мнению Лифшица, эта
Добавим от себя: сочетая в равной степени бессмысленность и беспощадный напор, слово это вполне выражало то нулевое отношение к языковой среде, которое признаётся общей предпосылкой авангардных движений в литературе. Досада Лившица справедлива, но с оговоркой: окончательный выбор названия группы можно и впрямь счесть уступкой тогдашней моде на греческую классику (журнал, пришедший на смену «Весам» символистов, назывался «Аполлон»), если бы читающая публика сплошь состояла из её знатоков. У большинства это слово не вызывало никаких ассоциаций, разве что с общеславянским гиль — чепуха, чушь, бессмыслица, нелепица, дичь, вздор. Следовательно, могло казаться паролем посвящённых. Или даже метафорой Degré Zéro — первозданного мира, из которого вот-вот проклюнется новое искусство.
Судя по воспоминаниям Лифшица, в спорах о названии группы слово футуризм не прозвучало. Причины тому предполагаем следующие: во-первых, эгофутуристами уже провозгласили себя приверженцы Игоря Северянина, во-вторых, нетрудно заметить, что поэзия Гилеи отнюдь не соответствовала тому, что считалось футуризмом на Западе. Неясно даже, в какой степени основатели группы были осведомлены о таковом: «Manifesto tecnico della litteratura futurista» и первый сборник итальянских поэтов «I Poeti futuristi» увидели свет уже в бытность Гилеи боевой единицей авангарда.
Согласно Лифшицу, ярлык футуристов на них навесили журналисты, которые валили в одну кучу московских и петербургских (группа Северянина) авангардистов.3![]()
Исследователи авангардизма неоднократно сопоставляли русский футуризм с футуризмом Маринетти,5![]()
![]()
Как правило, периодом вызревания в Гилее понятийно-стилевого стержня пренебрегают. В лучшем случае — признают подготовительным этапом. Связать первые шаги русского футуризма со стадией его зрелости находили затруднительным, усматривая в этом даже некоторое противоречие. Обычно говорят, что поначалу группа исповедовала некий примитивизм или неопримитивизм. Это значит, что содружеству бескомпромиссных новаторов вменяют общие тенденции русской поэзии и визуального искусства 1906–1909 гг. В справедливости такого воззрения легко убедиться.
Успехом у читающей публики пользовались тогда древнерусские и языческие (вспомним живопись Николая Рериха) мотивы «Яри» Сергея Городецкого (1906 г.),7![]()
![]()
Следует помнить и о нарастающем отказе от копирования окружающего мира в живописи тех лет. Под влиянием фовизма и нового, навеянного негритянской скульптурой стиля Пикассо, русские художники начинают экспериментировать с упрощёнными и наивистскими формами, которые безусловно подпадают под определение архаичных (к третьей выставке «Золотого руна» в 1909 году Ларионов и Гончарова уже пополнили арсенал авангарда русской иконописью и народным лубком).9![]()
Перечисленные выше сдвиги и поползновения весьма кстати дополнил пристальный интерес к воззрениям филолога Александра Потебни на поэтический язык. Его теория первобытной, т.н. “внутренней” формы слова была поддержана харьковской филологической школой и сыграла важную роль в теоретических построениях Андрея Белого.
С веяниями первого десятилетия ХХ века архаизм группы Гилея связан множеством проявлений. У Хлебникова — выбором тематики: поэмы «Вила и Леший», «Шаман и Венера» и «Лесная дева» доказывают его тягу к древнерусской мифологии. Доподлинно известно, что Хлебников восхищался «Ярью» Городецкого.10![]()
![]()
Нарочито примитивным оказывается и стиль: имитация детского языка (Гуро, Хлебников), духовных стихов (Кручёных «Пустынники»), народных лубков (Хлебников совместно с Кручёных «Игра в аду»), романтических баллад (Хлебников «Царская невеста», «Мария Вечора», «Любовник Юноны»).12![]()
Что касается интереса к поэтическому языку — прежде всего к его “внутренней форме”, к исходному “образному характеру” слова, — идеи Потебни стали девизом мифотворчество — главная задача поэтов (Иванов, Белый). В конце 1912 года в программе футуристов значится культ языка как творца мифа.13![]()
В стремлении совмещать архаизм и словотворчество Хлебников не был одинок. Весьма показательна незаслуженно забытая статья Сергея Городецкого 1909 года «Ближайшая задача русской литературы». Разбирая две новые книги, «Эрос» Иванова и «Лимонарь» Ремизова, Городецкий пишет:
По мнению Городецкого, работу над языком следует вести по трём направлениям: отыскание в древнерусском языке забытых кладов, заимствование разговорного языка простонародья и самостоятельное языкотворчество. Только на этих путях русский поэт осознает, что
Статья Городецкого полна идей, которые так и просятся на знамя литературного авангарда. Выражение каждое слово стоит дыбом и новый принцип поэтического языка не допускать ничего лежачего, невидного, плоского, напоминают слова английского имажиста Т.Э. Юльма:
Россыпь метафор Городецкого с присущей ему терминологической хваткой обобщил Шкловский в статье «Потебня»: ощутимость языка.16![]()
Таким образом, архаизм, проявления которого у группы Гилея очевидны, отнюдь не выламывается из передовой русской поэзии и визуального искусства 1906–1909 годов. Однако исторический подход необходимо дополнить типологическим: архаизм Гилеи — средоточие наиболее существенных претензий к господствующей на переломе XIX–XX веков эстетике. Попытаемся доказать это при помощи ряда оппозиций.
Вот, к примеру, типичное для всех авангардных движений противопоставление “литературное” — “нелитературное”. Рано или поздно парадигма изящной словесности и визуального искусства начинает восприниматься как отжившая, и партизаны культуры идут на штурм печатного станка, выставки и сценических подмостков. Типичное проявление этого настроения в России начала ХХ века — взрыв интереса к иконам, лубку, народным зрелищам («Старинный театр»), детским стихам и сектантским напевам.17![]()
Сшибка “поощряемого” с “недопустимым” закономерно порождает оппозицию “мёртвое” — “живое”. Как правило, теоретики авангарда ставят её во главу угла. По их мнению, изначально живой язык (Hulme: „Every word in the language originated as a live metaphor”)18![]()
![]()
С таким оценками тесно связана оппозиция “искажённое” — “подлинное”. Самоповторы почивающего на лаврах поколения победителей воспринимаются молодёжью как искажение, даже подрыв исконной поэтической силы языка. В манифестах авангардистов появляются выражения purity | pureté | essence | élémentaire, по-русски первобытный | первозданный.20![]()
Отрекаясь от отцов, новаторы присягают прадедам. Бунтари библиотечной складки ставят перед собой задачу восстановления утраченного (см. памфлет Шкловского «Воскрешение слова») по запасникам и архивам. Более решительные искатели “подлинности” устремляются за пределы того, что господствующая эстетика полагает достойным веленевой бумаги: в стихию народного поэтического творчества. Дальше всех идут искатели поэзии как таковой во тьме веков, на этапе создания мифов.
Согласно Потебне, во время óно поэзией был сам язык: его “внутренняя форма” ещё не утратила жизненной силы. Отнюдь не случайно авангардисты то и дело уподобляют поэта Адаму, первому человеку. Гумилёв, как известно, поначалу колебался между названиями “акмеисты” и “адамисты”. Сергей Городецкий в «Адаме» сформулировал мысль, которую впоследствии варьировали и акмеисты, и футуристы:
В своей «Декларации слова как такового» Кручёных в 1913 году писал:
Десятилетие спустя Мандельштам уподобляет Адаму пионера верлибра Уитмена:
Для группы Гилея Адам — качественно иная замена “теурга” символистов. Он скитается по белу свету (поэты должны бродить и петь) и, не дожидаясь одобрения свыше, даёт имена всему и вся.24![]()
Наряду с Адамом, естественным символом тяготения авангардных движений к Degré Zéro становится ребёнок. Пристальное внимание гилейцев к психологии, языку и рисункам детей хорошо известно.25![]()
Стремление возродить былую “чистоту” ставит пуристов от авангарда перед выбором: искать отвечающие запросам современности образцы у себя на родине — или в литературе тех стран, где значимые результаты уже налицо. Это характерная для новаторских движений оппозиция “национальное” — “интернациональное” (“своё” — “чужое”, проще говоря).
Обратимся за примерами к европейскому авангардизму начала ХХ века. Т.С. Элиот открыл для себя так называемых поэтов-метафизиков XVII века: их творчество являло резкий контраст с господствовавшей в викторианской Англии постромантической поэзией и могло стать образцом для нового стиля. Когда Аполлинер незадолго до смерти сформулировал L’Esprit nouveau французской поэзии, он точно так же искал опору в традиции: новый дух, по его мнению, соответствует порядку и моральной ответственности, исконным качествам француза. Т.н. группа 27-го года в Мадриде, членами которой были Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти и Висенте Алейксандре, начала свою деятельность с конференции, посвящённой поэту барокко Лоису де Гонгора. А вот английские имажисты в пику викторианской велеречивой риторике заимствовали у японцев предельно сжатую стихотворную форму хайку.
Русские футуристы, как известно, в своём первом манифесте бросили за борт парохода современности общепризнанных властителей дум — от Пушкина до Брюсова, Андреева и Бунина. Такое переосмысление традиции вполне соответствовало настроениям их западных единомышленников, но проявилось куда более остро. Нелишне разобраться в причинах этого.
Представляется очевидным следующее: в то время как европейцы обладали обширной и разнообразной литературой, где могли почерпнуть забытые стилистические модели, русские поэты такой возможности практически не имели. В поисках архаичных лексем и форм они иной раз обращались к XVIII и даже XVII векам (если не глубже: недавно, например, вопрос об отношении футуризма к барокко был рассмотрен с позиций семиотики26![]()
Однако правомерен и такой тезис: русские авангардисты отнюдь не искали в наследии XVIII века канон, который могли бы противопоставить литературному официозу, как это произошло в Западной Европе. Наоборот, отечественная старина привлекала их едва ли не полным отсутствием правил и ограничений. Книжный язык того времени подпадал под определение parole in libertá: порядок слов был зачастую весьма прихотлив, да и семантика их ещё не обрела устойчивости, а уж свобода словообразования просто била через край.
Русские имажинисты обратили взоры к ещё более отдалённому прошлому — и увели из стойла академической филологии «Слово о полку Игореве», провозгласив его безымянного создателя своим предтечей. Мандельштам в статье «О природе слова» делает ещё более громкое заявление:
Здесь следует выделить прилагательные живой и образный: они принадлежат, как мы показали выше, к поэтического коду русского архаизма.
От «Слова» один шаг в те благословенным времена, когда поэзией, по мнению Потебни, был сам язык. Только на почве мифа брезжила надежда отыскать утраченные связи между словом и референтом (Хлебников), исконный образный характер языка (имажинисты), его магию («Поэзия как волшебство» Бальмонта, стихотворение Гумилёва «Слово»), эллинизмом (Мандельштам). Экскурс в мифологию полагали панацеей от болезней современной литературы (Шкловский, «Воскрешение слова»).
Разумеется, гилейцы не варились в собственном соку и влияния новой европейской поэзии не избегли. Лифшиц, знаток и переводчик французской лирики, по пути в Чернянку зачитывал Давида Бурлюка Рембо, Малларме и Лафоргом, о которых тот имел самое смутное представление. Шокирующие строки этих давно ушедших в мир иной бунтарей подогрели у “отца русского футуризма” амбиции ниспровергателя всего банального и благопристойного. В канун мировой войны в России появились переводы итальянских футуристов,28![]()
Очевидный успех лекций заезжей знаменитости вынудил русских футуристов определиться в своём отношении к итальянскому авангарду. Маяковский, Большаков и Шершеневич в открытом письме отрицали навязываемую прессой преемственность и отстаивали литературный параллелизм:
Хлебников и Лифшиц сочли необходимым полностью отмежеваться от чужеземца, и распространили воззвание с обвинением соотечественников, припадающих к ногам Маринетти, в предательстве первого шага русского искусства по пути свободы и чести.30![]()
Казалось, произошло столкновение двух несовместимых начал: урбанизма, космополитизма и “поэзии грядущего” — т.е. футуризма в европейском смысле слова — с “самобытностью”, “первобытностью” и тягой к азиатчине. Но тот же Маяковский, в докладе конца ноября 1912 г. возвестивший связь нашей поэзии с мифом, в частности с русским, культ языка как творца мифа,31![]()
Иными словами, заявлено, что футуризм роднит с архаизмом их общее движение к новому поэтическому языку с оглядкой (у дикого гилейского воина в пол оборота, по Лифшицу) на древлеотеческую словесную культуру. Адепты архаики, следуя за Потебней и современной феноменологией, искали в словаре Даля,33![]()
![]()
Впрочем, и некоторые значительные поэты из числа поборников сельской благодати не избегли влияния авангарда: Есенин присоединился к группе имажинистов, Николай Клюев выработал своеобразный слог.
Архаизм — отнюдь не отрицание современности: это нулевое — но при этом обращённое в будущее — отношение к литературе, языку, истории.35![]()
![]()
Полюс Футуризм коротко и ясно обозначил Игнатьев:
О полюсе Архаизм ещё более сжато выразился Рерих:
Следует, наконец, указать и на то, что проблематика архаизм — футуризм во многом отражает специфически русскую модель культуры. Ю. Лотман и Б. Успенский в статье «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры» показали, что уже тогда оппозиции “культурное — первобытное”, “национальное — иностранное”, “исконное — искажённое” и “грубое — приятное” наблюдаются не только на языковом, но и на культурно-историческом уровне. Параллелизм начала XIX и начала XX вв., несомненно, заслуживает более глубокого изучения. Лотман и Успенский пишут:
Весьма возможно, что эта формулировка окажется в ряду вернейших истолкований специфики русского авангардизма начала ХХ века.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 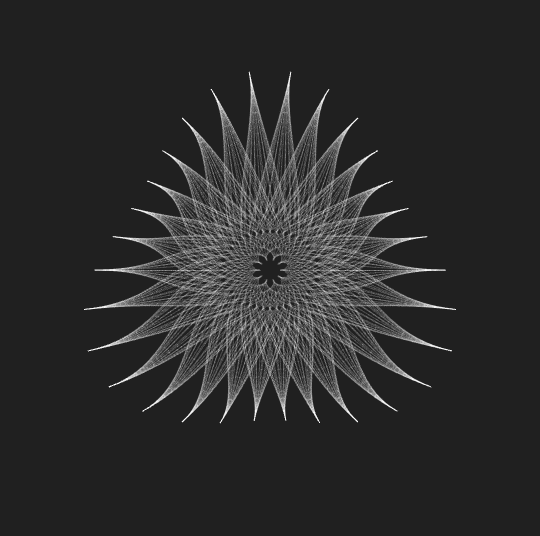 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||