

Избранная нами тема — сравнение мотивов музыкальных инструментов в творчестве русских поэтов начала XX века — едва ли не подразумевает обращение именно к Блоку, Хлебникову и Маяковскому, так как у каждого из них эта область музыкального обособлена и внутренне структурирована.1![]()
Музыка блоковских инструментов изменчива, как и весь окружающий мир. К ней, словно к Прекрасной даме, могут быть обращены слова: „Но страшно мне: изменишь облик Ты...” И дело вовсе не в том, что мир музыки неохватно велик. Напротив, все — в одном, „мелодией одной звучит печаль и радость” (3, 239).2![]()
Скрипки — важнейшие и самые многоликие инструменты блоковского оркестра. „Запредельные” (3, 192), „мировые” скрипки («Песни судьбы») соседствуют с „кабацкой скрипкой” (3, 45). Скрипки поют „дикие песни” (3, 59) и, „прорывая все плотины, торжествуют победу страсти” (4, 149). Звук „легкой скрипки” трогает сердце, увлекая „в иное” душу умирающего (3, 272–273), но бывает и злобным (3, 192). Скрипка издает и пенье, и стон, и плач, и рыданье, и визг, и вой. Она изменчива как женщина, характерно, что скрипка и смычок различаются как носители женского и мужского начал: „И скрипки, тая и слабея, сдаются бешеным смычкам” (3, 195); именно женские голоса зовутся „струнными” (2, 141; 4, 37), про смычок же сказано: „Ты злишься, мой смычок визгливый, / Врываясь в мировой оркестр [состоящий из тех же скрипок — Л.Г.] / Отдельной песней торопливой” (3, 192).
Изменчивость ‘голосов’ блоковского ‘оркестра’ приводит к парадоксальной ситуации. Визг, вой, вопль, гром, звон, зов, пение, плач, рев, рыдание, стон, треск — этот словарь, может быть, впервые с такой настойчивостью примененный для обозначений инструментальной игры,3![]()
‘Голоса’ — единственное, кроме имен, что позволяет составить представление о музыкальных инструментах: они невидимы, как бы нематериальны; иногда различимы лишь скрипки и смычки. Не случайно самым характерным для Блока является звук издалека: „Лишь заслышу издали скрипки” (2, 319), „Дальних скрипок вопль туманный” (3, 11), „Ты услышишь с белой пристани Отдаленные рога” (2, 214). „В отчизну скрипок запредельных” (3, 192).
Нет ни инструмента, ни музыканта: мотивы игры, музицирования очень редки. Все блоковские музыкальные инструменты — ‘самозвучащие’, словно эоловы арфы. И музыка, которую они исполняют — почти всегда безымянная, как бы никем не сочиненная и исходящая от самих инструментов. Редкий пример противоположного рода содержится в поэме «Возмездие». Известно, кто и чью музыку играет: „С нежданной силой пел рояль ‹...› И Шумана будили звуки / Его озлобленные руки” (3, 339).
Совершенно иным образом трактуются образы музыкальных инструментов у Маяковского. По сравнению с блоковским, мир его музыкальных инструментов поражает своей динамичностью и материальностью. Эти инструменты не всегда слышны, но всегда видны. Многие из них живые, словно никогда и не были вещами. Подобно своему создателю, они находятся в состоянии войны со всем окружающим миром: и страдают при соприкосновении с ним, и сами проявляют агрессивность. Труба, тромбоны и фаготы избивают до смерти слушателей ресторанного оркестра. Барабан и сам „бьет”, и ему „бьют в бока” (6, 343). Гитарой можно „грохнуть по затылку” (11, 273). Рояль стоит наготове „с разинутой пастью” (11, 266), с тем, чтобы зубами-клавишами схватить за руки музыканта (1, 157). Поэтому и музыканту приходится „набрасываться на клавиши” (11, 271), а постороннему человеку хочется „вдарить” роялю „по зубам” (11, 268).
У Блока инструменты звучат, и это единственная форма их существования в мире. А инструменты Маяковского — действуют. В стихотворении «Кое-что по поводу дирижера» они похожи на актеров немого кино, так как о звуках, производимых оркестром, ничего не говорится. Музыканты получают приказы „плакать”, а затем и „выть по-зверьи”, но они „бьют” своих, почти сплошь безголосых, слушателей; один из присутствующих так и не успел „выпихнуть крик в золотую челюсть”, и даже дирижер, не дождавшийся „плача” от своих музыкантов, так сказать, прячет звук, вдув его в „брюхо” одного из слушателей.
Немногочисленные обозначения инструментальных звуков почти не соприкасаются с блоковским словарем. Едва ли ие единственный пример словоупотребления, по форме сравнимого с блоковским, имеет ярко выраженный пародийный характер из-за того, что одному инструменту приходится издавать звуки двух других: трамвайному звонку быть и набатом (огромная литавра, инструмент с мембраной из кожи), и колоколом: „... Этот набатный, революционный, призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина” (11, 333).
Даже привычные образы пения и плача оказываются переосмысленными. Маяковский как бы возвращает метафоры инструментальной игры человеку, употребляя ‘слишком человеческие’ выражения: скрипка не “плакала”, а „разревелась”, „выплакивалась” (1, 67), или переподчиняя слова: „старикашка плачет на рояле” (1, 157); ср.: ‘рояль плачет’), „дирижер велел музыкантам плакать” (1, 91).
Другие звуки так же материальны и агрессивны, как и производящие их инструменты: в „сытую морду” посетителя ресторана труба ударяет „горстью медных слез” (1, 91). Рог (как рот поющего) окровавлен выходящими из него песнями (1, 47). Ну а звук человеческого голоса может быть и материальным (штаны „из бархата голоса”), и живым — точнее, погибающим: человек, словно Кронос, пытается проглотить, уничтожить свое порождение:
Если исходным характером “музыки” Блока можно считать cantabile (певуче), то у Маяковского — нечто вроде con vigore (с силой, крепко) или marziale (воинственно). Все его инструменты в любой момент могут стать ‘ударными’ — и когда сами нападают, как духовые из ресторанного оркестра, и когда на них нападают люди:
На этот мотив Хлебников откликнулся в «Ночном обыске» (1921):
Музыкальный инструмент ведет себя как живое существо, человек. И у человека есть возможность — точнее, его подстерегает опасность — стать музыкальным инструментом: „Ищите жирных в домах скорлупах / и в бубен брюха веселье бейте! Схватите за нoги глухих и глупых / и дуйте в уши им, как в ноздри флейте” (1, 154). Все несчастья, свалившиеся на Присыпкина в социалистическом раю, как бы вызваны переименованием, и, тем самым, “превращением” в музыкальный инструмент. Он стал Скрипкиным, даже — „Скрипочкой”, и теперь на нем ‘заиграли’ люди новой формации! Взяв себе новое имя, Присыпкин “породнился” с героиней стихотворения «Скрипка и немножко нервно». Она „издергалась, упрашивая” — „оркестр чужо смотрел”, и Присыпкин-Скрипкин, отталкивая дирижера, взывал в бесчувственной публике — оркестр играл туш.
Добровольное превращение в музыкальный инструмент может быть и актом самопожертвования. Задумав поставить „точку пули в конце”, поэт готов сыграть на флейте своего позвоночника, т.е., умирая, ‘стать’ флейтой (ср. мотивы реинкарнации в музыкальный инструмент). Для Маяковского она — страдалица, как и скрипка: флейту „схватывают” и „дуют ей в ноздри” (еще один, наряду с вдуванием звука трубы в „брюхо”, пример губительного ‘искусственного дыхания’).
В крайне динамичном мире Маяковского превращения музыкальных инструментов происходят неоднократно. Каждое новое упоминание об инструменте — следующая форма его существования. Инструмент ‘успевает’ перевоплотиться даже в пределах короткой вещи: все та же труба из стихотворения «Кое-что по поводу дарижера» вначале ведет себя как человек („изловчилась”, „ударила”), затем дирижер заиграл на ней, как на обычной трубе („дул”), превратив однако, в чудовищную пищу („В самые зубы туши опоенной / втиснул трубу, как медный калач” — у Мандельштама в «Египетской марке» „обыкновенный калач” оказывается лирой). Труба стала хлебом. А хлеб — скрипкой: „И вдруг / у булок / загибаются грифы скрипок” (1, 274). Взаимные превращения могут происходить и непосредственно. Водосточные трубы, каждая из которых способна стать самостоятельным “музыкальным орудием” („Медленно начинает тянуть ноту водосточная труба” — 1, 162), в стихотворении «А вы могли бы?» оказываются флейтой — по-видимому, флейтой Пана, состоящей из ряда стволов (обратим внимание на сочетание форм мн. и ед. числа: „на флейте водосточных труб”): в других случаях Маяковский имеет в виду продольную флейту, обладающую клапанами — „позвонками” и „ноздрями” — отверстиями для вдувания воздуха.
Очень примечательно, что персонификация инструмента, его самостоятельное поведение вовсе не исключает присутствия музыкантов. Отношения между инструментом и исполнителем могут быть очень напряженными, особенно если речь идет о рояле: „схватишься за ноту — пальцы окровавишь”. Обычная вещь — ноты на пюпитре — оказывается чем-то исключительным, так как ноты — „человечьи” (1, 211). Музыкант „берется” за клавиши (6, 66), как за рабочий инструмент, обращение с которым требует осторожности („Не бравшись за топор, избы не срубишь”). Если же инструмент и человек действуют вместе, превращаясь в некое единое существо, возникают трения с дирижером. Инструменты не могут жить в мире даже друг с другом, как в стихотворении «Скрипка и немножко нервно», вызывающем ассоциации с «Репетицией оркестра» Феллини. (Кстати, здесь вполне реалистично воспроизведены особенности каденционной игры: именно во время сольной каденции инструмент может “выплакаться” всласть и играть “без такта”.)
С музыкой, с игрой на музыкальных инструментах связан и образы превращения внутреннего пространства во внешнее, выворачивания наизнанку. Перед нами проявление общих принципов эстетики Маяковского (Дуганов 1990: 131) и, в то же время, переосмысление мотива игры на духовом инструменте, который служит соединительной трубкой между внутренним пространством человека и внешним миром (ср. дом и печную трубу). Если вывернуть себя, „чтобы были одни сплошные губы”, можно играть на флейте собственного позвоночника (заметим, на духовом, а не на струнном или, к примеру, вполне возможном ударном инструменте: „Любовь на литавры ложит грубый” — 1, 179). “В музыке” преобразуется внутренне пространство во внешнее — и в поэме «150 000 000»: из раны Ивана (троянского человека-коня) выходит целый город. Симметричным образом, внешнее пространство “вторгается” во внутренности человека тоже посредством музыки: звук вдувается „в самые зубы туши опоенной”. В то же время и воздух, в котором должен бы раствориться звук музыкального инструмента, тоже находится ‘внутри’, ограничен объемом ‘лёгких’ околоземного пространства.
Объединенные в оркестр инструменты — не только члены сообщества, но и части тела некого коллективного организма — оркестра, сердце которого — барабан, грудь — литавры, брюхо — бубен, зубы — клавиши, ноги — ножки рояля, бока — от барабана, деревянная шея — от скрипки, ноздри — от флейты...
Если у Блока музыкальные инструменты обнаруживают свое присутствие как голоса — вестники изменчивого состояния мира, у Маяковского инструменты-персонажи становятся участниками бурно протекающей жизни, то хлебниковские музыкальные инструменты предстают как таковые. Подобно Блоку, Хлебников мыслит инструменты как “запредельные”, “мировые”: это миряные гусли (4, 10), скрипка земного шара (1, 188), кобза из «Детей выдры» (2, 166), балалайка будетлянина со струнами законов времени (5, 239), яровчатые солнечные гусли, строй которых — общий строй времени (5, 92), мирель — некая мировая свирель (5, 10), труба, в которую (в одну!) слетались звучать мирязи (5, 11). Однако представления о каждом из инструментов на редкость отчетливы. И форма, и материал, и внутреннее устройство — все это имеет первостепенное значение. Каждая деталь инструмента напоминает о своем природном, и, вместе с тем, мифологическом прошлом и еще — оказывается объектом нового мифотворчества: Аменофис ‹...› играет на лютне из черепа слоненка (4, 66)); Ка поставил в воздухе бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу, на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня (4, 62); Барышня Смерть: „Больше свиста свирелей из берцовых костей человека! ‹...› Лютней из узких мизинцев!“ (4, 257); Трубач, обвитый змеем изогнутого рога [геликон] (3, 124). Именно у Хлебникова естествен мотив создания инструмента. В отличие от Маяковского, у которого все трансформации происходят с безусловно готовой вещью, Хлебников особенно внимателен к предсуществованию музыкальных инструментов: Теперь же дайте черепахи щит. И струны. Аи! Есть ли на Хапи мышь, которой бы не строили бы храма? (4, 65 — ссылка на миф о создании лиры Гермесом и на “мышиное” происхождение муз); И был юноша с голубой мглой во взорах, в белой одежке, с первоодеванными лапотками, и, подслушав миристель, срезал грустняк и, вырезав дудочку, назвал ее мирель, себя же — первомирелыциком (4, 9). Не меньшее значение имеет и то, кому принадлежит музыкальный инструмент (Я имел свирель из двух тростин и рожка отпиленного — Творения, 30), и от кого он получен — времена, когда божества, олицетворяющие мудрость мироздания, изобретали инструменты, а потом дарили людям, все еще продолжаются в произведениях Хлебникова: ‹...› рок берет свою свирель и прислоняет ее к нежным детским устам (НП, 338); И оси земной в тучах спрятанный вал — / Кобзу кобзарю подавал (2, 166), И, как жар, заря играет, / Вам свирели подает (1, 173).
Инструментальный мотив ‘прорастает’ как зерно, порождает разветвление смысла, при том, что ‘на поверхности’ текста он нередко представлен двумя-тремя словами. Во многих случаях это называние, именование инструмента. Оно равнозначно рассказу о всех возможных звучаниях: пении, рыданья, громе... Каждый инструмент, как замерзший рожок Мюнхгаузена, содержит в себе музыку — но не одну простенькую мелодию, а все, что возможно на нем сыграть (плюс бесконечное многообразие ситуаций звучания, форм воздействия на окружающий мир и еще — мифологическую ‘предысторию’ и мифологическое ‘будущее’ инструмента).
Именно так (в отличие от ‘беззвучных’ инструментальных мотивов Маяковского) можно истолковать отсутствущее во многих случаях упоминание о звуке — прежде всего, все в тех же мотивах создания, устройства и принадлежности инструмента. Исключение составляет лишь рояль: прежде всего, общепринятые обозначения инструмента отсутствуют у Хлебникова, их заменяют скрытые переименования [Гервер 1992: 172, 176]. Как бы восполняя отсутствие имени, в поэме «Ночной обыск» появляются названия звуков — рокот, гром, пение, жалоба, вой, грохот, смех, гудение, звон. Однако все это исторгается из инструмента в момент его разрушения: звуки сопровождают ‘смерть’ рояля, подобно песням, сопутствующим смерти человека (Когда умирают люди — поют песни).
В ряде случаев Хлебников обращается к традиционным образам ‘самозвучащих’ инструментов (рыданье мертвенной свирели — 2, 58). Но гораздо важнее и характернее другое. Звон, рыданье и прочие обозначения звука интерпретированы в его концепции не только и не столько как интонационные особенности инструментальной игры. Каждому роду звуков соответствует свой инструмент, подобно тому, как в Древней Греции авлетике соответствовал авлос, а кифаристике — кифара. Запись 1906–1908 годов под названием «Инструменты игры» свидетельствует именно о таком осмыслении имени музыкального инструмента [Гервер 1992: 188–189]. Свирель свирит, свисток свистит. Соответственно, стонет — стональ, поет — распевня, воет — выль. — А у Блока стонут и скрипка, и лира, и зурна; поют не только скрипка, труба, свирель, рог, шарманка, но и щипковая арфа, ударный колокол; воют и скрипка, и труба. Впрочем, трубы воют у всех: „Был вой трубы” (Маяковский — 1, 28), Не выли трубы набат о гибели (Хлебников — 2, 247). И все же хлебниковские инструменты игры близки ‘поющим’ и ‘воющим’ инструментам Блока. В обоих случаях целому словарю шумов, немузыкальных и неинструментальных звуков присвоено инструментальное значение. У Блока традиционное словоупотребление возведено в своего рода систему: в пределе, каждое из звучаний возможно у каждого из существующих инструментов („нераздельность и неслиянность”). А у Хлебникова для каждого звучания ‘изобретено’ еще не существующее музыкальное орудие.
И хлебниковские, и блоковские “мировые” музыкальные инструменты входят в состав “мирового оркестра” [Магомедова 1974]. У Блока отдельные инструменты неразличимы, его “мировые”, “запредельные” скрипки — лишь струнная группа оркестра, всегда подчиненного воле дирижера: сами по себе скрипки утрачивают свои ‘мировые’ свойства, они „умеют разве громко рыдать помимо воли пославшего их” (5, 431). Характерно, что, в отличие от Хлебникова, у которого название мирового инструмента всегда дано в единственном числе, как имя или понятие (хлебниковское свирели обозначает стволы флейты Пана), Блок использует множественное число: голоса „мировых скрипок” слиты воедино, их неразличимо много: „море мировых скрипок” (4, 149), „отчизна скрипок запредельных” (3, 193; прочие скрипки звучат solo — ср.:„скрипки стон” „скрипка пела”). То же можно сказать и про звучание всего оркестра. Это “мировое” tutti, в котором скрипкам поручена ведущая роль. Исключение составляют немузыкальные звуки — голоса города и природы — включенные в ‘оркестровую партитуру’. Очень показателен в этом отношении переход от подробного перечисления звуков поезда, ветра, колокольчика, бубенцов, конского топота и пения петуха к лаконичным формулам: „мировые скрипки”, „мировой оркестр” в «Песне Судьбы».
Музыка блоковского „мирового оркестра” — грандиозная оркестровая партия в опере вагнеровского типа или музыка к драме, не симфония (не случайно само слово, столь значимое, к примеру, для Андрея Белого, отсутствует у Блока). В этом нет ничего удивительного, ведь из духа музыки, выразителем которого является у Блока „мировой оркестр”, родилась трагедия. Впервые „мировой оркестр” появляется в пьесе [Магомедова 1974: 12], в дальнейшем его связь с драмой подтверждается: „Мы любили эти звуки в модном театральном зале ‹...› мы должны любить те же звуки теперь, когда они вылетают от мирового оркестра” (6, 11). Даже если признаки драмы (или упоминания о ней) отсутствуют, функция оркестра, по сути, не меняется: его звучание сопровождает драматичекое развитие мировой истории (6, 19, 108 и др.).
Для Хлебникова в высшей степени значимы три “мировые” категории: музыкальный инструмент, оркестр и симфония. В одной из записей поэта слова симфония и оркестр, усиленные восклицательными знаками, раскрывают отношение автора к однокоренным словотворческим разработкам.4![]()
![]()
![]()
![]()
В отличие от Блока, у которого „мировой оркестр” — один из сквозных мотивов, общий для текстов разного времени, у Хлебникова мифологема мирового оркестра сосредоточена в одном произведения — «Песни мирязя» (в более поздних вещах музыкальный инструмент всегда один). „Темным волнам” блоковского оркестра (4, 25), неразличимости инструментов, голоса которых сливаются в оркестровом tutti, противостоит полная ясность — видимость и слышимость инструментов хлебниковского мирового оркестра.
По сравнению с Блоком и Хлебниковым очевидно намеренное снижение инструментальных и оркестровых образов у Маяковского. Оркестр играет не в ‘мире’, а в ресторане, на эстраде, сопровождает театральную постановку на тему классовой борьбы. Иное дело — хор, музыка со словом, основным или единственным источником звука в которой является человек. Церковное пение, “гимн и оратория” представляют у Маяковского музыку большого стиля. А ‘мировой хор’ и ‘мировая оратория’ замещают ‘мировые’ оркестр и симфонию:
И все же у Маяковского присутствует мотив, точнее — композиционный прием, оркестровая, симфоническая принадлежность которого не вызывает сомнений. Это crescendo — постепенное возрастание звукового напора посредством присоединения все новых и новых голосов и усиления громкости каждого из них. В мифологии Маяковского этот, один из самых распространенных приемов музыкального письма, становится кодом катастрофического нагнетания событий — ‘мировым crescendo’. В первой части трагедии «Владимир Маяковский» последовательность ремарок соответствует обозначениям росо а росо, crescendo в партитуре с постоянно увеличивающимся числом голосов: в самом общем виде, здесь можно увидеть предвосхищение знаменитого оркестрового crescendo в «Болеро» Равеля (включая кульминацию обрыв в самом конце произведения). Однако crescendo Маяковского лишено постепенности и длительности, присущих «Болеро»: ситуация ‘раскаляется докрасна’ в считанные минуты.
Последовательное появление всех действующих лиц — аналогия постепенного подключения инструментов, приводящего к оркестровому tutti. Динамическое усиление (по типу перехода от шопотов к крикам) передано через перечень постоянно возрастающего числа источников звука: гудки, крики, выстрелы, гудение трубы и крыш, барабанный бой тысячи ног. (Параллельно, в основном тексте, происходит свое нарастание тревоги и звучности.) ‘Перечислительное’ crescendo — пожалуй, единственный из музыкальных приемов, в равной степени значительный для Маяковского, Блока и Хлебникова, и сходным образом решаемый всеми тремя: сопоставим приведенную последовательность ремарок из 1 действия «Владимира Маяковского» с ремарками 5 картины «Песни Судьбы» Блока и фрагментами «Песни мирязя» Хлебникова.
Поначалу последовательное включение голосов не приводит к усилению звучности. Если у Маяковского crescendo ‘растет по экспоненте’, то у Блока это медлительный процесс — несколько звуковых волн. Первые волны гаснут: рокот и свист поезда — тишина; пение петуха, поезд — тишина; ветер, звон колокольчика, громыхание бубенцов и конский топ — останавливается тройка (прекращается ее звучание, уступая место человеческим голосам); тишина, далекий рокот поезда и — приводящее к первой волне мирового оркестра росо а росо crescendo, порученное петухам и ветру: „Петухи начинают перекличку — все дальше, все дальше. Утренник налетает, шелестя все смелей и вдохновенней...”. В кульминации к звучанию оркестра подключаются ‘вокальные партии’: крики лебедя и Фаины.
Блоковское crescendo сменяется diminuendo, а не обрывается, как У Маяковского: умолкает лебедь, за ним — Фаина. Снова становятся различимыми отдельные звуки, как вначале, до tutti: почти все голоса звукового пейзажа появляются вновь — и бубенцы, и конский топ, и колокольчик, и ветер. Окрик и свист ямщика заменяют рокот и свист поезда. Удаляются звуки мирового оркестра — скромный колокольчик берет в нем первенство! Все заканчивается стоном и рыданием ветра.
Общая композиция 5 картины «Песни Судьбы» на редкость музыкальна: три волны звукового нарастания, наличие двух ‘тем’, исполняемых ‘земной’ и ‘запредельной’ частями “мирового оркестра”, подключение ‘вокальных партий’ в кульминации, настоящая реприза с объединением основных ‘тем’ в конце, наконец, сама идея crescendo — diminuendo.
Постепенное (а не мгновенное) наращивание оркестровой звучности характерно и для Хлебникова.
(приведены только первоначальные упоминания о каждом из голосов хлебниковского ‘оркестра’).
Основные инструменты «Песни Мирязя» — свирель (она же — дудочка, мирель, семитрость, засвирель) и гусли — звучат многократно: возвращение одних и тех же тембров, вместе с присущей каждому из них музыкой сближает оркестровые концепции Блока и Хлебникова. Однако у Хлебникова повтор не означает начала новой, более мощной волны. Никакого нагнетания и, тем более, волнения и тревоги в «Песни Мирязя» нет. Это, скорее всего, ‘концертная симфония’ для мировой свирели с мировым оркестром, с характерным чередованием solo и tutti, концертированием отдельных инструментальных групп. В отдельных хлебниковских оборотах узнаются типичные для концерта ситуации, например: И в звучешнице верховенство взяли гусли (почти в тех же выражениях Блок пишет про голос колокольчика, который вступает в мировой оркестр и „берет в нем первенство”) или: ‹...› и многозвугодье и инозвучебица звучобо особь.9![]()
Solo исполняет юноша-первомирелыцик, которого сменяет леший. Хлебников называет их игру пением: взамен привычного „Свирель пела”, он пишет, воспользовавшись формулой Ницше: Так пел отрок, Так пел леший. Хлебниковское crescendo имеет много отличительных свойств. Несмотря на последовательное введение музыкальных инструментов и прочих источников звука, возникает ощущение, что хлебниковские гусли, дудочки и трубы звучат ‘всегда’, точно так же, как играющие на них мирязи, леший и юноша-первомирелыцик существуют от века. Смена солирующих инструментов, совместная игра отдельных групп (свирель + ударные, гусли + свирель и т.п.), звучание tutti — все это так же естественно и гармонично, как чередование дождя и жаркого солнца в летний день.
Для ‘мировых crescendo’ Маяковского, Блока и Хлебникова характерна особого рода стереофоничность. У Маяковского звуки раздаются в пространстве города — с начала и до конца crescendo. У Блока охваченное звуками пространство стремительно расширяется по мере возрастания crescendo. Чем мощнее звуковая волна, тем дальше ее источник: к моменту главной кульминации, утренние звоны набегают „со всех концов земли”. Блоковская „запредельносгь” — в концах земли: в его звуковом пейзаже преобладает горизонталь. Напротив, звуковое пространство у Хлебникова определяется вертикалью, символ которой — высокие струны от звезд к камням и рощам. Оркестровые группы располагаются в ярусах мирового пространства.
Мифология музыкальных инструментов в творчестве русских поэтов начала XX века, конечно, не исчерпывается суммой трех инструментальных мифов, подступам к реконструкции которых была посвящена данная работа. Однако мы вряд ли ошибемся, предположив, что в творчестве Блока, Маяковского и Хлебникова нашли выражение основополагающие идеи музыкально-инструментального мифа, воплощение которых отличают удивительная законченность и полнота. Это, в равной степени, открытия нового мифотворчества и актуализация древнейших представлений.
| Персональная страница Ларисы Львовны Гервер | ||
| карта сайта | 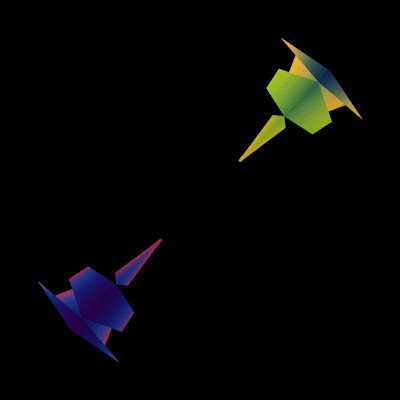 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||