Валерий Брюсов










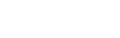 Игорь Северянин лишён чутья языка и не имеет понятия о законах словообразований. На то же отсутствие чутья языка указывают неприятные, вычурные рифмы, вроде: „акварель сам — рельсам”, „воздух — грёз дух”, „ветошь — свет уж”, „алчен — генерал чин” и т.п. В этом отношении Игорь Северянин мог бы многому поучиться у поэтов-юмористов.
Игорь Северянин лишён чутья языка и не имеет понятия о законах словообразований. На то же отсутствие чутья языка указывают неприятные, вычурные рифмы, вроде: „акварель сам — рельсам”, „воздух — грёз дух”, „ветошь — свет уж”, „алчен — генерал чин” и т.п. В этом отношении Игорь Северянин мог бы многому поучиться у поэтов-юмористов.Нет, в новаторы Игорь Северянин попал случайно, да, кажется, сам тяготится этим званием и всячески старается сбросить с себя чуждый ему ярлык футуриста. Вывод из всего сказанного нами напрашивается сам собою. Игорю Северянину недостаёт вкуса, недостаёт знаний. То и другое можно приобрести, — первое труднее, второе легче. Внимательное изучение великих созданий искусства прошлого облагораживает вкус. Широкое и вдумчивое ознакомление с завоеваниями современной мысли раскрывает необъятные перспективы. То и другое делает поэта истинным учителем человечества. Одно из двух: или поэзия есть забава, приятный отдых в минуты праздности, или серьёзное важное дело, нечто глубоко нужное людям. В первом случае, вряд ли стоит особенно беспокоиться, как и чем кто развлекается. Во втором, поэт обязан строго относиться к своему подвигу, понимать, какая ответственность лежит на нём. Чтобы идти впереди других и учительствовать, надо понять дух времени и его запросы, надо, по слову Пушкина, „в просвещении стать с веком наравне”, а может быть, и выше его. Для нас истинный поэт всегда vates римлян, пророк. Такого мы готовы увенчать и приветствовать; других — много, и почтить их стоит лишь „небрежной похвалой”. Тот же, кто сознательно отказывается от открытых пред ним прекрасных возможностей, есть „раб лукавый”, зарывающий свой „талант” в землю.
1916
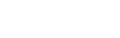 Символисты отказывались служить в литературе только практическим целям, хотели найти более широкое обоснование ей и обратились к выражению общих идей, равно ценных (как казалось им) не одному какому-либо классу общества, но всему человечеству. Эти общие, извечные идеи не могут быть адекватно (вполне точно) выражены никаким логическим сочетанием понятий, и ни в каком определённом образе („Мысль изреченная есть ложь”,— излюбленный символистами стих Тютчева). Символ и должен был выразить то, что нельзя просто “изречь”. По природе строго реалистической образ, символ — намёк, отправляясь от которого сознание читателя должно самостоятельно прийти к тем же “неизреченным” идеям, от которых отправлялся автор. Символисты требовали, чтобы писатель, поэт был вместе с тем и философом, мыслителем. С особой охотой символисты обрабатывали в своих произведениях классические мифы, вообще легенды и сказания разных народов, построенные все по принципу символа, а также вообще темы истории, дающие широкий простор для символизации. Само собой разумеется, что новые задачи поэзии потребовали и новой поэтической техники. Так как символ — только намёк, внешнее выражение его получило особое значение. Если романтики любили красоту формы ради неё самой, то символисты отвергли её самодовлеющее значение; для символистов форма произведения стала только средством воздействия на читателя, но средством крайне могущественным, — откуда и возникала забота символистов о форме, о технике. Идя по своему пути, символисты ещё раз создали новый стиль и новый стих, отличные от романтического и реалистического.
Символисты отказывались служить в литературе только практическим целям, хотели найти более широкое обоснование ей и обратились к выражению общих идей, равно ценных (как казалось им) не одному какому-либо классу общества, но всему человечеству. Эти общие, извечные идеи не могут быть адекватно (вполне точно) выражены никаким логическим сочетанием понятий, и ни в каком определённом образе („Мысль изреченная есть ложь”,— излюбленный символистами стих Тютчева). Символ и должен был выразить то, что нельзя просто “изречь”. По природе строго реалистической образ, символ — намёк, отправляясь от которого сознание читателя должно самостоятельно прийти к тем же “неизреченным” идеям, от которых отправлялся автор. Символисты требовали, чтобы писатель, поэт был вместе с тем и философом, мыслителем. С особой охотой символисты обрабатывали в своих произведениях классические мифы, вообще легенды и сказания разных народов, построенные все по принципу символа, а также вообще темы истории, дающие широкий простор для символизации. Само собой разумеется, что новые задачи поэзии потребовали и новой поэтической техники. Так как символ — только намёк, внешнее выражение его получило особое значение. Если романтики любили красоту формы ради неё самой, то символисты отвергли её самодовлеющее значение; для символистов форма произведения стала только средством воздействия на читателя, но средством крайне могущественным, — откуда и возникала забота символистов о форме, о технике. Идя по своему пути, символисты ещё раз создали новый стиль и новый стих, отличные от романтического и реалистического.Все эти завоевания в области литературы, разумеется, не отмирали вместе с концом литературной школы, сделавшей их. Индивидуалистический лиризм романтиков глубоко вошёл в поэзию, и в дальнейшем для неё уже стало невозможным возвращение к объективизму классиков. Точно так же реалистичные подходы к изображению жизни сделались обязательными для позднейшей литературы и навсегда уничтожили напыщенный пафос позднего Романтизма. Идея символа также сделалась постоянным достоянием литературы, и никто из поэтов не может более не считаться с ним и не пользоваться (сознательно) им. Другое дело те крайности, до которых доходили отдельные школы, особенно в творчестве своих эпигонов. Эти крайности, в конечном счёте, отметались без остатка, и зарождение новой школы обычно начиналось с ожесточённой борьбы против них, — борьбы всегда победоносной, потому что нападающие шли против того, что, действительно было ложно и заслуживало уничтожения.
Развитие Символической школы закончилось в первом десятилетии XX века. За последние годы перед Европейской войной ещё появлялись прекрасные произведения отдельных символистов, — поэмы, повести, драмы, — написанные по старым методам, во многом повторяя прежние создания. В то же время слабые стороны школы выступали в писаниях её эпигонов всё резче и резче.
Стремление выражать общие идеи приводило к мертвящему для искусства рационализму, к рассудочности, почти к дидактике. Поэзия сделалась обсуждением данных тем, причём самые темы всё более теряли свою глубину, становясь условными и безразличными для поэта. Бралась любая отвлечённая философская мысль, сколько-нибудь соответствующая мировоззрению автора, облекалась в символический убор, и этого казалось достаточно. Некоторые излюбленные символистами мысли, преимущественно почерпнутые у Ницше и его последователей, в сотый и тысячный раз совершали своё выступление в литературе.
Самый символизм творчества вырождался в грубый аллегоризм, теряя свои характерные черты реального образа. После реалистического периода литературы вряд ли возможно иное изображение действительности, кроме строго соответствующего внешней правде. Всякая фальшь, всякая условность, всякая риторика ныне определённо режет ухо читателя. В принципе символ и должен быть строго реалистическим образом. Но позднейшие символисты далеко уклонились от этого правила. Они стали жертвовать внешней правдой и даже правдоподобностью ради выявления в символе избранной ими идеи. Это вело к схематическим построениям, где действие развивается вне времени и пространства, не прикреплено ни к какому определённому месту и веку на земле и, вне отношения к общей идее, не имеет никакого смысла, иной раз нелепо и просто невозможно в жизни.
В период своего расцвета Символизм охотно обращался к античным (эллинским) мифам, вообще к народным сказаниям и легендам, бóльшая часть которых построена по принципу символа. Иные символисты даже любили называть свою поэзию “мифотворчеством”, созданием новых мифов. Столь же охотно пользовались символисты образами истории, особенно древней, ибо таковые, уже став для нас некими схемами, легко поддаются обобщениям, и в них легко (правда, с некоторой натяжкой) вложить самое разнообразное содержание. Широкая начитанность, которую никто не станет отрицать у выдающихся символистов, позволяла им освоить тысячелетия всемирной истории и мифологии всех народов, под всеми широтами. В период упадка школы это пристрастие уклонило Символизм в бесплодные пересказы исторических фактов и легенд. Из любого, вычитанного в книге, события такого рода создавали поэму, и любую поэму украшали ссылками на деянья иных времён, щеголяя выискиванием малоизвестных имён и намёками на факты, ведомые лишь специалистам-историкам. Эллада и Рим, Ассирия и Египет, сказания Эдды и мифология полинезийских дикарей, мифическая Атлантида и средневековые бредни — всё рáвно шло в дело. Поэзия превращалась в какой-то гербарий прошлых веков, в чреду упражнений на исторические и мифологические темы. Этим самым она порвала с современностью и всё дальше и дальше уходила от окружающей жизни.
Самая забота символистов о технике перешла в губительное любованье формой. Первоначально символисты видели в обработанной форме могучее средство воздействия на читателя. Ради более острого восприятия создаваемых поэтом образов любовно воскрешались и старинные “формы”, от сонета и терцин — до французских баллад, итальянских канцон, ронделей и т.п. Утратив свою жизненность, школа продолжала жонглировать всевозможными техническими достижениями, получившими самодовлеющее значение, и, не довольствуясь более известными построениями, искала всё новых и новых: у провансальских трубадуров, в поэзии восточной, у арабов и персов, в декадансе римской литературы и т.д. Символизм возвёл в канон выработанную им технику. Всё более отрешаясь от “свободного стиха”, когда-то созданного им самим, он замкнулся в области строгих форм, строгих метров, строгих рифм. Всякое нарушение этого канона рассматривалось символистами как преступление против непреложных законов, что обрекало поэзию на утомительное однообразие ритмов и созвучий, закрывало ей пути к техническому развитию.
Наконец, позднейший Символизм повинен ещё в одном тяжелом грехе против поэзии: в небрежном отношении к слову. На заре своей деятельности Символизм сам восставал против безразличного отношения к словам, весьма свойственного реалистам. Символисты справедливо указывали, что слова — основной материал поэзии; что поэт должен с ними обращаться столь же внимательно, как скульптор с мрамором; что от выбора слов зависит сила выражения и изобразительности. Лелеять слово, оживлять слова забытые, но выразительные, создавать новые для новых понятий, заботиться о гармоничном сочетании слов, вообще работать над развитием словаря и синтаксиса — было первоначально одной из главнейших задач школы. Много слов и оборотов, ныне общеупотребительных, было впервые введено или обновлено именно символистами. Но внимание к слову с течением времени покинуло символистов. Достигнув общего “признания”, заставив себя читать, они стали довольствоваться приблизительным выражением своей мысли; при всех внешних украшениях и ухищрениях стиля их язык стал бесцветным и однообразным. До известной степени это было уступкой критике, которая упрекала первых символистов за излишнюю изысканность выражений; но уступка шла слишком далеко и мертвила самую стихию художественного слова.
Таково было состояние нашей литературы после 1910 года, когда стала настоятельно сказываться потребность в очередном обновлении. Чувствовалось, что господствующая школа остановилась в своём развитии, застыла в своих традициях, отстала от темпа жизни. В недрах самого Символизма возникали новые течения, желавшие влить новую кровь в его дряхлеющее тело. Но попытки эти были слишком частичны, зачинатели их слишком прониклись теми же самыми традициями школы, чтобы обновление могло быть сколько-нибудь значительным. У нас в России таково было течение Акмеизма. Акмеисты — все начинавшие как ученики символистов — торжественно заявляли, что намерены вернуть поэзию к её первичным основам, искать первобытной силы образов, первоначальной выразительности слов и т.д. Всё это свелось к тому, что символическая поэтика была ими немного подновлена, притом вряд ли в правильном направлении. У позднейших акмеистов, или неоакмеистов, сохранились все недостатки позднего Символизма, а прибавилось лишь одно: искание непременно, во что бы то ни стало, острых мыслей и свежих образов. Неоакмеизм есть погоня за красивыми и неожиданными утверждениями, изложенными в классических, и потому узких, формах.
Напротив, совершенно радикальным был протест раннего футуризма, означившегося около 1910 г. Критика футуристов била по больным местам Символизма; в их теоретических построениях было много справедливого. Футуристы прежде всего хотели быть поэтами современности, жестоко высмеивая преувеличенный историзм символистов. Рассудительности символистов футуристы противополагали требование, чтобы поэзия непосредственно говорила образами чувственности. Разбивая установившийся канон форм, Футуризм искал новых ритмов; отвергая академические рифмы символистов, давая широкое место ассонансам и всякого рода иным, ещё не опробованным созвучиям. Принцип „слова, как такового” был одним из основных в раннем футуризме, и футуристы старались создавать новые слова или воскрешать обветшалые — то, что они определяли терминами „словоновшество” и „словотворчество”.
Однако художественные создания первых футуристов далеко не стояли на высоте выдвинутых ими задач. Во-первых, в рядах раннего Футуризма было мало подлинных поэтических дарований; во-вторых, школа с самого начала предалась всякого рода крайностям — иногда просто вызывающим выходкам, сразу её дискредитировавшим. Из желания быть во что бы то ни стало “современными” футуристы усердствовали в изображении таких сторон окружающей действительности, которые не могли вызвать сочувствия читателей. Опасаясь рассудочности Символизма — отказывались вообще от всякого идейного содержания в поэзии, не только избегали в своих стихах работы разума, но прямо любовались безмысленностью и бессмысленностью их. В поисках новых ритмов и рифм они разрушали самое существо стиха, писали стихи а-метрические и а-ритмичные с концевыми ассонансами настолько приблизительными, что это уже не производило впечатления созвучий. Восставая против излишнего, может быть, пристрастия символистов к аллитерации, убивали вообще всё звуковое строение стиха, лишая его одного из сильнейших средств воздействия — напевности. Стиль футуристов оказался весьма и весьма невыдержанным, заставлял воображение читателя метаться от одного образа к другому, совершенно противоположному; их метафоры, их сравнения часто натянуты, вымучены, неестественны. Самая забота о „слове, как таковом”, приводила многих к заполнению стихов совершенно ненужными словообразованиями, построенными не в духе языка, частью непонятными, частью звучавшими фальшиво и претенциозно, а иной раз давала просто невразумительные сочетания звуков и букв. — Все эти недостатки не позволили раннему Футуризму оказать сколько-нибудь значительное влияние на литературу.
К этому присоединилось ещё одно, весьма важное обстоятельство. Наш русский Футуризм был отголоском западного футуризма, школы Маринетти и его последователей. Но западный Футуризм определённо был пропитан идеологией разлагавшегося капиталистического строя. Под угрозой надвигавшихся социальных переворотов европейский капитализм делал попытку перестроить, по-новому обосновать своё мировоззрение. Выдвигалась основная мысль, что всё существующее — прекрасно и потому разумно. Старались найти красоту во всём укладе жизни, сложившемся в Европе XX века, воспевали, например, величие больших городов со всеми их язвами и ужасами, прославляли, как высший государственный идеал, империализм, и война объявлялась „единственной гигиеной мира”. Русский Футуризм воспринял эту идеологию в меньшей степени, но всё же она чувствовалась, проступала между строк, и массы читателей инстинктивно сторонились этой поэзии.
Развитие Футуризма, как вообще всех литературных движений, было прервано Европейской войной и эпохой социальных революций. Литературные интересы временно должны были уступить более насущным вопросам; в течение нескольких лет художественная литература оставалась на заднем плане. Но, разумеется, художественно-литературные искания полностью не замирали никогда. ‹...›
Если мы теперь обратимся к современной русской литературе, в частности — к нашей поэзии, так как поэзия всегда является авангардом литературы,1![]()
Самое это дробление указывает на живой интерес к вопросам искусства в среде наших поэтов.2![]()
![]()
![]()
Сейчас все отдельные группы в литературе враждуют между собой: имажинисты с футуристами, футуристы — с пролетарскими поэтами и т.д. — каждая выражает притязание, что лишь она одна стоит на верном пути. Но вряд ли одна из этих групп окажется тем зерном, из которого вырастет будущая литературная школа в истинном смысле этого слова. Вернее то, что они все вместе, не сознавая того, подготовляют почву для этой школы. Разные течения нашей литературы, в близком будущем, должны будут слиться в одном широком потоке, который и даст нам то, чего мы все так ждём: выражение современного мироощущения в новых, ему отвечающих формах. То будет поэзия всенародная и общедоступная. Пока же наша поэзия делает то, что может и что обязана, то, чего от неё требует исторический момент: она ищет. Торопить то, что совершается по историческим законам, невозможно; остаётся только всячески облегчать нашей молодой литературе её трудные пути. Тому “новому”, что вырастает из Европейской войны и Октябрьской революции, суждено развиваться целые столетия; литература вправе потратить несколько лет на то, чтобы вполне осознать и научиться воплощать это новое. О нашей молодой поэзии можно сказать словами Вергилия: Naviget, haec summa est, пусть она плывет (т.е. идёт вперед, не стоит на месте), в этом — всё.
1921
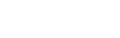 В годы перед Европейской войной в русской поэзии было, собственно говоря, только два течения, по крайней мере, два живых течения: символисты и футуристы. ‹...›
В годы перед Европейской войной в русской поэзии было, собственно говоря, только два течения, по крайней мере, два живых течения: символисты и футуристы. ‹...›В рядах символистов значились: Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт, пишущий эти строки, Вяч. Иванов. Андрей Белый, А. Блок, М. Кузмин, Ю. Балтрушайтис и мн. др. Некоторые поэты помоложе выделяли себя из числа символистов, именуясь акмеистами: Н. Гумилёв, С. Городецкий, позднее О. Мандельштам и др., но их новаторские теории не вязались с практикой, а практика ранних акмеистов была чисто символическая.
Противоположный лагерь образовывали ярые противники символистов — футуристы. В ту эпоху, в первую половину 10-х годов, футуризм ещё не выходил из периода первого натиска, беспорядочного, неорганизованного бунта. Теоретические положения футуристов — разные их “манифесты” — были противоречивы, плохо обоснованы, преднамеренно и грубо парадоксальны. Наряду с произведениями, авторы которых действительно пытались сказать новое слово в литературе, в книгах футуристов печаталось немало вздора, затемнявшего основное течение. Сами футуристы делились на ряд “фракций”, ожесточённо споривших — вернее, ругавшихся — между собою: кубо-футуристы, эго-футуристы (проповедовавшие „вселенскую эгосамость”), психо-футуристы, центрофугалы и др. В этих изданиях, начиная с «Садка судей» (1908 г.), «Пощёчины общественному вкусу» и т.д., продолжая аморфными объединениями «Петербургского глашатая», где рядом с новаторскими стояли стихи Ф. Сологуба, Вал. Брюсова, Л. Афанасьева, и кончая разными «Чемпионатами поэтов», уже выступали почти все те деятели футуризма, о которых дальше необходимо будет говорить подробнее: В. Хлебников, Вл. Маяковский, Б. Пастернак, Н. Асеев и др. Но было также множество имён, претендовавших возглавлять целые направления, — имён, которые теперь, через 6–7 лет, вряд ли что-нибудь говорят самым усердным читателям стихов: И. Игнатьев, Фёдор Платов, Дм. Крючков, Ив. Оредж, Вас. Гнедков, Грааль-Арельский, Жозефина Гант д’Орсайль и т.д., и т.д. ‹...›
Таково было положение русской поэзии в годы, предшествовавшие пятилетию 1917–1922 гг., или, вернее, в годы перед самым началом Европейской войны. В общем-то, была картина в достаточной мере тусклая. Центр её занимали символисты, с примыкавшими к ним течениями (как акмеизм). Но в лагере символистов уже определённо чувствовалась усталость; движение вперёд остановилось, сменилось застоем, который явно грозил превратить мятежный поток 90-х и 900-х годов в загнивающее болото. На новых произведениях символистов лежала печать трафарета; их настроения в целом были проникнуты успокоенным самодовольством; вся их поэзия бесповоротно отходила всё дальше и дальше от жизни; любовно углубляясь то в археологию, то в мистику. На первом плане картины бурлили ещё весьма мутные воды футуристического движения. Здесь ощущались живые токи, возможность достичь новых берегов, веянье свежего ветра, долетающего из современности, из подлинной жизни. Но, продолжая сравнение, можно сказать, что с чистой водой смешивались потоки грязи, что новые берега были ещё скрыты туманами, что и самая атмосфера русского футуризма того периода была пропитана вредными испарениями. Таковыми, между прочим, были некоторые идеологические предпосылки, выставляемые ранними футуристами, заимствованные с Запада и толкавшие на роковой путь служения империалистическому капитализму. Задний фон картины составляли поэты, державшиеся отживших форм старого реализма, более не пригодных для выражения настроений современности. Наконец, в стороне, ещё не имея сил занять видное место, группировались первые пионеры “крестьянской” и рабочей, пролетарской поэзии.
Начавшаяся война ещё более затемнила эту картину. Большинство поэтов наперебой бросились писать патриотические и военные стихи. “Спрос” на такого рода произведения (со стороны не только бульварных еженедельников, но и серьёзных “толстых” журналов) родил избыток “предложения”. Эти батальные, славянофильские и — увы! — нередко ультра-монархические стихотворения изготовлялись в громадном большинстве, по определённым, раз навсегда установленным, рецептам. При сочинении таких стихов поэты забывали все традиции и заветы своей “школы”, и часто трудно было отличить в очередной стихотворной поставке на нужды данного издания бывшего футуриста от бывшего символиста или бывшего реалиста. Все становились “на одно лицо”, во мгле порохового дыма (конечно, только словесного) “все кошки делались серы”. Чисто художественные задачи вовсе не имелись в виду, отходили на последний план ... И такие произведения насчитывались тысячами, временно совсем заслонив подлинную поэзию, которая, конечно, продолжала жить, но о которой как-то позабыли и читатели и критика.
Затяжка войны привела, в области поэзии, к некоторому отрезвлению. В 1916 г. литературное небо прояснилось; стали вновь появляться книги стихов, привлекавшие внимание решением художественных задач (таковы, напр., «Оксана» Н. Асеева, «Простое, как мычание» Вл. Маяковского, «Поэзия Армении», «Альманах Муз», последовавший вскоре сборник «Поверх барьеров» Б. Пастернака и др.). Но быстро надвигались сначала чёрные месяцы начала 1917 г., когда русскому слову стало „не до стихов” (выражение Тютчева), потом — две революции со всеми их неизбежными, но тяжёлыми следствиями для внешних проявлений поэтической жизни. Февраль 1917 г. был по плечу большинству наших поэтов, побудив “певцов” быстро настроить свои лиры на лад “свобода — народа” и затопил, было, журналы и газеты такими же стихотворными клише, как и начало войны. Но Октябрь был для многих, и очень многих, как бы ударом обуха по голове. Голоса, обычные в нашей поэзии, примолкли. А затем, с замираньем всей вообще художественной жизни в России, затихла и русская поэзия в её целом, как живой организм, состоящий из разных клеток. Слабо пульсировали лишь некоторые из них. ‹...›
Больше трёх лет дальнейшая эволюция русской поэзии совершалась как бы в подполье, почти незримо для широких читательских кругов. Прекратили свое существование те старые литературные журналы, со страниц которых читатель прежнего времени обычно знакомился с новыми явлениями поэзии (по самим произведениям или по критическим отзывам). Новых журналов, которые печатали бы стихи, возникало мало, и большею частью они прекращались на одном из первых выпусков, да и, в силу разрухи транспорта, не получали распространения. Закрылось, временно или навсегда, и большинство прежних книгоиздательств, в первую очередь — именно литературные. Одно время — конец 1919 и 1920 гг.— из-за отсутствия бумаги приостановилось самое печатание книг, и не только художественно-литературных. Издательства, учреждаемые при правительственных органах, принуждены были поэтому очень скупо давать место изданиям художественным, тем более — стихам, а изданные книги подвергались той же участи, что и выпуски журналов: они расходились лишь в том городе, где были напечатаны. Центральное Государственное Издательство тоже могло уделять стихам только скудные обрывки бумаги, которой не хватало на газеты, учебники и агитационные издания. Новая книга стихов стала явлением редчайшим, тогда как в предвоенное время их печаталось в среднем до 30 в месяц, т.е. по сборнику в день. Доходило до того, что появлялись в продаже издания рукописные, возвращавшие к старине до XV столетия!
А между тем поэты всех направлений, всех прежде существовавших и зарождавшихся тогда “школ”, продолжали писать и писать усердно, и к ним присоединялись всё новые и новые отряды молодых дебютантов. Полки шкапов даже Госиздата загромождались купленными рукописями стихов, хотя авторов и предупреждали, что стихи печатаются в последнюю очередь. Во все учреждения, связанные с литературой — Пролеткульты, отделы Лито Наркомпроса и др. издательские отделы всех ведомств, даже Наркомзема, редакции всевозможных, хотя бы технических, временников, правления театров и т.п., — всюду почта заносила тетради со стихами. Сколько таких тетрадок, тем или иным путём, попадало в руки любого, сколько-нибудь заметного писателя! Где только открывалась “литературная студия”, — а одно время открывалось их довольно много, — тотчас её заполняли налипающие стихотворцы. И 1922 год, когда началось спешное отпечатывание всего написанного в предшествующие годы, — этот 22 год доказал, что действительно много сочинялось стихов в то пятилетие, когда русская поэзия, казалось, безмолвствует! ‹...›
Рядом с этим поэты пытались до некоторой степени заменить печать публичными выступлениями, авторским чтением с эстрады. Входить в обычай такие выступления начали ещё до октября, но развились именно в первые годы революции, когда, отстранённые от печатного станка, едва ли не все стихотворцы потянулись к импровизированным кафедрам в разные кафе, — отчего этот период русской поэзии и называют иные кафейным. Поэтические кафе расплодились и в Петрограде, и в провинциальных городах, но особенно много было их в Москве. Здесь после всевозможных «Табакерок», «Десятых муз» и т.п. сравнительно долгое время действовало кафе Всероссийского Союза Поэтов, где читали поэты всех направлений (не исключая пролетарских), а также «Стойло Пегаса» — трибуна имажинистов и отдельное кафе пролетарских поэтов. Сходную роль играли такие же чтения собственных стихов на вечерах, устраиваемых государственными и немногими сохранившимися частными организациями. Таковы были вечера Пролеткультов и районных Советов в Москве, Лито Наркомпроса, Особняка поэтов, Дома печати, Дворца искусств, Союза писателей; в Петрограде — Дома литераторов, Дома искусств и др. Ещё более широкий круг слушателей привлекали эти чтения, когда поэты, в Москве, переносили их в огромную аудиторию Политехнического музея, не раз переполнявшуюся по приглашению афиш на “вечер новой поэзии”. Были даже вечера, где публика присуждала премии за лучшие стихи. ‹...›
В противоположность символизму, разлагавшемуся и до 1917 г., футуризм в годы революции едва начинал оформляться. Единой программы у футуристов не было. Разрозненные фракции весьма широко объединял весьма неопределённый лозунг борьбы со всеми традициями поэзии: „Бросить Пушкина, Достоевского, Л. Толстого и проч., и проч., с парохода современности” и „Стащить бумажные латы с Брюсова” («Пощёчина общественному вкусу», 1913 г.) или „Для нас Державиным стал Пушкин” и „Да, Пушкин стар для современья” (Игорь Северянин). В поисках теоретических основ наши футуристы охотно обращались к уже готовому, т.е. к манифестам западного футуризма, к Маринетти и его сотоварищам («Манифестам итальянского футуризма», перевод В. Шершеневича 1914 г.), и это было роковое недоразумение. ‹...› Между тем, русский футуризм вербовал своих ратников в слоях общества, органически чуждых такому подходу (Маяковский, Асеев и др.). Насколько футуристы были не организованы перед войной, видно уже из того, что в иных своих изданиях они нападали на тех самых писателей, которые вскоре станут важнейшими деятелями движения (разнос в «Первом журнале русских футуристов» 1914 г. Пастернака и Асеева), или превозносили тех, кто через 2–3 года окажется принципиальным противником футуризма (восторженные хвалы В. Шершеневичу, там же).
Тем не менее, уже в 1917 г. определённо наметились такие, прикрывавшиеся именем футуризма группы, которые явно выпадали из общего течения, и в пятилетку 17–22 гг. перестали играть сколько-нибудь заметную роль. Таковыми оказались даже не мертворождённые „психо-футуристы”, члены «Вседури» и т.п., исчезнувшие вместе с первым выпуском своих программных изданий, но объединения, некоторое время занимавшие внимание критики. Исчезла группа Игоря Северянина — поэта, деятельность которого начиналась с безусловно интересных, даже значительных созданий, познавших самый шумный успех у читателей («Громокипящий кубок», стихи 1910–1912 гг.). Северянин чрезвычайно быстро “исписался”, довёл, постоянно повторяясь, своеобразие некоторых своих приёмов до шаблона, развил в позднейших стихах недостаток своей поэзии до крайности, утратив её достоинства, стал приторным и жеманным, сузив темы своих “поэз” до маленького круга, где господствовало „быстро-темпное упоение”, восклицания „Вы такая эстетная” и т.д., — салонный эротизм и чуждый жизни эстетизм. Приставка эго (Северянин именовался “эго-футуристом”) мстила за себя. Всё, что написал и напечатал Игорь Северянин за годы революции, в Крыму и в Ревеле, — только перепевы худших образчиков из его ранних книг. Вместе с Северяниным сошли со сцены литературы и его ученики (были таковые!) ‹...›
Гораздо более жизненной оказалась группа самых непримиримых футуристов — та, которая именовалась то „кубо-футуристами”, то будетлянами (от корня ‘буду’, аналогично ‘futur’), то „заумниками”. Стойкость её зиждилась на том, что она ставила себе задачи, прежде всего технические, следовательно, отвечала запросам эпохи. Термин „заумники” указывает на желание поэтов этой группы создать новый поэтический язык — заумь, который дал бы поэзии более совершенный материал для творчества, нежели язык разговорный. У этой тенденции есть здоровое ядро. Поэзия — искусство словесное, как живопись — искусство красок и линий. Извлечь из слова все скрытые в нём возможности, далеко не использованные в повседневной речи и в учёных сочинениях, где преследуются цели практические и научные, — вот заветная мечта „заумников”. Мыслимо большое количество слов, аналогичных существующим, — слов, которые не были созданы народом лишь потому, что в них не было нужды. Поэт, подыскивая более точное, более детальное или более образное выражение, вправе такие слова творить сам — в духе языка и его морфологии, конечно. Например, от корня ‘мочь’ мыслимы производные могун | могач | могец | могатырь | можество | моганствовать | моженята и т.п. (образования В. Хлебникова). Принципиально нельзя возразить и против права поэта творить новые корнесловия, новые словосоединения, новые суффиксы, новые флексии. Далее встаёт вопрос о преобразовании поэтом синтаксиса, введении новых приёмов словоподчинения и словосочинения, новых оборотов речи, нового строя предложений и т.д. Всё это будет творчеством поэта в сфере языка, который мы вправе обрабатывать так, чтобы тот наилучшим образом служил целям поэзии.
Однако, приемлемые в теории, эти возможности становятся крайне опасными, как только дело доходит до практики, до стихосложения. Поэзия, подобно любому искусству, возникает из потребности поэта выразить себя самого, уяснить самому себе свои переживания (теория Потебни); но ценна тем, что она сообщает воспринимающей стороне. Подобно учёному, поэт может обращаться и к широким, и к ограниченным (специальные научные сочинения) кругам читателей, но поэзия теряет смысл своего существования, если она не воспринимаема вообще. Стихи, понятные только самому автору, или даже доступные лишь горстке “посвящённых”, — явление антисоциальное. Поэтому по пути „словотворчества” и „словоновшества” писатель вправе идти лишь до известных пределов. Допустим даже, что чтение стихов будет требовать некоторой подготовки (требуется же, например, знание языка для чтения иностранных произведений), но всё же, чем шире будет круг читателей данного произведения, тем полнее выполнит оно своё назначение. Между тем, увлекаясь сочинением новых слов и новых оборотов речи, первые заумники по большей части создавали стихи, абсолютно никому, кроме них самих, не понятные. Критика недоумевала, что ей делать со всеми этими „дыр-бул-щыл-убещур” или бобэоби — вээоми — пиээо — лиэээй; для читателей же это было пустое место. Дело ухудшалось ещё и тем, что заумники, наряду с обработкой языка, как материала, ратовали за соответствие графического изображения звуков их смыслу (Н. Бурлюк и др.), настаивая, что шрифт и кегль печатных букв имеет в поэзии значение, чуть ли не равное выбору слов. В книгах заумников иные слова печатались крупнее, иные мельче, те вкось, те вкривь, те и вовсе вверх ногами, и смысл этих типографских ухищрений был крайне мало вразумителен. Наконец, — и этого не надо забывать, — словотворчество требует не только таланта и огромного чутья к языку, но и филологических знаний. Так как их многим заумникам недоставало, то и сочиняемые ими слова бывали зачастую нетерпимы для уха человека, говорящего по-русски.
Проповедь свою заумники начали с первых шагов футуризма и продолжали её весь период 17–22 гг., постоянно выступая с новыми образцами „зауми”. Из всех этих проповедников только один достиг положительных результатов; это был основоположник зауми, которого сотоварищи единогласно признавали учителем, недавно скончавшийся Велемир Хлебников. Только у него специальный талант к творчеству слов и несомненное (хотя и не очень широкое) поэтическое дарование соединялись с известной научной осведомлённостью. Много высказано Хлебниковым нелепых филологических парадоксов, разваливающихся при первом прикосновении научной критики; многое из напечатанного под его именем — только черновые наброски, опыты, где ценное вперемешку с лишним и ненужным; но за всем этим остаётся ещё подлинный вклад в литературу. В своих лучших стихах — такова и последняя поэма «Зангези», 1922 г., — Хлебников действительно сумел во многом преобразовать язык, выявить в нём элементы, обойдённые вниманием поэтов, но в высшей степени пригодные для поэтического творчества. Он показал новые приёмы художественного воздействия словом, и при этом сумел остаться “понятным” при минимальном усилии читателя. Это ещё не выполнение задачи, предносящейся перед заумниками, но уже этапы на пути к её решению. Безмерно слабее, неудачнее попытки ближайших единомышленников Хлебникова: драмы Г. Петникова, стихи А. Кручёных («Зудесник», книга 119-ая, 1922 г.), В. Каменского, И. Зданевича, Н. и Д. Бурлюков и др. За годы 1917–22 один Хлебников шёл вперёд, углубляя свои искания; другие заумники топтались на месте, вплоть до повторения опробованного давным-давно типографского штукарства как в московских, так и в тифлисских (альманах «Софии Г. Мельниковой», Тифлис, 1919 г., Терентьев, «Факт», Тифлис, 1919 г., и др.) изданиях.
Но плодотворность идей Хлебникова не ограничивалась только успехами его личного творчества и неуспехом писаний Кручёных и др.: не в такой резкой форме, как сочинение стихов на зауми, эти идеи проникали всё вообще творчество футуристов. Важно было осознать, что язык — это материал поэзии, и что этот материал может и должен быть отработан поэтами соответственно задачам художественного творчества. Это и есть основная мысль русского футуризма; проведение её в жизнь — основная заслуга наших футуристов; успехи этой работы суть главные (формальные) достижения нашей поэзии за пятилетие 1917–1922 гг. Участвовали в этом движении не только заумники, но, сознательно или бессознательно, все поэты, примкнувшие к новаторским течениям: все они, угадывая требования эпохи и подчиняясь, может быть, импульсу Хлебникова (как то свидетельствуют сами главари футуризма), устремили своё художественное внимание на язык. Прежнее отношение к языку как к чему-то извне данному, во что можно вносить лишь мелкие поправки (отношение классической поэзии), было отвергнуто. Работа над “формой” в поэзии стала не только исканием адекватных размеров, удачного строя строфы, выразительной рифмы и осторожного привлечения малоизвестных речений (отношение символистов), но в то же время, и даже раньше всего, — работой над языком, над словарём, морфологией и синтаксисом.
В центре деятельности футуристов 17–22 гг. стояли два поэта — В. Маяковский и В. Пастернак, они-то, по большому счёту, и выполняли этот завет своей школы. Но эти поэты настолько значительны, что выламываются из рамок её; значение их деятельности нельзя ограничить выполнением одной, хотя бы и важной, задачи момента; самое творчество их не умещается в гранях одного пятилетия.
Маяковский сразу, ещё в начале 10-х годов, показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Он был одним из тех, кто к Октябрю отнёсся не как к внешней силе, мешающей самой работе поэта (отношение очень многих, несмотря на стихи, где революция воспевается), но как к великому явлению жизни, с которым он органически связан. Уже с эпохи войны появляется ряд стихотворений Маяковского, откликающихся на современность, а затем радостно приветствующих революцию: «Война и Мир», «Революция», «Наш марш» («Всё, сочиненное Вл. Маяковским», 1919 г.), «Мистерия Буфф» (переделано для театра в 1920 г.), «150 000 000» (1921 г.), поэма об интернационалах (1922 г.) и самые настоящие агитки («Маяковский издевается», 1922 г.), рядом с которыми, впрочем, разворачиваются иные темы (см. «Всё», затем «Люблю», 1922 г. и др.). Стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений пятилетия: их бодрый слог и смелая речь были живительным ферментом нашей поэзии. В своих позднейших стихотворениях Маяковский усвоил манеру плаката — резкие линии, кричащие краски. При этом он нашёл и свою технику — особое видоизменение “свободного стиха”, не порывающего резко с метром, но дающего простор ритмическому разнообразию; он же стал одним из творцов новой, ныне общеупотребительной рифмы, более отвечающей свойствам русского языка, нежели рифма классическая. Наконец, в сфере языка Маяковский, с умеренностью применяя принципы Хлебникова, нашёл речь, соединяющую простоту со своеобразием, фельетонную хлёсткость с художественным тактом. Недостатки поэзии Маяковского в том, что эта хлёсткость иногда преобладает, что простота порой срывается в прозаизмы, что иные рифмы слишком искусственны, что некоторые размеры лишь типографски отличаются от заурядных ямбов и хореев, что плакатная манера не лишена грубости, и т.д., главное же в том, что и у Маяковского уже начинает складываться шаблон. Во всяком случае, опасности для него ещё впереди, а годы 17–22 явили расцвет его деятельности. Влияние Маяковского на молодую поэзию было очень сильно, но, к сожалению, ему чаще подражали по внешности, без его силы, без его одушевления, без меткости его речи и богатства его словаря. (Ныне выходит собрание стихов Маяковского, «13 лет работы», изд. «Маф», М., 1922 г.)
Гораздо менее на виду была деятельность Б. Пастернака. Кроме стихов, иногда появлявшихся в немногочисленных журналах и альманахах революционного периода, он за последние годы издал одну-единственную книгу «Сестра моя — жизнь», 1922 г.; это — собрание стихов, написанных в 1917 и 1918 гг., немногие — позже, в 1919–1920 г. Несмотря на это, влияние Пастернака на пишущую стихи молодёжь едва ли не равно влиянию Маяковского. Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, ещё нигде не напечатанное, и ему подражали безогляднее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии. Стихи Б. Пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, ещё небывалого: у него всегда своеобразный подход к теме, способность всё видеть по-своему. В области формы — богатство ритмов, большею частью влитых в традиционные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может быть назван даже в большей степени, чем Маяковский. В творчестве языка Пастернак весьма осторожен, но, сравнительно редко прибегая к изобретению слов, он смел в новых синтаксических построениях и в оригинальности словоподчинений. Насколько по настроениям своей поэзии Маяковский близок к поэтам пролетарским, настолько Пастернак — поэт-интеллигент. Зачастую это приводит к широте его творческого охвата: история и современность, факты науки и злоба дня, книги и реальная жизнь — всё это на равных правах входит в стихи Пастернака, располагаясь, по особенному свойству его мироощущения, как бы на одной плоскости. Но иногда та же чрезмерная интеллигентность обескровливает поэзию Пастернака, толкает его к антихудожественной рефлексии, превращает иные стихи в философские рассуждения, подменяет живые образы остроумными парадоксами. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи — может быть, без ведома автора — пропитаны духом современности; психология Пастернака не заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни. ‹...›
1922
Он любил таблицу логарифмов.
Владислав Ходасевич. Брюсов
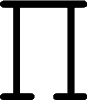 окорнейше прошу-с: Брюсов Валерий, генерал-инспектор кавалерии. Манеж, галоп, аллюр, фураж, ковка и выбраковка. Молчать! Его превосходительство не весьма благоволит рысакам и обожает иноходцев. Молчать! Что такое на языке глухонемых эти скрещенные руки? А на языке демонов глухонемых?
окорнейше прошу-с: Брюсов Валерий, генерал-инспектор кавалерии. Манеж, галоп, аллюр, фураж, ковка и выбраковка. Молчать! Его превосходительство не весьма благоволит рысакам и обожает иноходцев. Молчать! Что такое на языке глухонемых эти скрещенные руки? А на языке демонов глухонемых? Краеугольный камень воображения. Достоверно известно, что Сципион Африканский никогда не скрещивал рук, даже пальцев не сцеплял. Современники недоумевали, потомки (Маринетти, Палаццески, Боччони) заходили в тупик. Ответ северянина прост: Африка. Со всем вытекающим из подмышек.
Краеугольный камень воображения. Достоверно известно, что Сципион Африканский никогда не скрещивал рук, даже пальцев не сцеплял. Современники недоумевали, потомки (Маринетти, Палаццески, Боччони) заходили в тупик. Ответ северянина прост: Африка. Со всем вытекающим из подмышек.| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 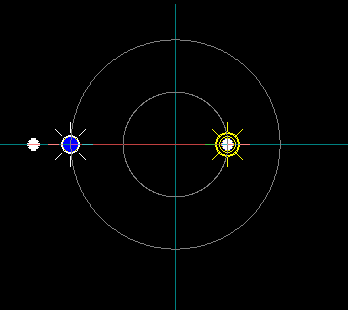 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||