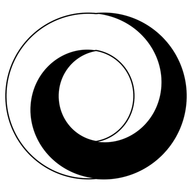
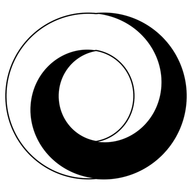
Словотворчество Хлебникова неотрывно от его “будетлянства”, чего не скажешь о футуризме в целом. Хлебниковские словотворчество и образотворчество обусловлены необходимостью заклинать сопротивляющийся во времени материал. Поэтому расхожему взгляду на изыскания поэта как на лабораторные опыты следовало бы противопоставить видение их как более свойственного его личностной природе сложного и многостороннего промысла. В таком промысловом и промыслительном духе наставляет нас поздний Хлебников:
В свете коренного вопроса литературного течения — вопроса о времени — образный ряд для русских кубофутуристов и близких им художников в пору подъема этого течения овеществлялся до степени если не всегда мистического хаоса, то по крайней мере натурфилософской стихии. В 1908 году будущий глава будетлянства написал: Мы обретаем свободу от вещей. Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения (Твор., 579). Более чем через 7 лет Хлебников подводит первые итоги русскому будетлянству, выстоявшему как единое “я” едва ли не в лице только одного своего вождя:
Непохожесть, зримо отраженная в зеркале властного ничто, указывает на разительное несовпадение объемов таких явлений, как “Хлебникова поле”, футуризм, течение будетлянства. Из этого можно видеть, сколь одиноким в сущности остался в русской литературе словотворческий (и словообразный) гений Хлебникова, сколь несоразмерная отдельной личности задача легла на его плечи.
Науке о Хлебникове еще далеко до последнего слова. Тем не менее уже в 20-е годы обозначились многие ее внутренние возможности и в течение полувека она постепенно накапливала в себе мировоззренческие силы, с тем чтобы к 80-м годам как на западе, так и на родине поэта выйти на новый свой этап, характеризующийся масштабностью поставленных проблем.
В исследованиях по словотворчеству просматриваются те же закономерности, что и во всем “велимироведении”. Так на первом этапе господствует точка зрения, сформулированная Р.О. Якобсоном еще при жизни поэта (1921г.): „На ряде примеров мы видели, как олово в поэзии Хлебникова утрачивает предметность, далее внутреннюю, наконец, даже внешнюю форму. В истории поэзии всех времен и народов мы неоднократно наблюдаем, что поэту, по выражению Тредиаковского, важен „токмо звон”” (Якобсон, 68).От Якобсона идет традиция рассматривать внутренние связи хлебниковского целого как на разных уровнях “немотивированные” (ранний Винокур, Гофман, Степанов и др.). Для самого Якобсона это отбрасывание “эфемерных мотивировок” есть лишь второе название “обнажения приема”. В таком представлении самоценной оказывается “диссоциация словесных элементов”. При этом в других исследованиях, сохраняющих приверженность принципу “произвольной”, “немотивированной” трансформации Хлебникова, могут проставляться иные акценты (например, Панченко и Смирнов). Шкловский, Якобсон, Гофман указывали также на рутинность канонического языка, разрушаемого “экспериментатором” — Хлебниковым.
В определенном смысле противоположное изложенному мнение на характер хлебниковской диссоциации высказали впервые русские структуралисты (Вяч.Вс. Иванов). Б.А.Успенскому нарушение обычных грамматических, синтаксических, композиционных связей позволяет рассматривать произведения поэта как “криптограммы” (Усп. 73). Во многом именно по пути “дешифровки” Хлебникова и пошли исследования 70–80-х годов (Р. Дуганов, Р. Вроон, Б. Лённквист). Тем не менее, один из главных сторонников „очень высокой степени мотивации” Х. Баран вынужден признать, что после всех объяснений Хлебников обязательно оставляет исследователю немало темных мест, за которыми прячется загадка художественного целого: „Сконцентрировавшись на “деревьях” индивидуальных образов и смысловых мотивов, мы потеряли из виду “лес” целостной хлебниковской системы” (Баран 85,9).
Как ни странно, данная структуралистами установка не позволила убедительно истолковать творчество значительного, как говорят, “предшественника” структурализма1![]()
Именно в типологии словотворчества, едва ли не самом трудном вопросе, на сегодняшний день велимироведение добилось наиболее ощутимых достижений, создав несколько законченных концепций. Работы опубликованы почти одновременно — в 1983–86 годах. Исключение представляет не столь детально разработанная концепция В. Гофмана, тем более замечательная и самобытная, что она была создана на полвека раньше и уместилась в отдельной статье (Гофман, 185–240). „Все споры вокруг Хлебникова, — утверждает автор, — на девять десятых имеют своим основанием и предметом хлебниковский язык”. Гофман стремится создать классификацию „способов словотворчества” Хлебникова и достигает в этом определенных успехов. Сильной стороной его классификации является рассмотрение новообразований Хлебникова („от наличных основ” и „на омонимически-каламбурной основе”), не утерявшее свежести и наглядности до сих пор. Устарели взгляды Гофмана на сферу заумных языков (здесь он не вдается в подробности), что сказывается и в критической плоскости работы. При этом исследователь прекрасно понимает, что в данном поэтическом случае мечта о гравитации смысла вложена в уста не графомана, а мага слова. С другой стороны, Гофман стремится полнее отразить в своей классификации художественную систему Хлебникова, рассматривая лингвистическую позицию поэта в отношении заимствований и диалектов, а также общие принципы речевой композиции произведений.
Более узкую задачу поставили перед собой современные зарубежные велимироведы Вестстейн и Вроон — первый строит типологию “языкового эксперимента” Хлебникова, второй посвящает свою книгу „разбору неологизмов”, включая сюда, правда, и “заумные” языки. Данные концепции отличаются высокой степенью детализации и систематизации, Вроон использует очень богатый исходный материал, не только классифицированный, но и статистически обработанный. Типологически более полной является работа Вестстейна, не исключающего из рассмотрения “поэтическую этимологию” Хлебникова, то, что Гофман называет „иллюзорным этимологизированием”, и вообще относящегося к собственным мнениям поэта с доверием. Так “незаумные” новообразования Вестстейн рассматривает в свете теории деривационных отношений, в то время как Вроон отталкивается от собственно грамматической схемы. Вроон обнаруживает у Хлебникова только один “канонический” неологизм — смехач, все остальные подпадают у него под категорию nonce word. В контексте этих работ более или менее устоялись границы заумных, “трансрациональных”, паралингвистических изысканий Хлебникова, хотя до четкости внутренней их типологии еще далеко.
Несколько особняком стоит один из самых глубоких исследователей Хлебникова русский лингвист В. Григорьев. В книге «Грамматика идиостиля» (1983) он дает свой разбор “заумных” языков, в целом адекватный концепциям Вестстейна и Вроона, добавляющий в их перечни еще идею “числового” языка, самим языкотворцем, впрочем, нисколько не реализованную. Совсем другие основания заложены в работе Григорьева «Словотворчество и смежные вопросы языка поэта» (1986), составляющей вместе с книгами Вестстейна и Вроона итог современной науки по данной проблеме. Григорьев отказывается от традиционных методологий, исходя из “внутреннего” сознания Хлебникова. Из теоретического наследия поэта Григорьев вычленяет более двух десятков словотворческих “начал”, принципов и стремится не только хронологически, но и генетически их классифицировать. Исследователь, конечно, не доходит до конца в этой сложнейшей работе, останавливаясь где-то на середине пути. Однако значение самой попытки дать историю словотворчества, теорию его происхождения, трудно переоценить.
Параллели между рассматриваемыми концепциями указывают, с одной стороны, на объективные истины словотворчества, а с другой на индивидуальную специфику каждой классификации, ту их условность, которую невозможно заметить без сравнительного анализа. Прежде всего, обращает на себя внимание единство исследователей по поводу двух первых (хронологических и генетических) пунктов словотворческой системы. Тому, что у Вроона называется грамматическими (1) и неграмматическими (2) новообразованиями, а у Гофмана образованиями “основа + старые аффиксы” (1) и „переразложение” (2) — соответствует у Вестстейна корневой (1) и аффиксальный (2) виды морфологической деривации. У Григорьева употребляется в обоих случаях хлебниковский термин: скорнение-1 как восстановление парадигмы и скорнение-3 как корнеизменение. Подробный анализ двух этих важнейших хлебниковских “начал”, в словарный состав которых входит более 3/4 общего числа его неологизмов, можно найти в работах Вроона и Григорьева. В случае с грамматическими новообразованиями (1) Вроон различает не только несколько типов аффиксации и тип новообразований по принципу “композиции” (времяпахарь, звуколюди), но и близкий последнему принцип “аппозиции” (молодчики-купчики, морок-ворог). Григорьев обращает внимание на родственный двум последним принцип „ословления” (сонзари, алрот). Вроон заботится о вскрытии “грамматической” и морфологической общезначимости словотворчества. Григорьев в своем исследовании сводит воедино различные идеи поэта, высвечивающие каждое "начало" и раскрывающие внутренние связи словотворчества как эстетической и мировоззренческой системы. Неграмматическим (2) называет Вроон второй класс неологизмов, поскольку здесь происходит мимикрия под каноническое словообразование (у Григорьева — создание „квазиксов”) и закладываются первые элементы переосмысления всего речевого порождения.
Все остальные новообразования попадают у Вроона в третий — “аграмматический” — класс. У Вестстейна и Григорьева, согласно их более широкой задаче, круг этих проблем раскрыт более полно и дифференцированно. Опять же отечественный исследователь занят поиском существенных соответствий между разными слоями хлебниковского творчества, и проблематика эта пока выглядит неисчерпаемой. Весьма удачна постановка автором проблем, связанных со скорнением-2, основой звездного языка. Вестстейн подчиняет свою классификацию однозначной задаче — представить хлебниковский языковой эксперимент как поэтическую демонстрацию „существования нерушимой, мотивированной связи между звуком и смыслом”. Концепцию Вестстейна можно считать на сегодняшний день наиболее полной и законченной системой словотворчества поэта, поскольку в работе Григ. 86 многие из впервые вводимых в науку “начал” движутся еще в поиске своего места, кроме того, как уже отмечалось, автор здесь не рассматривает “заумные” языки.2![]()
Словотворчество в расширенном значении можно представить как реконструкцию-переосмысление существующего языка в новой художественной системе. (При этом “литературное” или же “поэтическое” (не равно) “художественное”). Реконструкция может происходить как с целью создания иного целого языка относительно или безотносительно собственно литературных функций, так и с ограниченной целью — переосмыслить конкретные единицы языка и замкнуть их в новые художественные цепочки. В хлебниковском словотворчестве есть аспекты, которые рассматриваются только в свете этой последней цели:
— Указывающее на книжный характер творчества использование синтагматических фигур и средств (палиндромом, обыгрывание омонимов, анаграмма, опечатка как художественный принцип, выпадение знака и другое) (3) — Закон внутреннего склонения слова, то есть воображение горизонтальной этимологии (поперечной грамматики, что то же) на основе чередования гласных в корне; этот принцип реально используется Хлебниковым именно как словесная игра (4) — Звукопись, то есть сочетания звуков как цветообразы (восходит к А. Шлегелю, С. Малларме, А. Рембо и другим) (5) — Звукоподражание или передразнивание (сюда мы отнесли бы птичий язык, безумный язык, детский лепет) (6)
Если не идти на поводу у Хлебникова (например, своеобразной автотипологии словотворчества в «Зангези»), то различные аспекты его “заумного” и околозаумного языкового поиска не следует ставить в один ряд. Они редко проявляются в чистом виде и не имеют четких границ. Так называемый магический язык заговоров и заклинаний, а также очень близкий ему язык богов не могут рассматриваться в качестве независимых аспектов словотворчества, поскольку их системность строится путем включения едва ли не всех остальных аспектов (0). В заключение выскажем несколько соображений по поводу терминологии словотворчества. Скорнение целесообразно употреблять как общее название не для трех, а для двух классов неологизмов, за которыми в свою очередь можно закрепить названия: корнесловие (1) и корнеизменение (2).3![]()
Таким образом, словотворчество поэта сводится, во-первых, к двум гипотетическим языкам — общеславянскому на основе скорненного русского (1, 2) и звездному (7, 8),4![]()
Рассмотрим, кстати, и термин “заумь”. Как и в случае со скорнением, Хлебников употребляет его в разных значениях, в конце концов даже противопоставляемых. В результате у Вестстейна в его классификации к “зауми” относятся и безумный с магическим, и звездный язык. Суть проблемы сводится к тому, что Хлебников, а вслед за ним сподвижники, недоброжелатели и толкователи его перенесли название от предпосылок словотворчества к его задаче, от зауми священного языка язычества к грядущему заумному мировому языку. Заумный язык, — читаем в «Нашей основе», — значит находящийся за пределами разума. Сравни: Заречье — место, лежащее за рекой, Задонщина — за Доном. То, что в заклинаниях, в заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным (Твор., 628). Как видим, “мечтаемый язык” (выражение Г. Винокура) именно разумен, а не заумен, на готовое изделие метонимически перенесено имя сырья. В чем причина этой, казалось бы, запутывающей метонимии? В 1919 году Хлебников предостерегает в одной из статей: Желание “умно”, а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову (Твор., 37). В чем же здесь дело? А дело в органике: Хлебников никогда не отрицает этих противоположных тенденций — он рационализирует иррациональное и, наоборот, иррационализирует рациональное. Равновесие в нем художника и ученого, не борьба, а союз этих начал в творческом горении — “мужицкая” черта, роднящая Хлебникова с Ломоносовым:
Итак, заумь в узком смысле слова (безумь), заумь как все несводимое к уму неумь и разумь, ум приявшая, не чуждаются друг друга, а “сестрятся” в проникающем под покрывальности сознании словотворца.5![]()
Вопрос, являются ли неологизмы Хлебникова окказионализмами, решается в зависимости от взгляда на функциональную нагрузку творений поэта. Окказионализмы должны быть в разной степени случайными образованиями. Ученые, настаивающие на. термине “окказионализм” (Р. Вроон, М. Поляков), в принципе не отрицают того, что новое слово Хлебникова продуктивно и закономерно работает в дискурсе “автор — читатель”. Нам представляется, что употребление этого термина в отношении целенаправленного словотворчества нежелательно. То, что верно в отношении стихийных процессов речетворчества, звучит некорректно в рассуждении о поэте, который не был неудачником в своем высоком ремесле.
Мы верим и признаём,
что не от разговоров мы понимаем друг друга,
а силою внутреннего общения...
П.А. Флоренский
Прежде чем осмысливать ту авангардную методологию, которая стоит за хлебниковским смыслотворчеством в виде его души, связующего звена слова и “мифа”, языка и веры, обратимся к характерным примерам этого творчества. Такие кристаллизации нередко являются неплохими формулами и осмыслениями себя самих. Предварительно только укажем на то абсолютное совпадение бытия и инобытия, которое наблюдается в цепи поэтических фактов. В целом ряде вещей («О Достоевскиймо бегущей тучи!..», «Азы из узы», «Я и Россия», «Вши тупо молилися мне...» и многих других) Хлебников отождествляет большой и малый миры, раскрывая их транзитивность в определенные моменты бытия. Ответом на некий зов и личным чаяньем такого момента исполнено обращение поэта к России: Будь мною, будь Хлебниковым. В этих словах — соль подлинного будетлянства, как превращения себя в будущее. А вот более тонкий и отдаленный пример: в поэме «Поэт» Хлебников говорит о донельзя перевоплотившихся в свои личины участниках лесных гуляний на весенние святки:
Не есть ли это протеическое саморастворение в мифе лучшая формула авангардного скачка? В этом четверостишии три сравнения с как будто, но эти как будто устранимы и даже почти устранены, в праздничной веселости Хлебникова таится космическая серьезность, а в серьезности что-то родное и, значит, веселое. Уже здесь видим эротический, “половой” архетип Хлебникова — где у него половое, то есть стремление к родству, там и замирное. И в классическом для нашей проблематики стихотворении словам об общем множителе, соединяющем меня, Солнце, небо, жемчужную пыль, предшествуют строки:
Девичьи косы льются по всему Хлебникову. Они и черный хлеб, и гусли, и груда светлых денег. Превращаясь во что бы то ни было, они и остаются собою, и приближаются к божественности. Хлебников, словно влюбленный, как будто соотносит весь мир с прядью волос, пришитых к ладанке или же, напротив, во всем мире как в потерянном талисмане видит родное и любимое.7![]()
Уместно вспомнить здесь и знаменитый жар любви горничной Волконского, наконец, полезно обнаружить в поэме «Синие оковы» удивительную ностальгию по старому футуризму и встречам с Оксаной Синяковой, тогда еще не супругой Асеева:
В этой же поэме, заметим мы, выходя из плоскости более поверхностных наблюдений в другие плоскости, проводится настойчивая мысль о перешагивании небытия, совершаемом обычно того не замечающим человеческим сознанием:
Заметить и назвать преодоление небытия значит превратить один берег потока небытия в другой, породнить их — В неловком вымолве увидеть каменную бабу / Страны умов... Перешагивания-перепрыгивания от одного образа к другому суть превращения, метаморфозы, когда знак, означающее перестает быть собою, а становится вещью, предметом, меняющимся и меняющим характер и способ своей связи с тем, что по привычке назвали бы “означаемым”. Поэтому Хлебников нередко дает метаморфозу, будто бы неоправданную художественным эффектом, не превышающую задачи простой метафоры: из рук летящий жезел / Его седин стал палачом (СП, I, 72). В этом примере ясно видно, как образ-вещь, переполненное словесностью слово перестает “означать” и силою собственной тяжести уклоняется в иную сторону. Можно догадываться, что в каждом конкретном случае образотворчества Хлебников воспринимает ключевое слово как своего рода талисман или амулет, тяжесть которого ощущаешь “телесно”. При этом не важно, имеем ли мы формально дело с метаморфозой, потому что превращение-материализация чаще скрыто, тайно присутствует в образном ряду. Сеть словесности Хлебникова нарочно сплетена так, чтобы ее разрывали тяжелые талисманы, эти слова без названий, как выразился поэт в волнующей нас сейчас более других поэме «Каменная баба» (1919), представляющей собой “сюжет” о судьбе талисмана. Талисман ведь сам по себе призван быть носителем чьей-то судьбы, материализовать ее. И до конца не ясно, отделима ли участь талисмана от тех участей, которые он несет в себе, от тех, кому он посвящен. Хлебников раскрывает просторы посвящений степных истуканов — половецких казенных баб — во времени и месте:
Мысль Хлебникова как бы затянута в узлах не сказочных, а серьезных, неприукрашивающих жизнь метаморфоз, перешагивает от одного носителя судьбы мира к другому (здесь: от степи к Млечному Пути, от слепоты казенной девы к ее прозрению через мотыльков — бабочек). В русском языке эквивалентом термину талисман, помимо ладанки, является многозначное слово “зачур”. Зачурать — значит оградить восклицаньем, словом (В.И. Даль). Таким образом, зачур, талисман — слово-ограда, слово-вещь, вступающее в материальный мир не как слово, а как равноправный, то есть материальный же, элемент. Зачуры, кстати, не что иное как язык заговоров, нашептов, то есть существенная разновидность волшебно-заумного языка. Составить полный список черт, роднящих эту разновидность фольклора с хлебниковским языком — дело будущих исследований. Хлебников не употребляет термин “зачуры” в своей теории, хотя интересуется двойственностью корней русского языка -чур- и -чар- и вводит их в свое творчество, давая целую поэтическую “диалектику” талисмана и властной предметности:
Хлебниковский образ отличается от символа в классическом и устоявшемся понимании. Символ, если воспользоваться суждениями А. Белого, создает эмблематическую систему. Иной смысловой системой оказывается зачурный язык, язык образов-талисманов.
Стремление Хлебникова создать предельно действенный язык воплощается в двуедином движении — словотворчестве и творчестве новых образов. В звездном языке поэт-языкодатель синтезирует два этих направления — читая, к примеру, «Слово о Эль», начинаешь сознавать: звуки не просто новые корни или новые слова, но словами они оказываются благодаря тому, что прочувствованы сначала как талисманы (Хлебников, прежде чем начал систематизировать, глубоко ощущал и “прощупывал” эти образы пространства). Заметим мимоходом, что в “синкретическом” мироосязании Хлебникова буквы и звуки вообще не различались, для него это были абсолютные синонимы. Талисман, при том, что он имеет действительный вес, на самом деле снижает груз пустого означающего со смысла, облегчает ум и забирает у сердца обременяющую заботу о словесности-условности. Вот почему творец слов-вещей заявляя о своей свободе от вещей.8![]()
![]()
В этом, а также другом стихотворении 1921 года, разрабатывается тема поэзии как завода: рабочие завода песни, завода слова духовенство, речей завода духовенство. Здесь промысловость Хлебникова граничит с потенциальной “промышленностью” творчества. Во втором из этих стихотворений мотив видения собственной судьбы передан через образ бабочек (сравни выше цитату из «Каменной бабы»), которыми заполнен тяжелый мешок слов. Этот мотив связан с известными “картофельными мешками”, “наволочками” Хлебникова, в которых тот возил по России свои “судьбоносные” рукописи и вместе с которыми терял их.
Здесь мы опять приближаемся к тем мыслям, которые высказали в самом начале работы: двуединый, слово- и образотворческий промысел Хлебникова может быть всецело назван “будетлянством”. Потому что властное “всё” (вещественность мира) и властное ничто взаимно уничтожают власть друг друга, по замыслу заклинающего их поэта, и это само время теряет свою власть над миром в момент заклинания. В творчестве Хлебникова все внимание обращено на моменты заклинания, существенным мыслится только то, что связано с низвержением идолов земного пространства-времени, обличением этого идолопоклонства. Свобода от вещей не значит неприятия вещей, но значит понимание их и уважение к ним. Камни, растения, звери, так же как и люди, суть “зачуры” одного подлинного языка, слова одного писания. В поэме «Жуть лесная» (1914) Хлебников так откровенно скажет о своей словесной задаче:
Превращение у Хлебникова серьезно, потому что оно не исключительное, а всеохватывающее, во всех вещах заключенное основание бытия. Так в «Зверинце» (1909) виды животных стоят в одном ряду с верами как разбег и затихание одних и тех же волн: На свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога (Твор., 186). Возможно, будет выглядеть замысловатым сопоставление этой идеи со знаменитым «Заклятием смехом» (1909). Но здесь на наших глазах сотворяются и выпускаются на волю новые виды слов, по-разному видящие божий корень смех-смей . Та же расплавленная стихия времени и тварно-текучего заклинается синеоким Вишну в очаровательном стихотворении «Меня проносят на слоновых...» (1913). В своей статье Вяч.Вс. Иванов верно сопоставляет вслед за С.М. Эйзенштейном индийскую миниатюру, послужившую поводом к созданию хлебниковского стихотворения, с кинематографическим монтажом. Здесь в метафоре пола и метаморфозе биологического вида (слон девицедымный, девушка-хобот — Бодисатва Вишну) дается захватывающая по замыслу картина преображения мира в религиозном эросе, своего рода буддийской “соборности”:
Любовью и лаской к несомому исполнено несущее, но оно, несущее, опять же протеистически взаиморастворено в мифе. Стихотворение и миниатюра не достигнут цели, если мы станем застревать на мерцающей текучести несущего, тем не менее вполне самостоятельного уровня бытия, наделенного своим голосом (голосами). Так метаморфоза Хлебникова приближается к грани иконизма. И так же как иконостасы, она стремится подготовить восхождение от предметного разнообразия к единому.
Христианство у Хлебникова превосходит другие веры тем, как в Тайной вечере жизнь мелькает снова — замирное начало, близящаяся смерть Христа преображает взаимоотношения бытия и разрывов бытия (зазоров, как любил говорить поэт), устраняет время и пространство, претворяет вино и хлеб в тело и кровь («Ни хрупкие тени Японии...»). Собственно, евхаристия, как и нательные кресты, является иконическим талисманом, такую же роль играют малые “образки” и некоторые другие священные предметы — они как бы посвящаются конкретному верующему, причащающемуся, молящемуся. С другой стороны, нельзя упускать из виду, что языческие “зачуры” должны были связывать человека с духами его предков, пращуров — то есть носили сугубо “духовный” характер, пусть и в родовом его понимании. Следует отметить, что подобное же единство “духовности” и “родства” составляет существо философии Н.Ф. Федорова, близкого Хлебникову. Талисман или икона — главный вопрос в рассматриваемом срезе велимироведения, разрешать его до конца мы не беремся. Более того, с нашей точки зрения, многообещающим было бы предположение о творчестве Хлебникова как томлении по иконичности. Ожидание и предощущение иконизма, уподобление себя своей цели, то есть иконоподобность — надежная характеристика хлебниковского образа. Иными словами, “авангард” Хлебникова чреват каноном, но напрашивающийся канон этот, дыхание которого чувствуется и в других близких поэту явлениях культур XX века, особенно в живописи, почему-то неподъемно труден для продолжателей авангардного дела, растаскивающих оставшееся незавершенным строительство “по кирпичику”. Укрепим наше обоснование иконических тенденций в Хлебникове посредством ссылок на одного из ведущих и на данный момент непревзойденных в этой области религиозных мыслителей XX века отца П.А. Флоренского.10![]()
Вопрос о природе образа совершенно прозрачен другому вопросу — загадке необычной хлебниковской контекстуальности. В этой точке сводятся едва ли не все разноречия велимироведения. Интерпретируя в своем исследовании отдельные вещи Хлебникова, В.Г. Вестстейн сталкивается с проблемой обоюдотолкуемости: часто оказывается неопределенным, где ядро, а где оболочка метафоры. Как мы уже отмечали, “означающее” и “означаемое” в случае с Хлебниковым все более обращаются в фикции, в дань научному методу. Вследствие этого понятие метафоры, чем более она реализована, тем более не выдергивает обстоятельств слишком буквальных и “неоправданных” превращений. Вестстейн выступает строгим приверженцем традиционных принципов “дешифрования” в отличие от ряда своих коллег (М. рыгара, Х. Барана), выдвигающие идею о необходимости “открытой” интерпретации Хлебникова. В своей основной работе Вестстейн возражает: „Все-таки элементы текста (и фрагмента) в первую очередь принадлежат тексту (+варианты) и уже потом целому поэзии” (Вестстейн 83, 78).В одной из более поздних статей исследователь пытается уловить специфику хлебниковской контекстуальности: „Слова, указывающие на определенный элемент, могут терять свои прямые значение, но в то же время приобретать новые, ассоциативные значения, зависящие от контекста, в котором они использованы и от других тематических уровней, с которыми они связаны” (Вестстейн 86, 208). Тут же в самокомментарии оговаривается, что в принципе данная мысль верна в отношении любой литературной работы, но что Хлебниковская семантика полисистемна, обусловлена особо сложными связями с окружающей реальностью и автобиографией поэта.
Вопрос о персональном контексте поднимается в исследовании Раймонда Кука. Ученый приходит к выводу, что мы имеем здесь дело не столько с автобиографическим, сколько с “автомифическим” контекстом. Сочетание слов по законам “притяжения и отталкивания” — так интуитивно улавливают два различных автора (О. Брик и М. Грыгар) принцип тяготения хлебниковского контекста. Значительной по постановке проблемы представляется нам статья сторонника метода “широких контекстов” Х. Барана «Xlebnikov’s Poetic Logic and Poetic Illogic» (Баран 85, 7–27). Хенрик Баран рассматривает свой метод диалектически: с одной стороны, открытость анализа в корпус непоэтических текстов Хлебникова обеспечивает ему богатую пищу, с другой — метод “статичен”, поскольку он “ориентирован на интерпретацию сегментов, специфических пассажей, частей текста”. Неудовлетворенный результатами поиска внутренних закономерностей хлебниковской контекстуальности, Баран обращается к новым для себя “мифопоэтическим” аргументам и тут же выстраивает целую концепцию развития миротворчества поэта, во-первых, затемненность и невыверенность многих смысловых связей обусловлена своеобразной хлебниковской манерой творчества, номадическим стилем жизни (nomadic Pise-style) и “случайным”, то есть непоследовательным, несистематическим, хотя и обширным образованием. Следствием того нетрадиционная установка на “первобытную” фрагментарность поэтики. Во-вторых, Баран находит достаточные основания для рассмотрения мифотворчества поэта на двух этапах его становления (до и после 1915 года). Нетрудно согласиться с тем, что “оптимизм ранних лет” сменяется у зрелого Хлебникова “трагизмом”, в чем, впрочем, нет ничего удивительного. Гораздо более спорным является у Барана выявление основных тенденций — построение антитетических оппозиций (у раннего Хлебникова) и “трансцендирование дихотомий” (у позднего). В данной главе мы старались сочетать ранние и поздние призеры “транзитивности” миров большого и малого, невидимого и видимого, внутреннего и внешнего, и убедились, что у Хлебникова до 1915 года и даже в 1910–12 годах в таких примерах нет недостатка. С другой стороны, “антитетические” построения раннего Хлебникова после 1915 года не уходят из творчества поэта, хотя и приобретают несколько иной облик (действительно, браваду славянства и молодого будетлянства сменяет мрачный пацифизм и лирический трагизм). Показательна и приведенная Бараном ссылка на профессора Анфимова, обследовавшего поэта в 1919 году (то есть именно в поздний период). В статье «К вопросу о психопатологии творчества...» Анфимов увязывает „наклонность удерживать в сознании полярно-противоположные содержания” с относительным отсутствием сексуального опыта у Хлебникова. Нам представляется, что случаи несводимости “полярных оппозиций” у Хлебникова сосуществуют с “трансцендированием” на протяжении всего творчества, но не как две тенденции, а как две стороны (открытая и скрытая “транзитивность” миров) одной тенденции. Кроме цитированных выше убедительно свидетельствует об этом еще и следующее стихотворение (1910–1911), в котором обращают на себя внимание вновь эти “мнимо”-сравнительные глаголы (казались — казалось):
Антитезы у Хлебникова — усеченные метаморфозы, метаморфозы — развернутые антитезы.11![]()
![]()
Мифологическое, инверсионно-трансформационное, традиционно-текстологическое направления хлебниковедения со своих сторон приближаются к загадке хлебниковского контекста, но не разгадывают ее. Ведь Р.О. Якобсон приводил несомненные примеры “немотивированности” (это явление реально), в то время как вещи Хлебникова в целом действительно хорошо мотивированы на разных структурных уровнях. И склонность поэта к инверсионной трансформации безусловна. Но не есть ли все эти моменты то, что Хлебников с лукавством называл подводными камнями? Не заключена ли главная трудность в самой постановке вопросов — в поиске определенной границы возможного уразумения непонятностей, конкретной степени мотивированности и оправданности поэтических ходов, в поиске универсальных средств (семантических, композиционных, жанровых, мифологических) созидания контекста? Нам представляется, что сама постановка вопроса таким образом свидетельствует о качественно ином типе контекста. Изменились у Хлебникова не средства созидания, но сам созидаемый контекст. Ведь по существу мы сталкиваемся с тем, что современный интеллектуал, хорошо знающий русский язык и мировую поэтическую традицию, неспособен понять Хлебникова во всех его деталях, понять его исчерпывающим образом, таким, каким он привык постигать поэзию.13![]()
Многозначность в таких вещах, создаваемых в основном словотворческими языковыми средствами, не столько свидетельствует о наличии некоего тайного ключа к авторскому мифу, сколько создает особый объем смысла, в котором только купаются узкие, “бытовые” значения слова. На грани первого и второго десятилетий века Хлебников предается разгулу этого псевдо-мифологического языка, в котором, казалось бы, воскресает лингвизм язычества.14![]()
От этих примеров велик соблазн причислить Хлебникова к своеобразным возродителям школьного “античного” мифологизма, но это будет ошибкой нежелания примерить на себя сквозную хлебниковскую задачу — посредством вертикального контекста выйти по ту сторону текста, где живет некоторое существо, двойник поэта или его вдохновитель (гений). Читатель должен быть вовлечен в поле живого мифологического сознания. “Механизм” хлебниковского контекста оказывается связанным с решительным пересмотром самой установки поэта в отношении читателя, а не просто с очередным усложнением внутренней системности. Но то, что для других является интерпретацией, герменевтическим “обеспечением” взаимопонимания, для Хлебникова оборачивается реальностью взаимосозерцания. Для него удивительно и, как увидим в дальнейшем, прискорбно, что видимое им может не видеть его, не отвечать взаимностью со-бытийствования.15![]()
![]()
“Пустое” слово-талисман Хлебникова как один из этой четы глаз посвящается конкретному человеку, с тем чтобы начать вбирать в себя опыт его жизни, стать для него сначала “второй” системой смысла, другим языком, а затем и срастись с ним, обогатив его “сверхсмысленностью” иных соответствий.17![]()
В «Нашей основе» люди полностью реабилитированы. Нужно помнить, — говорит Хлебников, — что человек в конце концов молния, что существует большая молния человеческого рода. (Твор., 636)18![]()
Р. Дуганов, хотя и преувеличивает роль молнии в “мифопоэтической философии” Хлебникова, однако же справедливо видит в ней „снятие противопоставленности духа и вещественности”. Молния является одной из (энергетической) ипостасей скачка, это образ уничтожения небытия, самый близкий к сути дела из встречающихся в физической природе. Хлебников действительно пронизан энергийностью (огнезарностью), начиная с «Жарбога», где она противопоставлена мороку наших дней. Но разряды-жарири перекликаются и с времирями как с равными им по божественности, а, скажем, в лучшей “энергийной” лирике Хлебникова этот аспект подчинен обуславливающему его принципу пола-эроса («Конь Пржевальского», «Русь, ты вся поцелуй на морозе!»). И тем не менее Дуганов прав, когда видит “отсвет” молнии во всем: и в революции, и в мифологии, и вообще во всяком соединении стихий. Просто важны и иные отсветы.19![]()
И в то же время поздний Хлебников часто задумывается над тем, что сам на себя земной власти не взял бы. На той же странице поэмы о том же Ленине:
Хлебников не революционер в этом смысле, ибо реальные революционеры находятся на одном ее полюсе и обуславливают этим другой — они вызывают безбожие верой, а стихию мерой или, соответственно, наоборот. Хлебников же заключает в себе оба объединенных в революции полюса. Новатор Хлебников или реакционер — вопрос непраздный. Думается ответ на него лежит в идентификации Хлебникова и революции — подчеркнем, не только октябрьской, а вообще этого явленного в истории Числозверя, этого потока, протекающего в зазоре между берегами новаторства и реакции. Революционеры могли быть разрушителями, радикалами, но революция не равна революционерам, она значительно больше их. Каждый сейчас ответит по-своему, новаторство это было или реакция. Имя революции и Хлебникову придумает еще история.
Она сделает это быстрее, если мы ей поможем. А посильная помощь — в ответах, где надо искать существа столкнувшихся в 1917 году полюсов, полюсов, расходившихся и сходившихся веками и преображенных, претворенных друг в друга как бытие и инобытие. Хлебников не обходит эти полюса, он занят ими не как темами или тематиками, а именно как полюсами.
То, как относится творчество Хлебникова к русскому и мировому традиционализму не просто выводит его за рамки модернизма. “За рамки” вылезали многие. В Хлебникове (причем уже на ранних этапах) происходит издыхание без особых мучений всего и всякого модернизма, а за обрывками и обломками “стиля века” явствует грозное (негуманистическое) лицо супра-традиционализма с очами языкового язычества и мифософии числослова. Два этих “ока” суть два всегдашних уровня, два вечных этажа традиции, вне единства которых силы ее замыкаются на себе и не находят творческого исхода:
Как связать и составить эти части многовекового раскола, как свести два плоскостных зрения в одно объемное — так решится и загадка революции. Не в свете 17-го года, а в свете, просиявшем через 17-ый год, причина как дореволюционного так и пореволюционного переосмысления двух полюсов в остром Хлебниковском космосе.20![]()
“Мифотворчество” Хлебникова и начинается с любви-жалости к осиротелому мореёму, земле-вдове, лишенной не только супруга, но даже и уст в своих порождениях («Курган Святогора»). Хлебников несколько преувеличивает: чтó как не уста матери-сырой-земли обретает он в лице народного слова в своих фольклорно-филологических изысканиях? На что ему и опираться как не на естество лесных и полевых песнотворцев? Тем не менее голос Хлебникова звучит не на деревенских посиделках и не в карагоде, а в Санкт-Петербурге поздней романовской империи, и здесь иначе звучат его сказанные за родину слова: Не слышу голоса милого. В будетлянском манифесте 1912 года слова, обращенные к “старшему поколению” интеллигенции, звучат уже не столько заносчиво (как в 1909–1910 годах), сколько скорбно-грозно: Природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлеченного, а вот этого именно. Искусство всегда хочет быть именем душевного движения, властным призыванием его. Но имя у каждого человека одно. Для сына земли искусство не может быть светлым пороча эту землю (HП, 334).
Хлебников чает поставить задачи нового народа-моря на капитальную основу, что выражается в заявлении о своем предельном и полном праве на словотворчество, этой дерзкой претензии поэта от имени и во имя великорусского народа. Погружаясь в словотворчество, Хлебников берет на себя всенародную миссию и по задаче и цели представляет собою в словесной стихии общенародное сознание (об этом уверенно говорят в своих книгах Б. Лившиц и Р. Дуганов). Народность Хлебникова — словотворчество. Фольклорно-языческий полюс его не религиозен, а словесен, образен, в то время как религиозный идеал — дело другого полюса; только так они соединяются, а не отрицают друг друга.21![]()
Малоизучен вопрос о преображении в творчестве Хлебникова фольклорных мотивов. Ясно, однако, что и народное слово, и народная манера были едва ли не главной подпиткой его вдохновенности. Хлебников сам признавался, что творчество его живет необходимостью видеть перед собой тот народ, для которого пишешь ‹...› (CП, V, 298). По словам Рональда Вроона, „Даль снабдил его сотнями примеров словотворчества в народной речи, не говоря уже о неологизмах самого Даля”. Б. Лившиц вспоминает, что, когда Хлебников коснулся этого языкового пласта, „необъятный, дремучий Даль сразу стал уютным, родным”. На органичный характер освоения поэтом древнерусского языкового сознания указывали О. Мандельштам, а также Д. Панченко с И. Смирновым.22![]()
Архаический элемент составлял в идиолекте Хлебникова одну из самых важных, опорных сторон языкотворчества. Но поэта совсем несправедливо было бы назвать “архаистом”, так же, впрочем, как и “новатором” в этом, тыняновском смысле словам Хлебниковский язык и древен, и нов, он включает, а не исключает из себя различные пласты слова, причем с последовательностью совершенно беспримерной для русской культуры. Единственным “негативизмом” в системе Хлебникова было ограничение на заимствованные слова — искусственная плотина против европеизации русского сознания. В остальном же в Хлебникове законно любое слово и в любом словосочетании — это установление “равенства”, разрушение преград между словами-панами и словами-холопами выдвигало принципом крайний стилистический индифферентизм (у Григорьева — 9 “начало” словотворчества). При этом революционизировалось само понятие стилистического “вкуса”. Выражаясь языком словарей, у Хлебникова варились на равных в одном котле слова высокого стиля и бранные, книжные и просторечные, разговорные и устарелые, а также вновьсочиненные и безвестные, “выкопанные” из глубины веков и непривычных языков!
О том, что значение Хлебникова для русского языка может оказаться сопоставимым со значением Ломоносова, уже давно сказано (Шкловский, Тынянов и др.). При этом подразумевается, что Хлебников значительно опередил свое время в постановке проблем языка. То, что не позволило Ломоносову сделать дело Пушкина — недостаточная зрелость культурно-языкового организма — то же не позволило и Хлебникову дать продуктивный словотворческий толчок русской речи. Однако при этом упускается одно важное обстоятельство — своеобразное противопоставление себя Хлебниковым внутренне единой традиции Ломоносов — Пушкин (мы говорим сейчас о чисто языковых, а не художественных моментах). Для Хлебникова существующий литературный язык, то есть язык русской классической литературы, язык учеников Пушкина, так же “подл”, как и язык московской полуобразованной толпы (между собой два эти языка, кстати, генетически связаны). Во всяком случае, именно этот победивший пушкинский язык Хлебников рассматривает как „мертвый”, как злые, но сладкие чары, которые необходимо разорвать.
Со-противо-поставление Ломоносова — Пушкина — Хлебникова может быть глубоко осмыслено только через погруженность в обстоятельства становления русского языка XVII–XX веков. Хлебникова благодарно наблюдать на фоне даже еще, более масштабных изменений. Его позиция существенно перекликается и с древнерусским “словотворчеством” (до второго южнославянского влияния) и с архаически-новообразовательными взглядами зрелого Тредиаковского, и с “архаистами” начала XIX века, выступавшими за восстановление “коренного” облика русского языка.23![]()
Хлебников живет в уникальную, резко отличную от времен Тредиаковского или Карамзина эпоху, когда победивший “компромиссный” язык русской элиты решительно наступает на основную массу субъектов русского языка. Пушкинский язык движется в народ в своей “лакейской” ипостаси. По существу, пафос ломоносовско-пушкинской программы “уравновешивания” языка заключался в “омосковнивании” и вестернизации элитарного языка, языка будущей интеллигенции. Взгляд Пушкина на традицию (стихийного разговорного, фольклорного языка и языка церковно славянского) можно назвать умеренно-скептическим и роль этой традиции в его программе — пассивной. Этим объясняется и отсутствие у Пушкина интереса к словотворчеству. Именно за счет активизации традиционалистского состава русского языка Хлебников вслед за “архаистами” и предполагает перерождение языка элиты, Пафос этого перерождения прямо противоположен ломоносовско-пушкинскому, при этом оно не совпадает в ряде своих значимых деталей и с позицией “архаистов”. Хлебников исходит из ситуации единого современного русского языка с недоразвитым механизмом самообогащения из внутренней традиции.
Во-первых, Хлебников, в словотворческих аспектах подобно древнерусскому “опрощению” церковнославянского языка,24![]()
Во-вторых, Хлебников не мыслит свое детище как просто поэтический язык, он мыслит его именно как язык культуры и, пусть в отдаленном будущем, язык народа, не говоря уже о звездном языке, который не входит сейчас в границы нашего рассуждения.
В-третьих, Хлебников выступает с принципом демонстративной делокализации литературного диалекта — прекращения ориентации на столичный “разговор”, на московское “аканье”. В письме Каменскому 1910 года поэт напишет: Мы знаем одну только столицу — Россию и две только провинции — Петербург и Москву (CП, V, 291).
В-четвертых, еще на самом раннем этапе своего творчества Хлебников отказывается от европейских и прочих заимствований за исключением личных имен и следует этому “пуризму” весьма настойчиво.
В-пятых, однако, пуризм этот постепенно свелся к бойкоту только европеизмов, в то время как культурно-языковой хлебниковский арсенал обогащается за счет расширения заимствования слов славянского (при несомненном посредничестве церковнославянского языка), азиатского, африканского происхождения.
В ранних вещах Хлебникова можно наблюдать, как формировался его метод “беспредметного” образотворчества (своеобразного сочетания конкретного с абстрактным), изначально неотрывного от словотворчества. Исключение — «Песнь мраков» (1906–07) — лишь подтверждает это правило неотрывности. Впрочем, корректнее будет сказать, что абстрагирование образа у Хлебникова шире образотворчества, если поймать под последним явление сугубо поэтическое. И ранний, и поздний Хлебников актуализирует абстрактные церковнославянские ядра так, как этого никогда не делал Пушкин: Умерших снов я стал бы современник. / Творя ответы и вопросы ‹...› (Твор., 471). Такие характерные для Хлебникова словосочетания, равно как и схожие с ними новообразования, он считал перспективными в плане выразительности и смысловой оправданности (в плане языковом столько же, сколько в художественном), однако, вряд ли стоит преувеличивать надежды Хлебникова по поводу усвоения его идиолекта современной русской речью. Поэт не такой уж мечтатель, как это обычно представляют — он отдает себе отчет в “книжном” характере своего творчества.
В отличие от “актуального” Пушкина, дающего язык на завтра, “потенциальный” Хлебников весь в послезавтра и в позавчера, весь упреждающая реакция на новаторство в форме самого этого новаторства, весь “насквозь” авангардист и уже “сквозь” авангард — традиционалист. Поэтому господствующий литературный язык не принял и не мог принять хлебниковской программы. Однако, можно ли согласиться, что пафосом ее был „пафос иллюзорного овладения действительностью”, „насосем иллюзорного изменения действительности”, как выражался В. Гофман? Думается, пафосом хлебниковского языка была в действительности разработка моделей овладения миром и моделей его изменения.25![]()
Хлебников по сути своей натуры, сдается нам, не склонен к иллюзорному, “мечтательно”-беспочвенному моделированию действительности, а, напротив, скорее беспощаден в научной и ценностной жажде истины. В звездном языке его лингвистическая мастерская панславизма преобразуется в мастерскую языка универсального звучания, и это можно было бы назвать космополитизмом, если бы Хлебников не оставался и в поздние свои годы коренным патриотом. Однако же это очень широкий, космический патриотизм, так же как, наоборот, лирика и эпос позднего Хлебникова погружены в некий патриотический космос. Нижний этаж традиционализма не способен удержать поэта там, где это мешает истине.26![]()
Хлебникову доступна правда болезни и вырождения, он готов принять и разделить правду волка и разрушителя. Наступающая с годами глобализация мировоззрения, раскрывающаяся грандиозность замыслов поэта, выражается, прежде всего прочего, в его евразийстве, служащем вдохновляющей опорой для представителей известного научно-философского течения. Если собрать несколько положений из ряда статей Хлебникова («О расширении пределов русской словесности», «Спор о первенстве», «Ваша основа»), то его целостную мысль можно воссоздать так: различия мира заключаются в числе (в мере, количестве), а не сущности естества. И страсти, и мысли одной породы, ум ведает многими, но дальними, а сердце чем-то одним и близким. Сердце — солнечное начало, оно принадлежит родине и народу, но разум — начало звездное, он не может самоограничиться. Вывод: Мозг не может быть только великорусским, мозг должен быть материковым. Так и в природе слова: какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи‹...› И это простой быт, это случай, что мы находимся именно около данного солнца. Опять же напрашивается вывод, взятый из одной хлебниковской повести: общеазийский разум ‹...› должен выйти из тупиков наречий (CП, V, 126).27![]()
В статье «Учитель и ученик» заявлено, что ум материка не может мириться с полуостровным рассудком европейцев. В другом месте Хлебников призывает думать не о греческом, но об Азийском классицизме (CП, V, 156). Поэт не только ставит культурную задачу построить общеазийское сознание в песнях (Твор., 36), но и смотрит в будущее евразийской науки с оптимизмом, который позволяет ему относиться к достижениям Запада с высокомерием степного певца и горного мудреца. Излишне говорить о том, как созвучна эта духовная подоплека научного творчества не только естественникам-евразийцам, но и близким им представителям технической и теоретической интеллигенции (более сибирской и уральской, чем столичной), а также многим представителям пресловутого “восточного эзотеризма”, подпитываемого высшими достижениями азийского традиционализма. В «Азы из узы», главной у автора азийской поэме, “сверхпоэме” Азия предстает в виде “любовницы” Хлебникова, волящего быть всеазийским поэтом. Азия здесь отождествляется с некоей Девой, смутной душой Вселенной, влюбленной в Учителя (эта евангельская ассоциация нам скоро понадобится):
В поэме «Хаджи-Тархан», посвященной русскому “окну в Индию”, Хлебников дарит комплименты пугачевщине и Востоку, в частности магаметанскому:
Но, усыпленный патокой аргументов читатель, если ты азиат, не забывай, что Хлебников — русак, более того, волгарь, астраханец, то есть, в конечном счете, потомок колонизаторов Востока, (хотя и) сын попечителя калмыцкого народа. И в «Уструге Разина» он не преминул кинуть символ Азии в Волгу, упоенно давая этим свой вариант конца персидской княжны:
Это кричат сподвижники Разина, вольные галахи. И Волга-волчица заодно с ними, ждет добычи. Но это все-таки не мотив пожирания Азии, это скорее маленькая жертва, пустячная игра национализма — или еще вернее — решение внутренних русских проблем посредством передела честно захваченной живой добычи между своими: атаманом и матушкой-рекой. — Голубая Волга — на! / Ты боярами оболгана! Важнее всего здесь не забывать о том, что Хлебников — Разин навыворот: Он грабил и жег, / А я слова божок («Тиран без Тэ»). И сам он, русский дервиш, Гуль-мулла, свой человек на Востоке, спас бы персиянку, но
Эротическая природа Хлебникова загадочна. В земной жизни, похоже, не реализовав своих чувств, Хлебников поражает силой эротического живописания и тонким чутьем переживаний женщины. Впрочем, кто знает, может быть, телесное “знание” женщин скорее притупляет, а не обостряет наше тонкое зрение полового инобытия. Не отдаваясь до конца “солнцу” земной любви, поэт видит “звездное небо” женского естества. Но эрос не терпит дистанции, он весь в опасных приближениях и роковых притяжениях. В ранней поэме «Царская невеста» потрясает трепетность хлебниковской жалости к загубленной царем голубице. Немало у Хлебникова и стихотворений, исполненных не просто грусти, а тяжелой истомы по жгущим медным косам:
В этих случаях слова-талисманы проявляют свою подспудную, “темную” суть, ложась тяжелым грузом на сердце поэта:
Учитывая то, что уже говорилось во второй главе, можно подвести такой итог: пол — одна из генеральных, первостепенных (“базовых”) метафор хлебниковской поэзии. В ней осмысливается бытие языка и слова, истории и мифа, и чаще всего, и с наибольшим блеском используется она именно в пред-иконическом срезе: взаимоотношений нижней и верхней стихий мира, родины и космоса, природного и сверхприродного полюсов. Таковы полюса “я” и “ты” в бесподобной строке: Мир и все — лишь “и” к “я” и “ты”. В этом, конечно же, нет затемнения сакральности самого по себе. Доказательство тому — хотя бы каноническая метафоризация Христа как Жениха, и грядущего Супруга Церкви, еще более того — традиционная ветхозаветная символика, трактуемая чаще всего как поэтическая мистика. Хлебников, конечно, открыт для равных прочтений, стремясь быть певцом земного для неба и небесного для земли.
Один из лучших в литературе образцов славянской эротической эстетики дан в драме Хлебникова «Девий бог», где с редкой убедительностью показана психология и мифология девичества, Видеть в «Девьем боге» лишь реплику на различные концепции “дионисийства” было бы поверхностным. Вообще “мистерия” эта очень не по-гречески, самобытно “исполнена” и в речевом, и в контекстуальном разворотах. Образ Любавы у Хлебникова независим и далек от архетипа вакханки — в нем парадоксально сопряжены самостоятельная воля исключительной силы и ведомость не по своей воле, когда сердце в чьих-то сильных руках. Наконец, в самой концентрации женской любви вокруг Девьего бога просматривается не столько древнегреческое, сколько собственно хлебниковское мирочувствие, в ряде аспектов, впрочем, родственное “героическому” протеизму Диониса.28![]()
Две невесты — русалка и Приснодева — чем это не определение Руси как традиции, Руси как двух уровней, двух сошедшихся полюсов?29![]()
![]()
Финальные эти слова в «Поэте», отождествляющие пред лицом суровой судьбы невесту вод и звезд невесту, заставляют нас вспомнить и сестер-молний, называемых у Хлебникова русалками волны.31![]()
И если в ранней драме «Снежимочка», отстаивавшей национальный, стихийно-языческий этаж традиционализма, явно недостает Христа и этой “богоматери”, то с годами сознание единства водной и небесной “сестер”, равно чуждых земной закрытости и заскорузлости сердца, нарастает. Сначала это своего рода лесная “богоматерь”, “лесное божество” материнской одухотворенности, которое говорит:
Затем на протяжении одного стиха осуществляется взаимопереход русалки и божьей матери, которая мыла рядно («Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова...»). А в «Ладомире» речь будет идти уже о взаимопревращениях “страстных” эпох:
Эволюционирует и русалка — порою она выступает уже в роли красной девы восстания («Над глухонемой отчизной „не убей!..”»), но это лишь одна из возможных модных одежд мировых волн («Сестры-молнии»), наполнивших пространство боев в решающие дни. Хлебников так и называет их: молнии революции. И если дореволюционный Хлебников вызывает, возвращает утопленниц из рек, то в «Ночи в окопе» дается и образ русалки крови, и образ Девичьего Поля как страдающей мировой женственности, и замирный вариант девичьей жертвенности: путь пули — через Богородиц. Здесь вся современность гражданской войны “зачурована” в иконостасе, в нагрудном “образке” воина, убийство же Господа в зародыше или во младенчестве звучит оголенным нервом христианской сверхконтекстуальности Хлебникова.
Существенен для понимания Хлебникова еще один мотив — мотив “богочеловеческого” взора:
Или другой, пацифистски-антигосударственный аспект:
Кто знает, с трудом ли, с легкостью ли переваривал зрелый Хлебников Бога-веродателя? Но сам он поэт-меродатель, он сам строит (и не достраивает) свой вариант верхнего, звездного этажа традиционализма. Для Руси он мнит заменить пафос векового Православия верою меры, мерой как сверхверой. В «Ночном обыске» (1921), замечательной по своей динамичности поэме, посвященной “погромной свободе” революции, Хлебников сталкивает матроса-убийцу и Спаса-иконостас. Победа за Богом. Его взор сильнее пьяной и кровавой стихии — Он берет свое. Матрос поражен открытием: Девушки лицо у бога, / Но только бородатое.32![]()
Но предварительно подведем некоторые итоги сказанному в этой главе. Огромное расстояние между литературностью и народностью обуславливает в свете идеальной встречи полюсов традиции напряженнейший характер хлебниковского творчества на его языковом, словесном, мировоззренческом уровнях. Сутью последнего из трех этих уровней представляется нам не “мифотворческое”, а судьбо-творческое начало, формально выраженное в смысловой установке сверхконтекста. Масштаб творчества стремится превысить масштаб данной, конкретной земной судьбы. У Хлебникова нет никакой живой мысли без хотя бы краешка встречи высокой сверхконтекстуальной словесности и приливающей через сердце поэта народной стихии. Мы уже говорили во второй главе о равноправии словесных и смысловых полюсов у Хлебникова; так же говорящий и говоримое стремятся к равновесию своих неодинаковых сил пред лицом Видящего ока. Творчество Хлебникова задает идеальную настройку мировому ладу — жизненную трагедию встречи Хлебников превращает в космическую гармонию совершившихся судеб. В этой точке он необычайно родственен фольклорному чутью художественного как подобающего, песни и культуры как предельно возможного ладомира или “миролада”.
При встрече Хлебников разговаривает как будто не здесь, а там, где все должны уже все видеть и понимать. Это не разговор с навязывающим свой миф писателем, знающим “судьбы мира”, но разговор созерцающего судьбу с созерцающим судьбу, хотя бы (этого-то и достаточно) только свою. Понимаем ли Хлебников — это вопрос. Но в нем бесконечен пафос взаимопонимания. Именно в этом мы видим смысл слов Дм. Петровского: „Что Хлебников был близок народу, это удивительно. Народ — вернейший экран отражения ценности отдельного индивидуума”.
Хлебников верит в успех своего дела, но помнит и о конечности земного пути. Наверное это позволяет ему, меродателю, гению (в чем он не позволял себе усомниться) порою подшутить над собой: Я лишь кролик пугливый и дикий, / А не король государства времен («Война в мышеловке»). Или в «Зангези», где песня божествари (Зангези, то есть автора) вдруг под конец эпизода названа глупоствари песней. Это не скромность, это скорее неотвратимая земная горечь уже не слишком молодого — и стоящего на пороге кончины — поэта.
В своеобразной перспективе раскрывается творчество Хлебникова, когда смотришь через последние годы его жизни и через последний его труд «Доски судьбы» (1922), в котором осуществлено итоговое сведéние многолетних аритмологических изысканий-вычислений. Если болезнь, которою страдал поэт перед смертью, и наложила на его работу некоторый отпечаток, то во всяком случае она не исказила целостный облик Хлебникова, уже более 15 лет разрабатывавшего теорию судьбы как ритма со строгими законами (повторение точек во времени). Опыт предсказания революции 1917 года, двуэтапность открытия основного закона времени достаточно свидетельствуют о неслучайности создания «Досок судьбы», которое происходило, по-видимому, в ускоренных темпах (поэт догадывался о возможной смерти, хотя и предполагал еще жить — интересно, что возраст в 37 лет для людей такой задачи Хлебников называл заранее). «Доски судьбы» и стоящий за ними числовой метод важен еще и потому, что он теснейшим образом связан со словесным методом Хлебникова, недаром поэт с годами все чаще сопрягает категории числа и слова. С нашей точки зрения, его “числослово” есть еще одно, на этот раз уже окончательное подтверждение творческого единства двух уровней традиции: число выступает как дух судьбы и сверхприродного порядка (мудрый правящий дух), а слово-образ как природное, космическое его судьбывание (словесность, напомним, соответствует народности и вообще природности). Есть в этой конкретизации и наша предвзятость — догадки, конструирующие несозданную Хлебниковым философию судьбы и соответствующую терминологическую систему.
Итак, Хлебниковская вера меры не может считаться удачно достроенной, а его поэма чисел, коран в числах — дописанными. Но многие препятствия пониманию, которые ложатся в связи с этим на пути исследователя, преодолимы потому, что Хлебников не одинок в этом своем мистико-гипостатическом мировоззрении. Он оказывается в родстве с рядом древних традиций: в меньшей степени астрологической, в большей степени мистико-математической (вавилонской, индийской, древнегреческой) и мистико-фаталогической. Вот стихотворная ссылка на эти последние:
Если первая из этих строф исправляет нас в Древний Египет вместе с героями платоновского «Тимея», то вторая является аллюзией на «Откровение Иоанна Богослова», дающего христианам числовой код Антихриста и, соответственно, конца истории. Хлебников же надеется изобрести устройство для поимки судьбы, его прельщает сама возможность жалкого зрелища судьбы, пойманной — в мышеловку, испуганно озирающейся на людей (CП, V, 144). Многие исследователи Хлебникова видят причину этой мечты только в неприятии войн и катаклизмов. С этим трудно согласиться. В 1905 году Хлебников не отвергал войну вообще, он отвергал данное поражение, как нечто, чего можно было бы избежать. Войны (даже I мировая), революции (даже 17-го года) являются частными случаями бедствия, “бури” и хаоса рока. Необходимость предотвращать войны, которые в XX веке глобализировались, может быть, самый сильный аргумент за хлебниковскую “веру”, но отнюдь не единственный ее источник. Хлебников — враг хаоса, он стремится построить подобающий мир, основанный на знании судьбы и ее чисел. Представление о таком подобающем мире значит, по Хлебникову, подчинение себя року, а не отрицание его. И хотя на первый взгляд это является чистейшей воды иллюзионизмом, на самом деле число-слово призвано гармонизировать и упорядочить хаотическое сознание современного человека, жестко обуздать слепой рок внутри человеческого “я”. Хлебников попадает в компанию египетских жрецов, их, как указывает традиция, учеников: Пифагора и позднего Платона — а это, если верить некоторым теперешним историкам философии, компания ультра-консерваторов, реакционеров, стремившихся как раз обуздать хаос человеческой природы, в конце концов даже и политическими средствами. Мы знаем, что в случае с Платоном и Хлебниковым это были условно-политические средства — Платон так и не реализовал теорию “государства”, созданную в его грандиозных трактатах, Хлебников не пошел дальше Председателя Земного шара и Государства времени, хотя и сотворил ряд фантастичнейших утопических проектов. Даже Пифагор не увидел при жизни расцвета своего политического союза, по сути дела, “партийной” диктатуры в ряде городов Южной Италии. По-видимому, больше повезло жрецам и магам на Ниле и Евфрате, но там их интеллектуальную аристократию (духовную “меритократию”, выражаясь языком современной социологии) уравновешивала жесткая власть монарха, не всегда и не во всем согласного с их научно-религиозным авторитетом. Недаром Хлебникова привлекал образ фараона Эхнатона (Аменхотепа IV), радикального религиозного реформатора, совместившего в себе роли царя и священника.
Имеет смысл подробнее остановиться на тех значительных параллелях, которые возникают между Хлебниковым и Пифагором Самосским. При этом важно, что Пифагор и пифагореизм в интересующем нас срезе — одна из труднейших и “темнейших” проблем истории греческой философии и религии, круг стопроцентно точных данных по этой проблеме крайне ограничен, в то время как сомнительной и спорной информации более чем достаточно (это общая черта мистико-гипостатических и фаталогических теорий, а также мистики чисел, всегда “тайных”, всегда передаваемых через 3-х лиц и в самом схематичном виде). Тем не менее сумма данных, сообщаемых несколькими древними источниками и упорядочиваемых современными исследователями, достаточна, чтобы восстановить в общих чертах дух мистического учения Пифагора. Почти несомненной является принадлежность пифагореизму учения о переселении душ: „Говорят, он первый заявил, что душа совершает круг неизбежности, чередой облекаясь то в одну, то в другую жизнь”.33![]()
Хотя Хлебников и не закончил курса в Казанском университете, он, как и Пифагор, может считаться математиком (сравните возможную перекрестную оппозицию: Евклид — Лобачевский), Бросается в глаза геометризм этих мировосприятий. Хлебников предлагает понимать силы как степени пространств, исходя из того, что сила есть причина движения точки, движение точки создает прямую, движение прямой создает площадь и т.д. (CП, V, 158). Сходное положение составляет самый фундамент пифагорейской “мистики чисел”! „Начало всего — единица, единице как причине подлежит как вещество неопределенная двоица; из единицы и неопределенной двоицы исходят числа; из чисел — точки, из точек — линии, из них — плоские фигуры; из плоских — объемные фигуры; из них — чувственно-воспринимаемые тела, в которых четыре основы — огонь, вода, земля и воздух ‹...›”34![]()
В I листе «Досок судьбы» Хлебников говорит: Я понял, что время построено на ступенях двух и трех, наименьших четных и нечетных чисел Это дает ему повод увязывать свою теорию с древними суевериями о чете и нечете. Из двух последних хлебниковских цитат видно, что в отличие от Пифагора и Евклида, у него решающую роль приобретает математическая категория степени. Тем не менее сама основа его числовой философии очень близка пифагорейской. Вот что читаем об этой основе у Аристотеля (Метафизика, 985b 27–986а 20):35![]()
![]()
![]()
Это тем более верно, что Хлебников сознательно осваивает и “обживает” в своих работах религиозно-мифологический опыт более древней, чем пифагорейская, и, как передает ряд источников, материнской по отношению к ней традиции. Это судьботворческая и, выражаясь в духе XX века, экзистенциальная в отношении поту — и посюсторонних миров традиция Древнего Египта. Хлебников создает несколько повестей, где фаталогическая теория несистематически развивается вокруг ядра египетской мистики («Ка», «Ка2 », «Скуфья скифа») после ознакомления с переводами оригинальных текстов, а также тогдашней египтологией. В центре хлебниковских построений находится субстанция КА. „Судя по текстам, — пишет в своей обзорной статье М. Коростовцев, — у самих египтян сложилось достаточно противоречивое представление о КА. Неудивительно, что и предполагаемые египтологами определения КА весьма многозначны. Так, согласно Г. Масперо, КА было невидимым двойником человека, его точнейшим подобием, которое рождалось и росло вместе с ним. Напротив, немецкий ученый А. Эрман видел в КА некую жизненную силу, таинственную сущность людей. Бесспорно лишь то, что после смерти тела эту тождетсвенную человеку внешне и по существу субстанцию ожидает вечная жизнь в потустороннем мире”.38![]()
В «Скуфье скифа» автор-персонаж оказывается в стране богов с целью найти Числобога — бога времени.39![]()
Хлебниковские “зачуры” и энергии, каменные бабы и русалки обитают в стране ума как мнимости, как грозные своей готовностью актуализироваться спящие или таящиеся силы бытия. Общность этих таящихся сил — в их невидимом, но реальном участии в жизни. Неизвестно, кто еще участвует, а кто “разделяет” судьбу — скрытые начала мира или видимости. Нам представляется, что для Хлебникова все собственно художественное или мыслимое имело уже и “энергийную” природу. В повести «Ка2 » автор размышляет так: Когда кого-нибудь нет, но его ждут, то он не только увеличивает на единицу число вещественных людей, его не только нет, но он еще и отрицательный человек (СП, V, 127). Из дальнейшего изложения понятно, что к таким любимым, ожидаемым, но отсутствующим относится и отрицательный пришелец с терновником, то есть Иисус Христос. Вот почему, — говорит Хлебников, — я настойчиво хотел увидеть √–1 из человека ‹...›. Образ русалки у позднего Хлебникова обращается, собственно, в некий иератический код — и совпадающий с корнем из нет-единицы, и тем не менее не утрачивающим своей образной природы.40![]()
Мы видим, как глубоко укореняется в одну почву по мере проникновения в смысл «Досок судьбы» числовой и образно-языковой промысел Хлебникова. По сути здесь одна и единая личностная природа реализовала себя в двух неравнозначных областях мира, попыталась построить двууровневый подобающий авторский мир. Числослово — как бы второе имя Велимира Хлебникова. Мир предстал пред ним в свете новооткрытого закона времени в виде множества единиц и двоиц, башни из троек и двоек, связанных прочными узами. В этот период (1921–22 годы) поэт действительно мыслит мир в категориях типа: 3n = смерть, 2n = жизнь, 3n · 2n = гармония, 3m – 2n = борьба (при m > n) (ЦГАЛИ 77:55, цитируется по: Григ. 86, 75), пространство и время описывается как два обратных движения в одном протяжении счета. И тем не менее даже в эту пору Хлебников признает, что, с одной стороны, число не до конца постигаемо, а с другой существуют отношения (в языке), не поддающиеся числу. Одно другому не мешает. Зрелому Хлебникову-числяру предшествует его же собственное убеждение:
Если даже полностью отказывать Хлебникову в мало-мальской общезначимости его аритмологических построений, то можно ли отказать ему в значимости их как самосознания? Ведь он в собственной жизни и в собственной творчестве наблюдал повторы событий — одинокие вспышки творчества — через 2n и противо-события — смену одних установок противоположными — через 3n. Следует обратить внимание, в «Досках судьбы» Хлебников как бы обмолвился об этих чертах повтора и обратности: прошлое вдруг стало прозрачным. Действительно, прошлое. Из дневников и отдельных записей Хлебникова можно вынести впечатление, что он не столько прогнозировал, сколько ретроспективно “упорядочивал” прожитое — как лично собой, так и человечеством. Излишне говорить, что чем более упорядочено прошлое, тем яснее и будущее. Через собственную судьбу, лишь одну среди множества других, но прозрачную им, Велимир только и мог постигать целый мир, промысел которого поэт никогда от нее не отделял. Числословесность Хлебникова даже безотносительно ее “научной” ценности может рассматриваться как выполненный долг перед судьбами мира, как торжество традиционализма, который, в частности, есть сознание себя внутри провидения, самостановление в свете вечности:
В одном из последних своих прозаических произведений «Утес из будущего. Две Троицы» Хлебников приоткрывает канву собственных возможностей уловить судьбу в определенных точках жизни. Эти точки он называет Троицами (что недвусмысленно кивает на ортодоксальное христианство и увязывает самоощущение в хлебниковской фатологии со святоотческой триадологией) и называет их пространственно-временные координаты: Пермская губерния в 1905 году и Халхал в Персии 1921 года. К сожалению, это вряд ли принесет много пользы как литературоведению, так и возможным продолжателям Хлебникова в философии судьбы. Но в единственной работе, где Хлебников развернуто делится планами на этот счет — в «Свояси» — он заявляет о необходимости вести дневники духа, смотреть на себя как на небо и уверен: удача в том, чтобы поймать и вычислить мелькание спиц жизненного колеса.
I. Словотворчество — один из наиболее изученных вопросов велимироведения, хотя решительно преображающие общую картину результаты в этой области исследований были получены только в 80-е годы. Достаточно четко на сегодняшний день определены границы и внутренние принципы двух языкотворческих комплексов: перерожденного (скорненного) русского и открываемого, конструируемого универсального мирового (звездного) языка. В области поэтики словотворчество Хлебникова менее детально изучено и упорядочено. Помимо нескольких четко выделяемых его аспектов существуют в сфере “заумных” языковых средств и такие аспекты (язык заклинаний, язык богов и др.), происхождение которых не вполне объяснено.
2. Авангардная методология Хлебникова с ее совмещением в двуединство мира и иномирия, сведенностью в одной точке транзитивности разноплановых уровней бытия, приближается к принципам образотворчества архаических эпох (слово-талисман, слово — “зачур”) и тяготеет к средневековому принципу иконизма. Эти не только пространственно-временные, но психологически и энергетически “материализованные” точки суть фокусы хлебниковского творчества, создающие его сверхконтекст. Оказывается, что в этих образных точках (точках приложения жизни, решения судьбы) раскрывается существенная, онтологическая связь и связность разных личностей и жизней, осуществляется претворение друг в друга разных уровней бытия как полюсов взаимосозерцания. Данная связь, далее, раскрывается как двуединое объемное самосозерцание мира в этих точках его одухотворенности.
3. Будетлянство Хлебникова неотрывно от его антимодернизма. В основе будетлянства то сознание, что господство прямолинейного аспекта времени над другими аспектами нарушает смысловые связи в природе и истории. Поэтому “новаторство” Хлебникова, изживающее в себе классическую прогрессию, оборачивается последовательной реакцией. Силовые поля Руси и Азии разрывают в нем линейные карты русской классической литературы. Следствием построение моделей мироовладения и мироизменения в иной, традиционалистской системе ценностей и представлений, в которой замкнутые на себе вековые традиции народности и духовности ожили бы во взаимной встрече. Хлебников, приняв на себя революционный разряд диссонирующих русских традиций, стремится как бы искупить их разлад в построении равновесного традиционализма, гармонии и созвучия традиций. Хлебниковская попытка налаживания и слаживания подобающего мира есть попытка земного обустройства всемирного промысла.
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 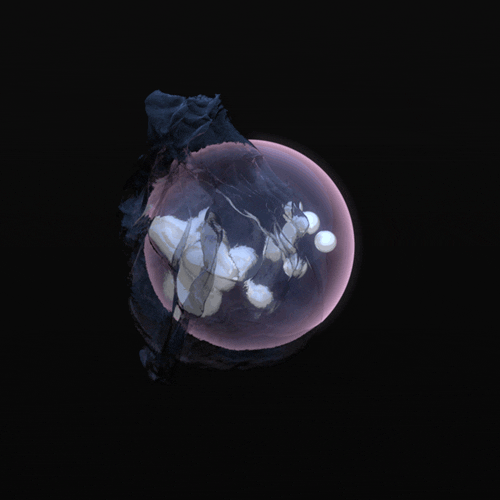 | главная страница |
| свидетельства | исследования | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||