Борис Томсон

Yes, all in all, this busybody with her curiosity about
the void behind her,
has caused quite a lot of trouble for humanity in the past.
Leonid Leonov. The Russian Forest1![]()
 ак правило, двойственное — глубоко почтительное и всеотрицающее — отношение к наследию прошлого, этому ценнейшему сырью для художественной обработки, явным образом в культурной жизни страны Советов не просматривается. При этом двусмысленностей и парадоксов здесь не перечесть именно потому, что занимает эта потаенная дихотомия не бескрылых обывателей, а творцов.
ак правило, двойственное — глубоко почтительное и всеотрицающее — отношение к наследию прошлого, этому ценнейшему сырью для художественной обработки, явным образом в культурной жизни страны Советов не просматривается. При этом двусмысленностей и парадоксов здесь не перечесть именно потому, что занимает эта потаенная дихотомия не бескрылых обывателей, а творцов.Ниже я рассмотрю два произведения, где эта двойственность достигает высот мифа, ибо некоторые особенности изложения и образности уже неотделимы от самой темы.
Уверенности Жреца не разделяет Рабыня: по её мнению, таинственное — необходимый противовес всевластию науки (Я созвучие твоё). Подыгрывая этой логике, Жрец как бы невзначай убивает девушку; пролитие крови вызывает разгул стихии вод. Начинается потоп, Атлантида гибнет, а голова Рабыни высится над водами как мстящая Медуза:
Казалось бы, налицо плод больного воображения. Точно такой же, столь необычный (для Хлебникова) бунт против науки (включая нумерологию) находим и в других произведениях 1912 года («Сердца, прозрачней, чем сосуд», глава «Путешествие на пароходе» «Детей Выдры»);5![]()
Наиболее показательным примером неоднозначного восприятия Хлебниковым прошлого находим в финале его революционной трилогии ноября 1921 года, состоящей из поэм с явно выраженной фабулой: «Ночь перед Советами», «Настоящее» и «Ночной обыск». Названия говорят сами за себя: действие происходит ночью; кроме того, явным образом обозначена временнáя последовательность “до, во время, после”. Каждая часть трилогии посвящена противоборству приверженцев старого порядка и его могильщиков.
В зачине трилогии старая служанка пристаёт с рассказами о пережитом к засыпающей Барыне. Она в полном смысле этого слова истязает слушательницу жизнеописанием своей бабки, принуждённой отнять от груди собственного сына ради хозяйского щенка. Подросший сынок в отместку душит своего молочного брата; юношу секут до полусмерти. Печальная повесть перерастает в поток угроз: Вас завтра повесят! Во второй поэме Великий князь размышляет о насилии первых дней революции, после чего повстанцы врываются, чтобы убить его и обесчестить его дочь.
В каждой поэме прошлое с его знатью (она стара, революция молода), религией, культурой и убеждениями захлёстывает волна возмездия, исторической логике которого соответствует развитие образов. Униженное до предела — борзыми псами своих господ! — простонародье превращается в охотничьих собак; голубые глаза крепостных рабов отливают стальной синевой моря, колыбели революционных матросов.
Но в завершающей трилогию поэме события и образы разворачиваются в противоположном направлении. «Ночной обыск» предварён таинственным эпиграфом 36 + 36. В «Досках судьбы» Хлебников поясняет, что полномочия тройки вынуждают дух времени обратиться вспять, приводя в качестве примера следующее: Царские долги были признаны Советской Россией 6.ХI.1921 г., через 36+ 36 = 1458 дней после начала Советской власти 10.XI.1917 г., когда они были приравнены ничему.;6![]()
Фабула «Ночного обыска» незатейлива: отряд красных матросов обследует квартиру среднего достатка на предмет добычи и „контры”. Сын хозяйки дома Владимир в одного из них стреляет, но промахивается; его хватают, раздевают донага и казнят на глазах у матери и сестры. Матросы мрачно вышучивают имя убитого:
Владимир принимает свою судьбу с молодецкой удалью. Он смеётся в лицо палачу, требуя выстрела наверняка:
Этой неожиданной концовке сопутствует ряд не менее странных изменений в образах: глаза голубые, ранее признак угнетённых крестьян и повстанцев, отданы иконописному Христу (Ты синеглазка деревень). Икона осквернена, но не беспомощна; Хлебников позволяет ей мстить, немотствуя: таков пожар в финале поэмы. Зловещая старуха «Ночи перед Советами», кажется, под занавес «Ночного обыска» вновь даёт о себе знать — на сей раз как поджигательница.14![]()
Щенок здесь отнюдь не былое воплощение насилия и жестокости «Ночи перед Советами»; его воспринимают как жертву, но связывают опять-таки с культурным наследием прошлого. Подобно белому зверю, сокрушаемый проволок ящик издевается над красными моряками; его сравнивают с русалкой, и чуть позже укоризненные глаза иконописного Христа, получившего пулю от Старшого, приводят тому на ум Русалку с туманными могучими глазами.16![]()
Ближе к развязке резко меняется и тон поэмы: от грубой речи, насильственных действий и отрывистых приказов — к безличному повествованию, почти мистическому в своей беспристрастности. И хотя мотив разрушения вскоре, когда пианино (ящик, где воет цуцик, как презрительно замечает кто-то из братвы)17![]()
Очевидно, в какой-то степени поэма посвящена самоубийству революции; образы, изначально связываемые с народом, в итоге оборачиваются против него. И всё-таки на более глубоком уровне она затрагивает именно вопрос культурного наследия. Со всей очевидностью это проявлено в эпиграфе, где говорится о взятии советским правительством на себя долговых обязательств царя — вопиющим предательстве, по мнению Хлебникова. Но далее поэт сам себе противоречит: расстреляный белый зверь и разбитое пианино толкают революционеров на подражание, причём помимо их воли. Читатель с удивлением обнаруживает, что эти, казалось бы, ошельмованные, прóклятые ценности незыблемы.
Ирония Хлебникова раскрывается исподволь, по нарастающей. В первых двух поэмах трилогии представители царской России — преклонных лет, а революционеры молоды; в «Ночном обыске» белый зверь — юноша, а его убийца — видавший виды Старшой (старослужащий). По мнению вожака братвы, убиенный владеет миром (имя Владимир именно это и означает) с точностью до наоборот; при ближайшем рассмотрении насмешка неизмеримо ближе к истине, чем предполагалось: белый зверь и впрямь унёс с собой целый мир культурных и поведенческих наработок. Но почему они оказываются привлекательными до такой степени, что им завидуют? Неужели революция никогда и не освободится от такого рода пережитков прошлого?
«Ночной обыск» Хлебникова не даёт ответа, но своей схематической простотой и моральной многосложностью подлинного мифа отражает двойственное отношение Советской России к своему прошлому. Это смесь любви и зависти, восхищения и ненависти, смутное стремление подражать ему и овладеть им, чтобы уничтожить.
Следы неприятия Багрицким прошлого очевидны ещё в стихотворении «Папиросный коробок» (1927). Поэт прикуривал одну от другой до поздней ночи, и, уже отходя ко сну, бросил взгляд на крышку „раскуренного дочисто коробка” с изображением поэта-декабриста Рылеева. Вглядывание породило ночной кошмар с участием других декабристов. Багрицкий в ужасе пытается прогнать непрошеных гостей, но Рылеев заявляет:
Кошмар усиливается: Багрицкого подвергают порке шпицрутенами, дабы испытал на своей шкуре все прелести царской муштры. Однако с наступлением рассвета привидевшееся оказывается деревьями и кустами. Багрицкий подзывает сына для наставления:
На этой безоговорочной, но не вполне внятной ноте стихотворение обрывается. Ужасы прошлого исчезли с наступлением дня; на их месте здоровая, отчасти даже питательная растительность. Но это не общепринятый образ благотворного и прогрессивного хода истории: плоды (ягоды, не в этом суть) с самого их завязывания осквернены роющимися в омерзительной почве корнями. Там, где советские писатели наперебой с гордостью выставляют себя наследниками декабристов, Багрицкий видит мрак и ужас; отечественная история мнится ему бесконечным кошмаром, которому следует положить конец, если мы хотим, чтобы отродье больных поколений не унаследовало пороки своих предков.
Хлебниковский Старшой каламбурит с именем Владимир (владеет миром); Багрицкий обыгрывает Всевóлода („всем володай”), но придаёт ему прямо противоположный смысл. По Хлебникову, только мёртвые могут сохранить свою культуру; Багрицкий провидит времена, где возможно всё, кроме прошлого. Хлебников вкладывает каламбур в уста вожака братвы ближе к началу поэмы, затем подвергает его сомнению, и, наконец, показывает, что это масло масляное имеет сильнейший привкус иронии: прошлое унесло с собой то, что будущее возжелало слишком поздно; у Багрицкого подобное происходит в последних строках стихотворения, здесь его кульминация и мораль.
Истолкованию прошлого как жути, которой нет места в будущем, Багрицкий отчасти предаётся и в «Происхождении» (1930), и в «Последней ночи» (1932), и в «Человеке предместья» (1932), но именно «Февраль» (1933–1934) представляется попыткой свести счёты с прошлым раз и навсегда.
Строго говоря, поэма эта не закончена (поэт умер от туберкулеза в начале 1934 года); есть данные, что автор намеревался дополнить её несколькими “лирическими отступлениями”. Трудно сказать, насколько бы они обогатили произведение; разбавили — да. В нынешнем виде поэма самодостаточна, её цельность бесспорна.
Действие «Февраля» разворачивается в Одессе, куда герой-рассказчик вернулся в разгар Первой мировой как отпускник. Последующее распадается на три самостоятельных эпизода. В первом герой пытается привлечь внимание девушки, о которой давно безнадёжно мечтает, но получает унизительный отказ. Далее изложены события Февральской революции и непосредственно после неё; герой принимает участие в штурме полицейского участка, а с установлением новой власти сам становится блюстителем порядка. В заключительном эпизоде он возглавляет отряд, обыскивающий бандитский притон; оказывается, это ещё и бордель, где герой обнаруживает девушку своей мечты в постели с офицером. Он арестовывает его, выпроваживает своих людей из комнаты, а затем насилует эту шлюху. Поэма заканчивается попытками героя разобраться в своих поступках.
Финал необычайно силён, что неудивительно: описан случай из жизни самого Багрицкого вскоре после Октябрьской революции:
В «Феврале» объединены две две совершенно разные темы: безнадёжная и завистливая любовь подростка и отождествление его с революцией, которая уничтожит общество, убившее эту любовь; в заключительном эпизоде они оказываются двумя сторонами одной медали. Связующее звено — подмоченная репутация культуры прошлого: внешне бесконечно красивая и желанная, девушка в конце концов оказывается шлюхой в офицерском борделе, Венерой городского предместья. Попытка героя “овладеть” ей, дабы “подчинить” — аллегория отношения революции к этому сомнительному наследию.
С первых строк рассказчик предстаёт изгоем, до ужаса неуверенным в себе. Он еврей, как и Багрицкий, который сменил свою настоящую фамилию Дзюбин на что-то более “краснознаменное” (корень багр- слова ‘багровый’). Его детство, как часто бывает в автобиографических произведениях Багрицкого, изображено несчастным, подневольным и безлюбым:
Но столь жалостливый к себе рассказчик с отвращением осознаёт, что искалечила его не обездоленность, а внутренний порок: отсутствие уверенности в себе и сноровки, как социальной, так и сексуальной. Он объясняет это с кислой миной отвращения к себе и зависти к другим:
Застенчивый и одинокий в детстве, он становится страстным птицеловом (опять-таки подобно Багрицкому), у него громадная библиотека и целый хор певчих птиц; на протяжении всей поэмы орнитологические образы обозначают лёгкое и радостное существование, где бытовые трудности не досаждают или грозят непристностями. Как правило, во время попыток вообразить своё идеальное будущее он представляет себе что-то детское, но это не возвышенная мечта, а лишь воспоминание:
Тяга рассказчика к домашнему уюту (и подчёркнутая неприязнь к яркому свету) проявляется вновь и вновь на протяжении всего «Февраля». Можно было бы ожидать, что такого рода ценности будут осуждены как ностальгические, буржуазные или, по крайней мере, некоммунистические; но нет! именно это должно быть однажды восстановлено, с той разницей, что изгои окажутся победителями, со всеми вытекающими самообладанием, силой и авторитетом.
Вернувшись с фронта, герой сидит на Одесском бульваре в своей военной форме, надеясь, что наконец-то его впустят в магический круг, из которого он был исключен:
Пребыванием на фронте он заслужил (по крайней мере, в его собственных глазах) очевидное право на равенство с этими более удачливыми гражданами. Но он всё ещё не “равный” им, а лишь “как равный”; причём оглядка на старшего по званию заставляет усомниться даже в этом.
Точно так же всепроникающая оценка повадок спутников девушки лишь подчёркивает его отщепенство:
Все разочарования его юности, его несчастное детство и бедняцкое происхождение, его чувство оторванности от „мира, в котором люди играют в теннис, пьют оранжад и целуют женщин”,26![]()
На мгновение кажется, что личное разочарование рассказчика переходит в социальный протест. Недостижимый мир красоты и роскоши, олицетворяемый красивой девушкой, связан, по всей видимости, с неприступностью правящей касты; слова „царство” и „Святое Писание” превращают городового в символ власти и авторитета имперской России. Девушка, которую вожделеет герой «Февраля», отождествляется со всем, что он ненавидит. Одновременно угадывается не столько социальный протест, сколько замаскированное под него разочарование; именно Я поэмы описывает сцену, и последние полторы строки, намеренно оторванные от остальных, непредвзятыми не назовёшь (рассказчик наблюдает городового издали); они выглядят как запоздалое оскорбление, брошенное с безопасного расстояния и тишком. Здесь воедино слиты бунтарь и культура, которую он любит и ненавидит.
Второй эпизод переходит в историческую и политическую плоскость. Он открывается восторженным сумбуром политического митинга:
Тело героя переполнено “мужественностью”, но второе значение этого слова, ‘стойкость’, здесь не просматривается; речь о мужании. Однако детские выходки с прикладом винтовки и головным убором очевидным образом сводят эти потуги на нет. Создаётся впечатление, что рассказчик действует с оглядкой: „Так ли ведут себя настоящие победители?”.
Революционеры захватывают полицейский участок, не встречая ни малейшего сопротивления. Более того, полицейский начальник рассыпается в любезностях:
Издевательская вежливость полицейского чина уверенности новым правителям, как то следует из ломаного ритма, резких смен тона — от смущения пачканием ковров до грубых приказов и явной бесцельности действий после захвата власти — поубавила. Каким-то образом тайна старого режима ускользнула от них. Делегаты комитета, судя по всему, не совсем “в своей тарелке”, в глубине души понимают, что они скорее пленники, нежели хозяева: двери за ними закрыты, кипяток из арестантского чайника. Общество перевёрнуто с ног на голову, бывшие владельцы изгнаны, и всё-таки новые хозяева изображены как скваттеры; победное заверение последней строки шибает иронией из-за тривиальности самого действа — чаепития. Подобно финалу «Ночного обыска», революционеры, кажется, добились всего, кроме желаемого.
Устанавливается новый режим, и рассказчик становится товарищем местного комиссара. Обладая видимыми знаками власти, он желает, чтобы его угнетённые еврейские предки полюбовались им в час триумфа. Но эта потребность оправдать себя вызовом прошлому разбивает вдребезги все его потуги казаться зрелым и уверенным в себе. Он получил свободу, но лишь затем, чтобы снова попасть в плен:
В заключительном и кульминационном эпизоде рассказчик и его и его люди обыскивают дом, хозяева которого подозреваются в укрывательстве бандитов. Сцена, где герой Багрицкого врывается в дом, как две капли воды похожа на захват полицейского участка: та же смесь робости, самокопания, унизительного восхищения и жестокого насилия:
Но вот один из матросов узнает в офицерах бандитов, которые находятся в розыске, и заставляет их поднять руки. Затем революционеры приступают к осмотру дома и обнаруживают, что это бордель. В одной из комнат находят девушку мечты рассказчика голой в постели, а рядом с ней мужчину в нижнем белье. Он выхватывает браунинг, а затем лукаво подмигивает: „Ой, здесь целый флот! Из этой пушки / Всех не перекокаешь. Я сдался...”35![]()
Два обличья старого мира сливаются в одно: буржуазное гнёздышко на поверку оказывается логовом бандитов и лежбищем проституток, но при этом сохраняет весь свой лоск и видимость культурного превосходства. Именно в этом стилистический контраст между благовоспитанной капитуляцией подмигивающего офицера и неуклюжей повадкой победоносных революционеров. Как и в «Ночном обыске», даже проиграв, господа оказываются хозяевами положения; как это им удаётся — тайна за семью печатями.
Имеет ли простонародье право на её разгадку? Этим вопросом поэт задаётся в финале поэмы. Его герой бросает девушке вызов:
Эти три раздела обозначают точки перелома в осознании героем того, что произошло во время „сеанса”, в них кратко изложены и главные темы поэмы, и основные подходы к дилемме культурного наследия.
На первом этапе рассказчик стремится просто овладеть и унизить; его действия брутально жестоки. Если ваша богиня изначально была шлюхой, вы имеете полное право соответственно с ней обойтись, не так ли. В такого рода соитии нет никакой “тайны”, над разгадкой которой стóит биться. Но сама грубость овладения ввергает рассказчика в ту же ловушку, что и прежде. Всё так же далекий от власти над прошлым, он начинает задаваться вопросом, не был ли он им одержим; возникает подозрение, что его всасывает и пожирает мрак отчаяния. Так ли уж велика разница между его поступком и действиями предшественников?
На втором этапе настроение резко меняется: от действия к самокопанию, от самоутверенности к угрызениям совести, от насилия едва ли не к мольбе. Даже слово „мщение” настолько размыто „застенчивостью” и „робостью” первых двух строк, что попахивает бессилием. Переход происходит прямо-таки скачком: гений чудной красоты оказался в сговоре с классовым врагом, а герою приходится чуть ли не извиняться за свой гнев. Он впервые обращается к ней на “ты”, причём без оттенка насмешки или презрения.
В финале положение дел меняется на противоположное, то есть восстанавливается в первоначальном виде. Рассказчик снова обращается к девушке тоном робкого влюблённого: „принимай меня”, „может быть”. Каким бы ненавистным ни был старый мир, герой полон желания восстановить status quo. Но почему этот вчерахарь называет девушку пустыней? Вспомним, что на протяжении всей поэмы этот идеал изображается как потаенный сад изящества и красоты, уверенности в себе и хорошего вкуса, который герой вновь и вновь топчет своими грязными сапогами. Культура, эта шлюха высшего разряда, должна только открыться простонародью, и всё будет прощено. Пустыня — это разгул бескультурья после революции. Чтобы приносить плоды, древо старой культуры не нуждаются в настоящем; это настоящее нуждается в нём.
Но мы знаем, что Багрицкий на самом деле оказался паинькой, до изнасилования культурного наследия дело не дошло. Разве это не поступок здравомыслящего человека? Выдуманный эпизод оказывается, „так сказать, разрывом с прошлым, сведением с ним счётов”; странно, что Багрицкий почувствовал необходимость присочинить изнасилование, а „полный разрыв” выставил отчаянной мольбой о преемственности. При чём здесь тогда “овладение | обладание” женщиной с пониженной социальной ответственностью? В «Ночном обыске» братва постепенно и нехотя признаёт моральное превосходство классового врага. В «Феврале» они отбрасываются одно за другим, остаётся пустое место, но “голая королева” по-прежнему на высоте положения.
Если в произведениях других советских писателей образованный и благополучный герой часто (и тщетно) пытается „влить старое вино в новые мехи” женитьбой на неграмотной крестьянке, то у Багрицкого бездомный отщепенец пытается обелить своё незавидное прошлое, насилуя буржуазную девушку в офицерском борделе. Череда “осад” предмета обожания — иносказание меняющегося отношения поколения революционеров к наследию прошлого: беспощадная атака → завистливые стремления и самооправдания разочарованного изгоя → робкая надежда на то, что вместе они могли бы улучшить генофонд. Отчасти из-за этого идиллия последних двух строк поэмы столь неубедительна. Понять ливни, ветер — и среди этого разгула стихии брачующихся птиц — иначе, как уход от действительности ради самозащиты, нельзя. Столь желанное обновление здесь не просматривается, мечта рассказчика как была, так и осталась фата-морганой.
Там чудеса: там леший бродит.
А.С. Пушкин. Руслан и Людмила
Но, порубанный саблей,
Он на землою упал.
Е. Долматовский. За фабричной заставой...
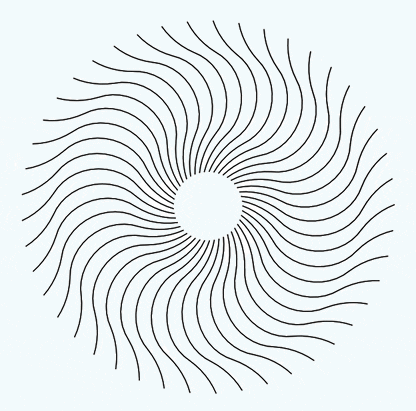 , каких трудов стоило Йосипу Ужаревичу (род. 1953) исполнить данное мною тебе, любезный читатель, обещание! А именно:
, каких трудов стоило Йосипу Ужаревичу (род. 1953) исполнить данное мною тебе, любезный читатель, обещание! А именно:И вот Борис Томсон перед тобой — как лист, он же Сивка-Бурка, перед травой.
Но предварительно перед моей Галиной Николаевной. Потому что умом Россию не понять: у нас Галочка с маленькой буквы мужает в указующий крыжик. Подписано — и с плеч долой. А вы справьтесь у Ивана Антоновича Кувшинное Рыло, справьтесь.
— Ну как?
— По головке не погладят.
— За что?
— За ужимки и прыжки. Снегурочка допрыгалась, и тебе неймётся. Кто куда, а я сухари сушить.
Простой вопрос: насылался Молотилов одарить велимирян дальнейшим Р.Д.Б. Томсоном? Насылался. И вот дальнейший Томсон перед тобой, как лист перед травой. Ты просто мимо проходил, и вдруг такая честь! Вот и ответь мне, почтеннейший, нанимался этот Сивка-Бурка обратно в сказку, сделанную Йосипом Ужаревичем былью? Нет? Стало быть, крыжик побоку. У моей вводной попрыгуньи, кстати говоря, штанишки зелёного, как знамя пророка (да благословит его Аллах и приветствует) цвета. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А государственному гербу хоть бы хны. За что привлекать-то? За наглядное пособие торжества самодержавия и народности?
Другое дело, почему я не дал обратный перевод извлечения из «Русского леса». А потому не дал, что ничего, хотя бы отдалённо похожего, по ссылке не найдено (говорят, не родился ещё человек, осиливший «Русский лес» от корки до корки; не верьте: Boris Thomson. Art of Compromise: The life and work of Leonid Leonov. Toronto. 2001).
Обратный перевод Леонида Леонова из предварения статьи досконального знатока его творчества таков:
И вот я на портале imwerden.de заимствую девятый том pdf-собрания сочинений Леонида Леонова с распознанным слоем и вбиваю в строку поиска одно за другим ключевые слова ‘озабочен’, ‘позади’, ‘пустот’, ‘проблем’, ‘неприятност’ и ‘человечеств’. Все шесть раз невод приходит даже не с тиной, а с пеной, в которую твой покорный слуга загнал поисковик. Вывод: Борис Джонсон потому и не Р.Д.Б., что шифруется. Есть что скрывать о местах, где стяжал (стяжает?) пропитание телесное.
Или так: на imwerden.de висит не то собрание сочинений. По многотомникам Леонид Леонов уест любого: 1959, 1969 и далее везде. Причём «Русский лес» бывал с дополнениями и без. На портале же борца с изводом русского леса на вываренные в щёлочи трупы берёз Андрея Никитина-Перенского собрание 1984 года. Ясно, что дальнейший Томсон (1978) извлекал пустоту позади России (а кого ж ещё) из предыдущего десятитомника. Беру назад измышления о работе г-на Томсона в аналитическом отделе MI-6. Готово: ни суд в Гааге, ни отечественные правоохранители к Молотилову не прикопаются.
Но больная-то совесть, а? Больная-то совесть? Решено, исповедуюсь. Во-первых, никогда не был и не буду согласен с выводами предыдущего (о ту пору Р.Д.Б.) Томсона в изложении Рэймонда Кука, его преемника и глашатая:
Во-вторых — и это главное — назови-ка мне соперников Эдуарда Багрицкого (Дзюбина) по части различения запахов. Поэтическое чутьё отставить: носовой нюх. Не было, нет и не будет равных!
Известны великие наблюдатели, великие словознатцы, великие словотворцы, великие острословы и так далее. Иной раз эти Гулливеры ходят парами (братья Гонкуры, Ильф и Петров), бывает даже, что толпой (Козьма Прутков). Великий нюхач один, как вилочковая железа или мочевой пузырь: еврейский советский поэт Эдуард Багрицкий (Дзюбин).
Шибануло такой затхлостью, что только держись, да? Говяжий язык Союза писателей, он самый. Подрастающее поколение понятия не имеет, на каком шестке полвека рядышком сиживали Александр Блок, Велимир Хлебников и Сергей Есенин. Русские советские поэты, согласно буквам на бирочке. Шестком выше — советские поэты Маяковский, Сельвинский, Твардовский, Исаковский, Вознесенский, Рождественский, Бердичевский (Кедров).
Мне возразят: Осип Мандельштам сам назвал себя человеком эпохи Московшвея, однако советским поэтом не считается. То же самое Борис Пастернак. И ведь другой такой страны не знали, в отличие от Иосифа Бродского. А Михаил Светлов только советским поэтом и остался, хотя тоже еврей.
Всех карт раскрывать не буду, но зайду с козырей: еврейских советских поэтов всего двое, Уткин и Багрицкий. Уткинского Мотэле придержу до удобного случая, поговорим о несусветном нюхе Багрицкого (Дзюбина).
Итак, обмазанный селёдкой рот («Признание») и мужское семя на пудре («Февраль»). Не стошнило? Да ты Ноздрёв, дружок!
| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||