



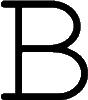 старом Петербурге, у Николаевского вокзала, в здании Хлебной биржи выступали футуристы. С ними был молодой тогда Виктор Шкловский, который говорил о поэзии и заумном языке.
старом Петербурге, у Николаевского вокзала, в здании Хлебной биржи выступали футуристы. С ними был молодой тогда Виктор Шкловский, который говорил о поэзии и заумном языке.Но заумный язык — это умный язык.
Ругательствами и криками встречало своё будущее прошлое. Мы никогда не знаем, в какой одежде оно придёт.
И только спокойный, выдержанный академик Бодуэн де Куртенэ, пришедший на наш диспут о заумном слове, сказал мне, когда мы остались наедине:
— Что касается вас, то я могу сказать только одно: у вас есть окна, ведущие к истине.
И вот я обращаюсь к вам через это окно.
Что я думаю сейчас, 70 лет спустя, о заумном языке?
Я думаю, что мы так до конца его и не смогли разгадать. Выучить его трудно. Но понять надо. Прежде всего — это не язык бессмысленный. Даже когда он намеренно лишался смысла, он был своеобразной формой отрицания мира. В этом он чем-то близок “театру абсурда”.
Трудно говорить о заумном языке вообще. Были разные поэты, и у каждого был свой ум и своя заумь. Был Хлебников, и Каменский, и Кручёных... И у каждого был свой заумный язык.
Что мне сейчас кажется особенно интересным в зауми? Это то, что поэты-футуристы пытались выразить своё ощущение мира, как бы минуя сложившиеся языковые системы. Ощущение мира — не языковое. Заумный язык — это язык пред-вдохновения, это шевелящийся хаос поэзии, это до-книжный, до-словесный хаос, из которого всё рождается и в который всё уходит.
И Хлебников говорил мне, что поэзия выше слова.
Заумники пытались воспроизвести этот копошащийся хаос пред-слов, пред-языка. И в строгом смысле слова, заумный язык — не язык, а пред-язык.
Ребёнок рождается с криком прародителей. Крик, не расчлененный на слова, бормотание — это язык ощупывания мира, нашаривания его. Ощупывая мир звуком, мы наталкиваемся на предметы, обозначаем их определёнными звуками.
И на каком языке говорит мать с ребёнком? Они понимают друг друга, хотя их слова — до-слова. Обезьяна на дереве, наш — и мой — далёкий предок, кричит о чём-то своём, она докричалась, в конце концов, до языка.
Песня рождается, когда человек открывает глаза, когда он видит мир таким, каким его никто раньше не видел. Он видит мир странным, новым. Я не боюсь, как видите, повторения, и опять повторю, что искусство остранняет мир. Художник видит мир не через язык, он видит его не опутанным, как сетью, языком.
Так я вижу из своего окна.
Маяковский писал, что рождению стихотворения предшествует какой-то гул, гул нерасчлененных слов; слова, точнее, — недо-слова, поднимаются со дна сознания, из нашей памяти, памяти наших предков, кричавших на дереве о чём-то, им ещё не понятном.
Заумники открыли дверь этим словам.
Так кажется мне, Виктору Шкловскому, даже не учёному, а недоучившемуся студенту, который делал много открытий и закрытий. И вот мне уже 90 лет, а я всё не могу договориться.
Поэзия, оформляясь в словах, получает новую жизнь, она словно переводится на другой язык. Это происходит и с заумным языком, он попадает в другую систему. Эта система поэтическая, художественная, условная.
Заумь исполнила свою роль в поэзии: вернула ей утраченную первобытную образность, остраннив язык до полного уничтожения его автоматизма.
Звуки в стихотворении должны ощущаться почти физиологически. Мы пережёвываем слово, замедляем его. Это танец, это движение рта, щёк, языка и даже пищевода, лёгких. Футуризм вернул языку ощутимость. Он дал почувствовать в слове его до-словесное происхождение. Я писал в «Третьей фабрике»: „Как будто обвалился берег, слои стали видны, и из-под глины лез, отгоняя собак, живой мамонт”.
Заумь существовала в языке, в поэзии, в человеческой культуре всегда. В моей старой статье много подобрано примеров из языков сектантов, из детского фольклора. Это как бы две державы, две страны в поэзии, заумная и умная поэзия, которые должны мирно сосуществовать. Поэт — путешественник, он берёт и там, и там, он постоянно движется, как челнок, он прыгает на натянутом между этими странами канате.
Эти страны существуют одна за счёт другой, опираясь и поддерживая друг друга. И часть границы между ними условна — межевые столбы передвигаются то в одну, то в другую сторону.
И сейчас учёные, занимающиеся расшифровкой языка хлыстовских радений, обнаружили, что он имеет санскритские корни. И задолго до этого мне говорил Евгений Дмитриевич Поливанов, что в языке сектантов часто обнаруживаются слова другого, исторически родственного, языка.
Этого я не знал ещё, когда писал свою молодую статью «О поэзии и заумном языке». От неё я не отказываюсь, она мне нравится и сейчас, но кое-что, конечно, надо уточнить.
Хлебников пришёл в поэзию из далёкой страны. Родился он в устье Волги, там, где жили когда-то таинственные племена хазаров. Они исчезли, и теперь их не могут найти. Выяснилось, что уровень Каспия колебался, вода то поднималась, то опускалась, поглощая города и сёла. На выдохе Истории из-под воды показываются исчезнувшие культуры.
Мне часто кажется, что сам Хлебников и был пришедшим из далёкого прошлого хазаром.
История живёт в нас. И нами двигается, дышит. Вдох и выдох — это движение Истории.
Футуристов упрекали в том, что они отказываются от содержания. Но орнамент — разве он бессодержателен? А музыка? Она кажется умонепостигаемой, чистейшей заумью. Но это иные формы, иные способы передачи информации.
Язык предсказаний часто тёмен и непонятен. Шаман, который крутится, ища вдохновения, хлысты, чувствующие его приближение, кричащие: „Накатил! Накатил!” — они говорят на иных языках.
И я никак не могу кончить, всё кручусь, кручусь, и говорю, кажется, невнятно и путано.
Заумный язык ещё надо расшифровать, как расшифровывают языки хлыстовских радений учёные-лингвисты, надо ещё разгадывать этот тёмный язык предсказаний, пророчеств.
Даром пророка обладал Хлебников. Он мог предсказать революцию. Его слово ‘летчик’ казалось заумным. Но лётчик Каменский поднимался в небо, Татлин строил «Летатлин»... Это казалось безумием. Но скорее мир вдруг обезумел. Заумь — это то, что ещё находится за пределами нашего ума, то, что мы пока понять не можем. Пока...
В Библии рассказывается, как апостолов посетил святой дух, и они вдруг заговорили на разных языках.
Поэзия разноязычна.
Я хочу сказать ещё о предсказаниях, которые воплощаются. Я старый человек и дожил до того, до чего многие мои друзья не дожили и чего увидеть они не могут.
Начну издалека. Платон в своем диалоге «Федр» выступает против письменности. Он говорит, что она ничем не обогащает человека, служит только для закрепления уже придуманного, найденного человеческой мыслью. Этот спор продолжается и поныне: спор о смысле и значении устной и письменной культур.
История пошла мимо Платона. Человечество изобрело книгопечатание, литеру. Само слово ‘литература’ происходит от слова ‘литера’. Слово, живое, устное слово, спряталось за букву, потом — за литеру.
Футуризм хотел вернуть миру звучание, он хотел „воскресить слово”.
Для того, чтобы человек, потерявший возможность говорить, мог заговорить снова, ему нужно сильное потрясение. Или нужно рассечь какой-то центр в его мозгу. И бывает так, что человек начинает говорить — бессвязно, быстро, непонятно — ещё на операционном столе.
Футуризм — это восстание, бунт против письменной культуры.
Заумный язык — многоязычен. А я пытаюсь обо всём сказать на нескольких страничках. Я говорю, а мои слова прячутся за буквы, потом их покроют литеры, как кольчуга тело воина. Она предохраняет от ударов, но двигаться и дышать в ней неудобно.
Сейчас много пишут о конце “письменной культуры”, начале эры новых коммуникаций, не основанных на письменности. Я вряд ли доживу до этого времени. Я видел рождение кино, рождение телевидения. Они выросли на моих глазах. Я убеждён, что с их дальнейшим развитием культура человечества будет сильно меняться. Не знаю, умрёт ли письменность. Ведь она не убила живого слова, а только сильно его потеснила. Не надо забывать о прошлом. Наступление этой новой эры, мне кажется, провозгласили ещё футуристы-заумники. Они тоже искали новых способов передачи информации в нашем до-языковом прошлом, в создании новых языков, или даже — в отказе от языка (Гнедов). Но ведь и это — поиск нового языка.
... Я помню, как выступали футуристы, футуристы — друзья будущего. Батюшков называл надежду — памятью о будущем. Будем помнить наше будущее, будем чаще вспоминать прошлое. Футуристы открывали окна в будущее.
Люди долго искали истоки Нила. Нил берёт свое начало в снегах, лежащих на высоких горах, начало его вод — не вода.
Надо додумывать свои мысли, надо досказывать невысказанное, надо уметь слушать и слышать. Будущее приходит неожиданно.
——————————
| В.Б. Шкловский. О поэзии и заумном языке | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Персональная страница А.Е. Кручёных | ||