

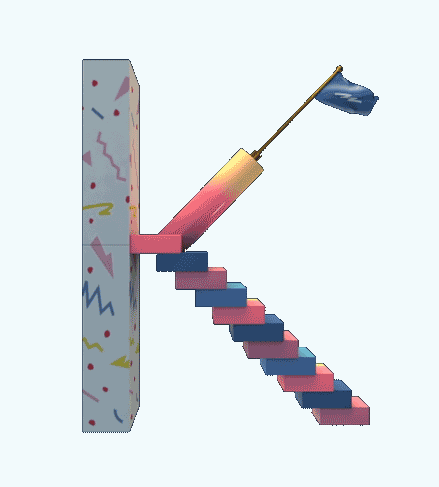 ак ни хотелось бы к 100-летию со дня рождения поэта, что называется, подвести некоторые итоги критического и научного освоения его творческого наследия, делать это сейчас, по-видимому, ещё рано. И не потому, что итогов этих нет, а потому, что они по большей части отрицательные. У нас до сих пор нет авторитетного издания даже основных художественных произведений Хлебникова, а значительная часть его литературного и научного наследия остаётся неизданной, так что мы просто плохо представляем себе весь его объём и богатство. У нас нет не только научной, но даже популярной биографии поэта. У нас нет ни одной сколько-нибудь обобщающей работы ни по одному из аспектов его творчества. И т.д. Так что положение хлебниковедения в год 100-летия поэта несколько напоминает один комедийный замысел Маяковского, где приблизительно так приглашают в гости: приходите, Ивановых не будет, непременно приходите, Петровых тоже не будет.
ак ни хотелось бы к 100-летию со дня рождения поэта, что называется, подвести некоторые итоги критического и научного освоения его творческого наследия, делать это сейчас, по-видимому, ещё рано. И не потому, что итогов этих нет, а потому, что они по большей части отрицательные. У нас до сих пор нет авторитетного издания даже основных художественных произведений Хлебникова, а значительная часть его литературного и научного наследия остаётся неизданной, так что мы просто плохо представляем себе весь его объём и богатство. У нас нет не только научной, но даже популярной биографии поэта. У нас нет ни одной сколько-нибудь обобщающей работы ни по одному из аспектов его творчества. И т.д. Так что положение хлебниковедения в год 100-летия поэта несколько напоминает один комедийный замысел Маяковского, где приблизительно так приглашают в гости: приходите, Ивановых не будет, непременно приходите, Петровых тоже не будет.И всё же положение нельзя считать безнадёжным, скорее наоборот, его, на мой взгляд, можно назвать обнадёживающим, хотя бы потому, что вопрос об отрицательных итогах вовсе и не вставал бы, если бы у нас не было по меньшей мере одного первостепенной важности положительного итога. Он относится не к области литературоведения, а к области общекультурной и заключается в том, что непосредственный читательский и поэтический интерес к творчеству Хлебникова в последние десятилетия неуклонно возрастает и на наших глазах становится не просто интересом, а настоятельной потребностью. Есть, по-видимому, своя закономерность в том, что из всего поэтического созвездия начала века Хлебников как противоречивое, спорное, живое явление последним входит в наше актуальное эстетическое сознание. В 60–70-х годах мы пережили несколько таких эпох, когда заново был открыт целый ряд крупнейших поэтов нашего бурного столетия. Теперь очередь за Хлебниковым.
Он входит медленно и трудно, лишь постепенно освобождаясь от множества предрассудков и прямо каких-то суеверий, до сих пор окружающих его имя, но, кажется, прочно занимает своё место в литературной перспективе нашего века, за которой вырисовывается и перспектива всей русской литературы.
И с такой точки зрения лучше говорить не об итогах, а о перспективах научно-критического освоения Хлебникова. Правда, нельзя сказать, чтобы в последнее время не было значительных, основательных или, во всяком случае, по-разному интересных и поучительных работ о Хлебникове как в нашей стране, так и за рубежом, Из советских исследователей можно назвать работы В. Альфонсова, В. Григорьева, Вяч.Вс. Иванова, К. Кедрова, А. Костецкого, М. Панова, А. Панченко, З. Паперного, А. Парниса, О. Седаковой, Э. Слининой, И. Смирнова, Н.Л. Степанова, В. Струнина, П. Тартаковского, В. Турбина, А. Урбана, Б. Успенского, Н. Харджиева.1![]()
Вот это и есть то общее, что отличает наиболее интересные из новейших работ о Хлебникове. Это не результаты, а подходы и подступы. Именно так — «Подступы к Хлебникову», кстати сказать, называлось первое научное исследование, написанное Р. Якобсоном в качестве предисловия к предполагавшемуся собранию сочинений Хлебникова в 1919 году.2![]()
Тем не менее, лучшей общей работой о Хлебникове, непревзойдённой по проницательности и цельности видения поэта, до сих пор остаётся предисловие Ю. Тынянова к первому тому Собрания произведений Хлебникова (1928), и с этим тоже вряд ли кто-нибудь станет спорить. А лучшим и, собственно, единственным адекватным изданием Хлебникова до сих пор остается том «Неизданных произведений» (М. 1940), подготовленный Т. Грицем и Н. Харджиевым. Этим изданием, а также другими работами Н. Харджиева, были заложены текстологические и историко-литературные основы хлебниковедения. Том «Неизданные произведения», несмотря на имеющиеся в нём недочёты, неизбежные при работе с материалом такой сложности, представляет собой не только образцовое издание, но и является также своего рода задачей и перспективой, демонстрируя те принципы, в соответствии с которыми должно быть издано всё творческое наследие Хлебникова.
В этом состоит ближайшая и самая насущная задача. И пока она не будет решена, мы неизбежно будем топтаться на подступах к поэту.
Ряд изданий, подготовленных к 100-летию Хлебникова,3![]()
И хотя все тексты печатаются по рукописям и первопечатным источникам, многочисленные ошибки и искажения хлебниковских текстов исправлены, и читатели в ряде случаев впервые получат подлинный текст произведений, всё же здесь нарушен основной текстологический принцип, в соответствии с которым популярным и массовым изданиям должно предшествовать издание научное, где все тексты имеют подробное и строгое обоснование.
Дело идёт не о каких-то отвлечённых проблемах текстологии, имеющих сугубо академический интерес. Напротив, дело тут как раз в самых необходимых и простых условиях адекватного чтения и понимания поэтического текста. С такого понимания и начинается всякое культурное освоение писателя.
Возьмём такой пример. В критических работах о Хлебникове (их нет необходимости называть) нередко приводятся его строки:
Какая же из двух взаимоисключающих точек зрения принадлежит собственно Хлебникову? И если обе, то не свидетельствует ли это о безнадёжной противоречивости его мировоззрения? Решить такие вопросы мы сможем лишь тогда, когда поймём весь строй этой поэмы. Сделать это на первый взгляд нетрудно, так как она имеет подзаголовок «Разговор», и мы легко догадываемся, что перед нами диалог юноши и старика. Но тут-то и начинаются настоящие трудности. Текст поэмы не разделён на реплики, и невозможно с полной уверенностью заключить, где кончаются речи юноши и начинаются речи старика и наоборот. Лишь только как будто начинает угадываться какая-то нить диалога, как она тут же рвётся и путается. Из этого можно было бы сделать вывод (что нередко и делается) о какой-то изначальной и непреодолимой хаотичности Хлебникова.
На самом деле причина всех этих недоразумений и ложных выводов — в том состоянии текста, который дошёл до нас. Рукопись поэмы не сохранилась, и единственным источником текста является сборник «Рыкающий Парнас» (СПб. 1914), где поэма была впервые напечатана в составе 5-го паруса сверхповести Хлебникова «Дети Выдры», и откуда она была совершенно некритически перепечатана в Собрании произведений.4![]()
![]()
Поэма написана в жанре философского диалога, где два собеседника, плывущие на пароходе (образ которого навеян гибелью «Титаника» в 1912 году, который выступает здесь символом всей современной поэту цивилизации), представляют не просто две противоположные точки зрения, но и их необходимое диалектическое движение. Точки зрения юноши и старика противоположны и едины, как един и противоположен один и тот же человек в юности и старости. Отсюда уже можно понять и точку зрения самого поэта, который говорит о том, что движение человечества вперёд невозможно без возвращения назад, к его первоначалам и первоистокам, и что будущее начинается в прошлом. Поэтому, читая поэму, мы видим, как поэт прямо протягивает предупреждающую руку нам в сегодняшний день:
Таков, как представляется, наиболее перспективный путь современного освоения Хлебникова. Без надёжного и полного издания его произведений невозможно полноценное восприятие его художественной мысли, но, очевидно, никакое адекватное издание невозможно без предварительного текстологического вчитывания и вдумывания, а в ряде случаев и восстановления, так сказать, подлинной плоти этой мысли.
Если говорить о том, как сейчас рисуется образ Хлебникова не только в научно-критическом, но и в читательском и в поэтическом восприятии, то есть в целом в перспективе всей современной поэтической культуры, то лучше всего, пожалуй, его можно было бы очертить двумя высказываниями Блока. Одно относится к 1913 году, когда после первых выступлений будетлян он записал в дневнике: „Подозреваю, что значителен Хлебников”.6![]()
Поэтому и настоящая статья имеет не итоговый и совсем не юбилейный характер, речь в ней идёт о поэзии Хлебникова, так сказать, в рабочем порядке и в перспективе предстоящих исследований. Ничуть не рассчитывая на полноту и окончательность, а лишь в качестве постановки задачи, попробуем ответить на три вопроса, относящихся к разряду основных, то есть самых простых и самых трудных, сформулировав их по возможности более определённо: каково главное событие творческой судьбы Хлебникова? каково центральное его произведение? и каков его магистральный сюжет?
Очевидно, что все они являются необходимыми подступами к вопросу об основном смысле хлебниковского творчества.
Но прежде всего спросим себя, можем ли мы вообще ставить такие вопросы? Можем ли мы, в частности, начинать с вопроса о главном событии в судьбе поэта, о таком событии, которое определяло бы важнейшее содержание его жизни и указывало бы направление его художественной мысли? Говоря вообще, такой подход может оказаться ложным, потому что не во всех случаях вправе мы задавать такие вопросы и, тем более, не всегда можем их разрешить. Однако в отношении Хлебникова они становятся не только возможными, но и необходимыми. Этого требует особый, событийный характер его эпохи, этого требует и весь состав его мироощущения и весь строй его мысли. Даже самого общего представления о творчестве и личности Хлебникова достаточно, чтобы увидеть, что ему самому как раз свойственно было задавать такие главные вопросы: что есть история и природа? что есть пространство и время? что есть число и слово? что есть смерть и судьба? что есть, наконец, человек и его творчество?
Назовите это философической настроенностью или детской наивностью, научным интересом или поэтической непосредственностью, но, как бы то ни было, ясно, что дело шло именно об основных вопросах, с которыми поэт обращался к современности. Не у всякого они выступают с такой настойчивостью и прямотой. Читая Хлебникова, мы замечаем, что его занимали не сами по себе вещи, люди, события, а именно природа этих вещей, людей, событий. Свобода искусства слова, — писал он в 1912 году, — всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из кот‹орой› искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлечённого, а вот этого именно (НП: 334). Так понимал он свою задачу и судьбу, да и вообще судьбу писателя.
С этой точки зрения замечательны его размышления о судьбе Достоевского. В 1913 году, на самом подъёме движения за новое русское искусство, он писал в письме А. Кручёных:
Разумеется, можно спорить с таким пониманием Достоевского. Но нам важно обратить внимание на другое, а именно на сам строй этих размышлений, прямо связывающих судьбу писателя с судьбой России и находящих в их пересечении главное событие в творческой судьбе Достоевского. Говоря о нём, Хлебников, как нетрудно понять, говорил о том, что больше всего волновало его самого. И это настолько понятно для русского писателя и настолько естественно для русской литературы, что мы часто об этом забываем, особенно часто — в связи с Хлебниковым, и тем важнее сейчас об этом помнить. На протяжении всей его сознательной жизни Россия, её народ, её история и природа — причём природа в узком и ещё более в широком смысле — были постоянным и основным предметом его размышлений. Он хотел открыть Россию в ее законах и предвидеть её будущее:
Здесь есть то ощущение беспредельной свободы и естественности, когда парадокс, как будто заложенный в стихотворении, перестаёт быть парадоксом, выворачивается наизнанку и становится новым и простым восприятием мира. Смягчённый иронической улыбкой, он позволяет войти в то поэтическое сознание, которое несла с собой революция, где личность в своей бесконечной внутренней глубине смыкалась с бесконечностью мира. Революция была для поэта не только социальным переворотом и освобождением, она проходила весь мир и человека насквозь, переворачивая я возвращая ему утраченные всеобщие связи. Другими словами, революция для него была возвращением мира и человека к самим себе, к своей изначальной природе,
Поэтому, задавая вопрос о главном событии творческой судьбы Хлебникова, мы, конечно, уже знаем ответ, и это опять-таки совершенно естественно и само собой понятно. 1917 год в его судьбе, как и в судьбах всей России, был тем смысловым центром, к которому шло всё его творчество, и из которого оно исходило. Разумеется, Хлебников переживал революцию не так, как, скажем, Короленко или Горький, Блок или Маяковский. Каждый из них понимал и принимал революцию по-своему, и для каждого из них это была, говоря словами Маяковского, — „моя революция”. Однако всех их объединяло сознание необходимости и неизбежности революции и сознание её мирового исторического значения.
В чём же отличие хлебниковского отношения к этим событиям? Ближе всего, надо думать, было ему блоковское восприятие революции:
Однако сомнительным и трудным в хлебниковской философии природы было то, что искал он не косвенные, не опосредованные, а прямые связи между природой, обществом и человеком, стремясь понять и человека, и общество как космос и построить, так сказать, космологию человека и космологию общества, включённые в общую космологию мира.
Язык человека, строение мяса его тела, очередь поколений, стихии войн, строение толп, решётка множества его дел, самое пространство, где он живет, чередование суши и морей — всё подчиняется одному и тому же колебательному закону, — писал он в заметках 1920 года, — а потому каждая наука — грамматика, физиология, история, статистика, география является и главой науки о небе.
Отсюда следует другое, ещё более глубокое отличие хлебвиковского отношения к революции. Если все бесконечно сложные и разнообразные явления мира подчиняются единому ритму, то эти ритмические колебания могут быть выражены только посредством числа, поскольку число является синтезом предела и беспредельного, и только числовые отношения могут передать мировые закономерности, в частности, ритм исторических событий.
Поэтому, начиная с 1905 года, с которого, собственно, Хлебников и отсчитывал начало своей сознательной творческой жизни — Мы бросились в будущее от 1905 г. (НП: 368), — прямо говорил он в 1914 году, он не только вместе со многими современниками переживал стихийные предчувствия, отчаяние и тревогу, не только утверждался в сознании социально-нравственной неизбежности продолжения “дела свободы”, но искал твёрдые опоры для предвидения будущего, чтобы точно исчислить и предсказать грядущие события не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчёта (СПV: 241).
Не будем, однако, преувеличивать научный холод хлебниковского мировоззрения. В своём исходном отношении к миру он был, прежде всего, поэтом, причём поэтом именно стихийного, патетического и пророческого склада. Энергия его поэтического слова как раз и возникала из противоборства стихийных интуиций и математического расчёта: Наибольший ток возможен при наибольшей разнице напряжения, а она достигается шагом вперёд (число) и шагом назад (зверь).9![]()
Для него же самого, напротив, главной жизненной задачей представлялось научное исследование “материков времени”: Таким я уйду в века — открывшим законы времени (СПV: 304).
Судя по сохранившимся рабочим заметкам, уже к 1911 году он достиг первых значительных результатов: Желая проверить деловым путём возможность предвидения будущего, я построил предсказания для не столь отдалённых 1917–1919 годов, — писал он и называл эти даты великим узлом, развязанным мной, событий.10![]()
О том, какое значение придавал этим предсказаниям Хлебников, да и все участники движения за новое искусство, и в первую очередь Маяковский, можно судить хотя бы по тому, что знаменитый футуристический сборник «Пощёчина общественному вкусу», изданный в декабре 1912 года, открывавшийся крикливым и достаточно нелепым манифестом, заканчивался простой хлебниковской таблицей с датами падения великих государств, где последним стоял 1917 год. И эта дата была для них несравненно важнее всяких эстетических “пощёчин”, для нас же сейчас — тем более. Менее известен, хотя, может быть, ещё более характерен, тот факт, что при подготовке следующего сборника — «Садок судей II», вышедшего в 1913 году, Хлебников с несвойственным ему обычно в издательских делах упорством настоял, чтобы в нём были напечатаны стихи тринадцатилетней девочки. В ответ на недоумения своих соратников он писал издателю сборника М. Матюшину:
И действительность шаг за шагом подтверждала эти предсказания, особенно с началом мировой войны. Призванный в апреле 1916 года в царскую армию, Хлебников столкнулся совсем с иной средой и с ещё более определёнными настроениями.
Мало ли? Даже одной этой даты, не говоря уже о других расчётах и предсказаниях Хлебникова, вполне достаточно, чтобы задуматься над смыслом его чисел.
К сожалению, до сих пор никто не взял на себя труд проверить расчёты Хлебникова, и специалисты не сказали о них своего слова. Сама но себе исходная идея о единых циклических ритмах в природе и обществе, как и в жизни отдельного человека, не может быть заведомо отвергнута. Вспомним хотя бы исследования таких современников Хлебникова, как Н.Я. Пэрна и А.Л. Чижевский, а из новейших — работы М. Постникова и А. Фоменко.
Предположим, однако, что теория Хлебникова не верна, расчёты его ошибочны, и предсказание 1917 года явилось просто случайным совпадением. Но и в таком случае этого немало, чтобы обратить внимание если не учёного, то художественного мира. И тут мы уже можем говорить о поразительной интуиции поэта. Пусть теория не верна, но предсказание поэта — неслучайный и неопровержимый поэтический факт.
Космология Данте не отвечает современным представлениям о вселенной, но без неё не было бы «Божественной комедии».11![]()
Пусть пророчества Хлебникова не имеют объективного и научного значения. Тем важнее они для нас с точки зрения субъективной и поэтической или вообще эстетической. Перед нами тот редкий и прямо редчайший случай, когда поэтическая мысль воплощается в действительности, воображаемый факт становится реальным историческим событием не только по смыслу, но и на деле, Поэтому 1917 год и был для Хлебникова великим узлом событий, где связаны слово и дело, личная судьба поэта и судьбы народов не только России, но и всего мира. Отсюда то высокое самосознание поэта, дававшее ему право в своих дневниковых записях называть 10 марта 1917 года днем овелимирения земного шара,12![]()
В черновиках своей последней поэмы 1922 года, так и оставшейся незаконченной, Хлебников, возвращаясь к предреволюционным годам и вспоминая и обдумывая весь пройденный путь, говорил о великом опыте искусства эпохи, и это осталось его завещанием:
Отсюда становится понятно, почему его стихотворения и поэмы о современности, где революционные события написаны прямо с натуры, со временем ничуть не тускнеют, напротив, скрытая в них огромная обобщающая сила эпического миропереживаиия выступает ещё весомее и зримее. Вот образ февральской революции в сверхповести «Зангези» (1922):
В 1928 году в предисловии к первому тому Собрания произведений Хлебникова Ю. Тынянов говорил о нём как о единственном эпическом поэте современности. Столь решительно высказанное мнение понятно в свете общей историко-литературной концепции исследователя. Однако его нельзя принимать вне той конкретной литературной ситуации конца 20-х годов, когда оно было выдвинуто. Нельзя забывать, что статья Ю. Тынянова — да и вообще издание Собрания произведений Хлебникова — были полемически направлены к тому, чтобы отделить и изолировать Хлебникова и, прежде всего, противопоставить его Маяковскому. Вот с этим никак нельзя согласиться.
С другой стороны, ещё меньше можно принять позицию противоположную. В некоторых работах по истории советской поэзии хлебниковские поэмы о революции представляются в виде каких-то недописанных, недооформленных опытов в эпическом роде, которые едва выделяются на фоне общего поэтического гула эпохи.
Тут, вероятно, нет другого пути, помимо того, который подсказывает нам ощущение значительности хлебниковского творчества: его надо внимательно изучать, не изолируя от творчества современников, но и не растворяя в незавершённом и текучем литературном потоке.
В исключительно сложной и неканонической жанровой системе Хлебникова можно наметить три основные категории или, лучше сказать, три основные жанрообразующие тенденции. Это малые формы (преимущественно стихотворения), большие формы (поэмы, драмы, рассказы, повести) и так называемые сверхповести. Различие их, конечно, не столько в объёме (разница между большим стихотворением и маленькой поэмой почти незаметна), сколько в художественной установке. Мелкие вещи, — считал он, — тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. (СП II: 8). Другими словами, малая форма предполагает некоторое открытие, некоторое художественное изобретение, причём отнюдь не “формального” свойства, как может показаться. Наиболее ярко этот принцип “изобретения идей” реализован не только в таких известных “экспериментальных” вещах, как «Кузнечик», «Бобэоби пелись губы…» или «Заклятие смехом», но, может быть, ещё существенней в стихотворениях вроде «Я и Россия».
Вспоминая о Хлебникове, Маяковский говорил, что, читая стихи,
Третья категория его произведений, которую он называл и сверхповестью, и “романом”, и “драмой”, является собственно хлебниковским жанровым новообразованием (хотя оно, конечно, имеет свои генетические корни в русской и западной литературах). Это самые большие, самые значительные, в точном смысле итоговые его сочинения — «Дети Выдры» (1912), завершавшее его ранний период, и «Зангези» (1922), над которым он работал до последних дней. Они представляют собой сложную и трудноопределимую, принципиально открытую структуру, куда могли включаться в качестве строительных единиц самые разнородные произведения первого порядка: стихотворения, поэмы, драмы, проза и даже научные статьи. По существу же это был какой-то сверхдраматический жанр,14![]()
Таким образом, поэмы являются срединным и основным его литературным жанром, с которым так или иначе соотносятся остальные жанровые образования. Можно сказать, что всё его творчество тяготеет к поэме или исходит из её внутренней формы. Отдельные стихотворения, объединяясь по тому или иному тематическому принципу, образуют у него не циклы, как, скажем, у Блока, а особого рода составные, так сказать, сложносочинённые или сложноподчинённые поэмы. Таковы, например, «Война в мышеловке» (1919) или «Азы из узы» (1920–1922). Может быть и так, что стихотворение, разрастаясь и расширяясь, способно развернуться в большую поэму (так была написана поэма «Ладомир», 1920), но может быть и наоборот: поэма сжимается и сокращается до размеров стихотворения, сохраняя, однако, внутреннюю энергию большой формы (такова судьба его поэмы «Три сестры», 1920–1922).
До нас дошло более пятидесяти его поэм, среди которых мы находим произведения лирические, эпические, драматические и произведения того специфического хлебниковского жанра, в котором лирика как бы оборачивается эпосом, а эпос драмой и наоборот, и который так и можно назвать — обратимым, хотя подосновой всех его поэм остается эпический принцип.15![]()
Среди бумаг Хлебникова сохранился один любопытный документ, относящийся к концу 1921 – началу 1922 года. Это своеобразный график, на котором поэт, со свойственной ему объективностью самонаблюдения, начертил “кривую” своего творчества последних лет. В ней самый большой творческий подъём означает поэму «Ладомир», написанную в мае 1920 года.
И с поэтом трудно не согласиться. Эта поэма, которую Маяковский назвал „изумительнейшей книгой”, действительно во всех отношениях “самое” его произведение: самое цельное по внутреннему ощущению и самое противоречивое во внешнем выражении, самое вдохновенное и самое, может быть, рациональное, самое традиционное и самое новаторское, самое популярное и признанное и, вместе с тем, самое сложное и трудное для восприятия. Таким оно кажется нам сейчас, но поразительно, что таким оно было и для самого поэта. Написав поэму, Хлебников в течение долгого времени не в силах был её перечитывать. И только через девять месяцев, 28 февраля 1921 года, в его дневниковой записи отмечено: Мог спокойно перечитать «Ладомир» и охватить содержание, бывшее больше меня до этого времени.16![]()
Поэма труднообозрима, разумеется, не в своём фактическом содержании. В конце концов, она сравнительно невелика по объёму и просто запомнить её несложно. Она труднопостижима прежде всего эмоционально, потому что преобладающий её тон — высочайший и беспредельный поэтический восторг, в котором поэма как бы прямо “выходит из себя”. Ещё труднее охватываема она в её смысловом, перспективном содержании. Речь тут идёт обо всём мире и обо всём человечестве, обо всех временах и обо всех пространствах:
Это не замкнутый круг, а, наоборот, разомкнутые и разорванные пересекающиеся круги или сферы, так что каждая часть поэмы, каждая строфа и даже каждая строка является центром — и в то же время направлена в бесконечную перспективу:
Смысл этой борьбы представлялся поэту не в чистом отрицании, а в поисках и утверждении нового абсолюта, который Хлебников видел в научно построенном человечестве. В статье «Наша основа», во многом пересекающейся с поэмой «Ладомир» и относящейся к тому же времени, он говорил, что
Вот в этом замечательном определении — человечество, верующее в человечество — мы и находим самое простое и краткое выражение смысловой перспективы поэмы.
Но это только задано в поэме, а что же в ней дано, что является предметом изображения, о чём она? Очевидно, сказать, что это поэма о революции, ещё далеко не достаточно. Вчитываясь и вдумываясь в неё, мы понимаем, что поэма говорит не только о революции как конкретном социально-историческом событии, но о революции как всеобще-космическом, природном явлении, когда революционный переворот переживается как нечто абсолютное, безусловное и беспредельное. Это революция, возведённая в бесконечную степень.
Таким было общее поэтическое мироощущение эпохи, хорошо знакомое нам в поэзии революционных лет. Так говорил Маяковский в стихотворении «Революция»:
При всех различиях восприятия революции — преимущественно этического у Блока, социального у Маяковского, натурфилософского у Хлебникова — хлебниковская космичность и “чрезмерность” того же происхождения, что и “максимализм” Блока и “гиперболизм” Маяковского. Они коренятся в переживании революции в её бесконечной перспективе.
Отсюда и происходит вся эта образность “мировых циклонов”, “пожаров”, “потопов”), господствующая в поэзии революционных лет. Она переполняет и поэму «Ладомир». Доминирующим в ней является “мировой взрыв”, который как бы охватывает всю поэму.
Столь необычное, почти оксюморонное словосочетание — божественный взрыв, — построенное в соответствии с хлебниковской поэтикой „сопряжения далековатых идей”, здесь оказывается просто необходимым, чтобы выразить высшую степень величия, красоты, справедливости и всеобщности революции. Божественный взрыв означает одновременно разрушение и созидание, уничтожение и возрождение, хаос и космос. Больше того, взрыв в хлебниковской натурфилософии является естественным и “нормальным” состоянием природы. (Что, заметим в скобках, вполне согласуется с современными космологическими представлениями. С точки зрения теории расширяющейся вселенной можно сказать, что мы живём внутри бесконечно большого взрыва, и этот большой взрыв мы и называем величественным и прекрасным космосом. Эти представления очень близки Хлебникову, который в некоторых отношениях даже предвосхищал их, утверждая, что весь мир есть молния, что человек, в конце концов, молния, что существует большая молния человеческого рода — и молния земного шара (СПV: 240). Поэтому божественный взрыв, взятый как образ революции, должен говорить нам о единстве истории и природы, но единстве не окончательном и завершённом, а о единстве самопротиворечивом, о единстве в становлении и борьбе. Следуя ключевому образу поэмы, мы только и можем охватить всё её многообразное содержание. Часто говорят о разорванности, фрагментарности и даже хаотичности её сюжета. И это действительно бросается в глаза. Отдельные части, строфы и строки поэмы существуют как бы в разных перспективах, они как бы сталкиваются, пересекаются и разлетаются в разные стороны, так что каждый фрагмент может быть развёрнут в целое стихотворение, научную статью или утопический рассказ (так оно на самом деле и есть, и в значительной мере поэма «Ладомир» является “экстрактом” различных произведений Хлебникова — и потому, как никакая другая его вещь, требует подробных комментариев). Однако, надо думать, подобная разорванная множественность и смысловая перенасыщенность подразумевались её замыслом. Ведь если понимать сюжет не просто в качестве последовательного построения произведения, а видеть в нём способ художественного осмысления мира, то божественный взрыв мы вправе толковать не только как предмет изображения, но и как способ изображения смысла происходящего. В одной из ранних статей, написанных в связи с началом мировой войны, Маяковский говорил:
Само собой разумеется, что это, главным образом, поэтическая или, вернее, мифопоэтическая точка зрения на действительность, и по ней-то и следует судить о поэме. Поэтому тут важна поэтическая традиция, с которой ассоциируется художественный строй «Ладомира». С самого начала поэмы кажется, что она обращена к какому-то древнему божеству:
Но поэма не столько подхватывает и возрождает традицию, сколько переосмысляет и опровергает её, потому что тут же выясняется, что высокое „ты” обращено не к божеству, а, напротив, к униженному н порабощённому человеку,
И так на протяжении всей поэмы посредством таких сдвигов и переключений сохраняется напряжение, и мы так до конца и не можем определить однозначно тот высокий объект, к которому обращена речь поэта. Ясно только, что это и есть «Ладомир». Но кто или что это? Божество, человек, человечество, история, природа, революция? Ведь само слово Ладомир может означать не обязательно только будущую гармонию мира, как чаще всего думают. Это древнее славянское слово может быть и личным именем, и названием местности, в контексте же хлебниковского творчества оно может означать и строй мира, и образец его устройства, и характер его движения (ср. лад в музыкальном смысле) и т.д. И все эти значения так или иначе присутствуют в поэме порознь и все вместе.
То же самое происходит и с субъектом поэмы. В первой части её как будто бы подразумевается какое-то „мы”, от которого поэт не отделяет себя и от имени которого говорит. Это „мы” русской революции. Затем мы различаем собственный голос поэта. Но он снова смещается, и поэт говорит о своих ближайших друзьях и о себе в третьем лице:
Подобные превращения Хлебников находил и у своих современников. В статье «О современной поэзии» он писал в связи с творчеством Алексея Гастева:
С такой точки зрения понятно, что субъект «Ладомира», как я его объект, раскрывается динамически, в непрерывном превращении и возрастании, исходящих из ключевого образа поэмы; это „я” в состоянии “божественного взрыва”, в котором оно стремится слиться с “не я”. Многообразный и бесконечный объект поэмы оборачивается столь же многообразным и бесконечным субъектом, доходя до полного тождества. И, следовательно, все местоимения поэмы могут выступать как личные ‘я’, ‘ты’, ‘он’, ‘мы’, ‘вы’, ‘они’, так и сверхличные, и все они являются местоимениями одного великого многообразия — единого во всех лицах. Вот это и есть «Ладомир».
Он одновременно и объект поэмы, и её субъект. Не случайно «Ладомир» перекликается с литературным именем поэта Велимир. И вместе с тем «Ладомир», конечно, остаётся именем самой поэмы. Всё, что мы здесь находим: и мир, и поэт, и его творение — сама поэма, — всё это и есть «Ладомир». Можно сказать, что здесь мир в лице поэта обращается с одой к самому себе же, как и у Державина:
Но если от державинского „Бога” по существу только один шаг до „Природы” (вспомним знаменитую формулу Спинозы „Deus sive nature” — „Бог, то есть природа”), то в хлебниковском «Ладомире» этот шаг уже пройден. «Ладомир» ведь и есть не что иное, как “личное имя” природы. И если поэт пользуется такими понятиями, как ‘божественный’, ‘священный’, ‘бессмертный’, если он выводит такие образы, как, например, Свобода идёт Неувяда, то совершенно очевидно, что они имеют сугубо поэтический смысл, означая высшую степень красоты, величия, всеобщности и т.п.
Эта ситуация удивительно напоминает начальную эпоху русской литературы, когда новое, христианское мировоззрение уже утвердилось, но старые, языческие представления были ещё живы. пишет Д. Лихачев пишет:
Мировоззрение Хлебникова было мировоззрением новой, вне-религиозной эпохи, опиравшимся уже не на веру, а на материалистическое, научное, в пределе — как ему представлялось — математическое знание.
В такой ситуации, разумеется, старые религиозные образы полностью поэтически переосмыслялись. Особенно наглядно это можно видеть при сопоставлении поэмы «Ладомир» с поэмой Блока «Двенадцать» (тоже, кстати сказать, пронизанной космической и числовой символикой). Сравним:
Но, повторяю, всё это в поэме ещё только задано, это ещё только перспектива движения к человечеству, верующему в человечество. И в этом, между прочим, самое глубокое отличие «Ладомира» от державинского «Бога». Прекрасная, завершённая, непостижимая и невыразимая, вызывающая лишь восторг и благодарные слёзы державинская вселенная у Хлебникова показана в состоянии революционного взрыва, пересоздания и переустройства.
Поэтому с точки зрения гармонической завершённости и уравновешенности поэму «Ладомир», может быть, и нельзя отнести к лучшим произведениям Хлебникова (сам он лучшей своей вещью считал поэму «Поэт», 1919). Для этого она слишком перенасыщена, слишком “выходит из себя”. Однако именно ввиду огромности того, что в ней задано, поэма «Ладомир» занимает центральное и узловое положение в его творчестве.
На примере «Ладомира», пожалуй, нагляднее всего выступает основной, магистральный хлебниковский сюжет, поскольку здесь он развёрнут в наиболее широкой и бесконечной перспективе. На него вполне определённо указывало и первоначальное название поэмы — «Восстание», имевшее, по меньшей мере, три значения. Оно, прежде всего, конечно, означало революцию; затем оно, как мы видели, означало не только революцию как историческое событие, но и революцию как явление природы. Вместе с тем, это восстание природы, показанное не просто как разрушение и переворот, но именно как переустройство и пересоздание, означало в конечном счете восстание природы, её восстановление, воскрешение и возрождение. В свете этой перспективы поэма, по-видимому, и получила окончательное название «Ладомир», являющееся как бы продолжением «Восстания».
Сюжет “восстания природы” или вообще “явления природы” можно, как кажется, рассматривать в качестве основного хлебниковского сюжета, который в различных вариациях и образных воплощениях проходит сквозь все его произведения и который охватывает все его творчество в целом, составляя то, что поэт называл Единой книгой.
Речь, разумеется, идёт лишь о более или менее интуитивном восприятии такого сюжетного единства. Оно должно быть изучено и проверено на материале всего хлебниковского творчества. Но это задача предстоящих исследований. Пока же, хотя бы предварительно и бегло, попробуем проследить его на нескольких разнохарактерных примерах.
Начнём с самой ранней из дошедших до нас поэм Хлебникова — «Царской невесты» (1905). Сюжет её (не имеющий, кстати сказать, ничего общего с сюжетом одноименной драмы Л. Мея) основан на предании, скорей всего легендарном, об одной из жён Ивана Грозного — Марии Долгорукой, отца которой он убил на свадьбе, а её наутро после свадьбы, подозревая, что до брака она любила кого-то иного, приказал посадить в колымагу, запряжённую дикими лошадьми, и пустить в пруд, находившийся возле Александровской слободы; об этом пруде рассказывали, что рыба в нём особенно жирна и её подают к царскому столу, так как она питается утопленными по приказу царя людьми. На первый взгляд, в поэме речь идёт не о “природе”, а об “истории”, но в том-то и дело, что история, в лице кровожадного царя, показана как извращение самой природы человека. Здесь нет ещё никакого восстания или воскрешения природы, и её, безвинную и безвольную „жертву агнюю”, поэт воскрешает только в художественном воображении, чисто мифопоэтическими средствами:
Уже в этой юношеской романтической поэме Хлебникова мы встречаемся с двумя основными антиномическими образами, которые в разнообразных коллизиях проходят через всё его творчество. Это, во-первых, самовольный и самовластный человек, в своём безграничном самоутверждении попирающий природу. Таков Иван Грозный, таков и эрцгерцог Рудольф в поэме «Мария Вечора», относящейся к тому же времени, что и «Царская невеста», и развёртывающей сходную коллизию, с той разницей, что герой её гибнет от руки обесчещенной им девушки. Далее этот ряд продолжают и образ Жреца, убивающего Рабыню — жрицу богини Афродиты в драматической поэме «Гибель Атлантиды» (1913), и образ скифского царя в маленькой трагедии «Аспарух» (1908). Последний особенно примечателен: в сверхчеловеческом самоутверждении Аспарух предаёт свое войско и свой народ, поклоняется чужим богам и даже прямо восстает на природу, требуя, чтобы его конь скакал быстрее света, обгоняя собственную тень.
Такой сверхчеловеческий характер мог воплощаться не только в мужских образах, но и в женских, как, например, польская авантюристка, мечтающая стать русской царицей, в поэме «Марина Мнишек» (не позже 1913, более точная датировка затруднительна).
Сходные образы мы находим и в герое рассказа «Малиновая шашка» (1921) — незадачливом красном командире; и в помещике, заставляющем крепостную крестьянку выкармливать грудью щенка, в поэме «Ночь перед Советами» (1921); и в главе матросского дозора, Старшом, который хочет победить бога, в поэме «Ночной обыск» (1921); и, наконец, в Степане Разине — герое целого ряда хлебниковских произведений.
Разумеется, всё это характеры совершенно разные и отношение поэта к ним также совершенно различное. Они могут вызывать отвращение и гнев, как Иван Грозный, эрцгерцог Рудольф или помещик-крепостник. Они могут вызывать более сложные чувства, как, например, Жрец или Аспарух, осуждение которых не лишено признания за ними известного величия. Они могут вызывать насмешку и жалость, как Марина Мнишек или герой «Малиновой шашки». Они, наконец, могут вызывать восхищение и преклонение перед их трагическим героизмом, как Старшой и в особенности Степан Разин — „единственное поэтическое лицо русской истории”, по известному замечанию Пушкина.
Во всех этих многоразличных и сложных образах перед нами выступает, так сказать, “человек исторический”, оторвавшийся от природы, попирающий ее и тем самым разрушающий собственную человеческую природу. (Как сказано в пьесе «Мирсконца»: Запомни, что, ворона убив, в себе самом убил ты что-то). Всякое отдельное человеческое “я”, по Хлебникову, есть всего лишь часть мира, “дробь”, а не целое “число”, и такая “дробь” в своём сверхчеловеческом самоутверждении, стремясь заполнить собою целый мир, ведёт и человека, и мир к раздроблению, распаду и самоуничтожению. Это то, что поэт в пределе обозначал квазиматематической формулой всё в степени я, то есть мир в дробной степени.
Такому самовластному человеку, отпавшему от природы, противостоят образы страдающие, жертвенные, которые часто насильственным путём, через смерть, как бы возвращаются “в природу”. Таковы Мария Долгорукая в «Царской невесте», Рабыня в «Гибели Атлантиды», персидская княжна в «Трубе Гуль-Муллы» и «Уструге Разина» и др. Они чаще всего связаны с женственной стихией воды и нередко прямо превращаются в русалок, олицетворявших эту стихию. И не только её; русалка в мифопоэтической символике Хлебникова один из самых постоянных и самых излюбленных образов, знаменующих живую душу вещей, явлений, вообще живую очеловеченную душу природы. Причём эти образы, восходящие к народной мифологии и фольклору, как бы сохраняют память о пушкинских и гоголевских русалках (в частности, в поэмах «Лесная тоска», «Поэт», «Ночной обыск»).
Но эти же страдающие, нежные, женственные образы природы могут оборачиваться грозными и карающими образами разрушительных стихий, и тогда мы уже воочию видим “восстание природы”. Так, в поэме «Гибель Атлантиды» отрубленная голова Рабыни превращается в ужасный лик змееволосой Медузы:
В других его ранних произведениях, которые в хлебниковедеиии принято называть “апокалипсическими”, мы видим как бы внезапное, не мотивированное конкретным преступлением “явление природы”. Так, в стихотворной драме «Маркиза Дэзес» (1909), действие которой происходит на выставке живописи, все мёртвые вещи, картины и статуи оживают, люди же каменеют, превращаясь в какие-то кладбищенские изваяния. Так, в поэме «Змей поезда» (1910) железнодорожный состав обращается в чудовищного дракона, пожирающего пассажиров. Так, в поэме «Журавль» (1909) — и это, может быть, наиболее впечатляющий образ “восстания природы” — вся человеческая техника, все вещественные плоды цивилизации, соединившись с восставшими из гробов трупами, образуют исполинскую птицу, подобную вставшему из бездонного провала „великому мертвецу” в гоголевской «Страшной мести»:
И этому лжебожеству люди молятся и приносят в жертву детей, не подозревая, что оно есть не что иное, как извращённый образ самого человечества, утратившего свою подлинную природу, образ, как мы бы сейчас сказали, мирового капиталистического города. В нём соединялись и реальные впечатления от современного поэту Петербурга, и причудливо преобразованные древние восточные, славянские, античные представления (в частности, миф о Минотавре), но ближайшим исходным пунктом было, конечно, гоголевское «Завещание»:
Эта стихийная тревога и тёмные пророчества в эпоху Хлебникова обретали ближайшие реальные очертания и конкретный исторический облик. И тогда как в своих научно-философских работах он искал законы истории, чтобы предвидеть будущее, в своём художественном творчестве он пытался понять причины и следствия надвигающихся событий. Отсюда, с одной стороны, его “апокалипсические” видения, с другой — его иронические “идиллии”, в которых он рисовал картины невозмутимой и блаженной жизни природы, относя их, однако, в какое-то отдалённое “доисторическое” прошлое или помещая куда-то вне современной промышленной цивилизации. В таких его произведениях, как пьеса «Снежимочка» (1908), поэмы «И и Э» (1910), «Шаман и Венера» (1912), «Вила и леший» (1913), мы тоже видим “явление природы” (интересно, что в первоначальном замысле поэмы «Вила и леший» героиня прямо носила имя — Природа). Но и они имели характер каких-то призрачных видений и снов, как бы повисая в воздухе и исчезая, как в финале поэмы «Шаман и Венера»:
События мировой войны и революции повернули его творчество к самой непосредственной действительности, дали его вымыслам буквально плоть и кровь, когда сюжет “восстания природы” стал самой насущной реальностью. Эти события не только подтверждали его предсказания, но в несравненно большей мере сами открывали ему Россию в её законах. Новое, непредвиденное и непредсказуемое было во много раз значительней того, что он предчувствовал и предвидел. Недаром в последние годы он в корне пересмотрел свои законы времени, перейдя, в частности, от счёта годов к счёту дней и даже минут и секунд, так как изменился сам масштаб явлений.
Поэтому и в своём позднем художественном творчестве он всё больше исходил не из романтического переживания и внутреннего опыта, а из прямого и объективного наблюдения истории как явления природы. Хлебников готов был к тому, чтобы говорить о революции с беспощадным и суровым реализмом.
В поэме «Ночной обыск» (1921) между матросами, ворвавшимися в господский дом, и барышней происходит такой диалог над трупом расстрелянного белогвардейца:
Хлебниковский реализм совершенно особого рода, могучий и суровый, но не исключающий никакой фантастики и символики, никаких предельных обобщений, обнажающий нечеловеческие, стихийные, природные начала, — его можно было бы назвать мифологическим реализмом. Таков образ Прачки в поэме «Ночь перед Советами» (1921). Это совершенно реальное лицо и в то же время — это сама разрушительная, стихийная, очищающая и обновляющая природа космических потрясений и переворотов, которая становится обобщающим образом революции — прачки мировой истории. Таков в той же поэме образ Собакевны, деревенской красавицы, которую помещик заставил кормить грудью щенка вместе с ребёнком. Эти страшные сцены кормления говорят о бесконечном унижении человека, приравненного к животному, но в то же время они написаны так, что, вчитываясь и вдумываясь в них, мы понимаем, что они говорят нам и о прямо противоположном — о торжестве и величии вселюбящей, рождающей и кормящей природы-матери, на лоне которой равно всё живое. Так оборачивается и выворачивается сквозь историю природа. И только в двуединстве образов Собакевны и Прачки мы до конца прочитываем этот сюжет. Тогда в Прачке, сквозь образ Собакевны, мы видим воплощение возмездия за извращённую и попранную природу, а в Собакевне, сквозь образ Прачки, — окончательное торжество очищенной и обновлённой природы, как бы возвращенной к изначальной гармонии мира.
Сходным образом строятся сюжеты большинства поздних произведений Хлебникова, особенно же показательны в этом отношении “ночные” поэмы: «Ночь в окопе», «Ночной обыск», «Ночь перед Советами», где ночь как раз и знаменует “явление природы” и воссоединение с нею человека, и где вся их ночная образность говорит о высшей просветленности сознания.
Всё это возможно было только потому, что поэт говорил о революции в движении, в бесконечной перспективе, как это мы видели в «Ладомире» и как это можно видеть в его поэмах «Взлом вселенной» (1921), «Синие оковы» (1922), в сверхповести «Зангези». Наглядней всего это проступает, пожалуй, в поэме «Азы из узы» (1920–1922), где магистральный хлебниковский сюжет воплощается в зримом образе «Единой книги»:
В основе этой поэмы лежит миф о Прометее и его жене Азии. И написана она от имени Прометея, символизирующего здесь единое свободное человечество. Азия же — прародина человечества — становится символом его единства с природой. В интегральном “я” Прометея сливается личное „я” поэта и внеличное „я” человечества. Вот это и есть, по Хлебникову, — ‘аз’, то есть нечто противоположное отдельному “я”; это не всё в степени я, а, наоборот, я в степени всё — свободное единство человека, истории и природы.
В поэтическом предвидении и предварении такого будущего единства, по-видимому, и состоит смысл творчества Хлебникова.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 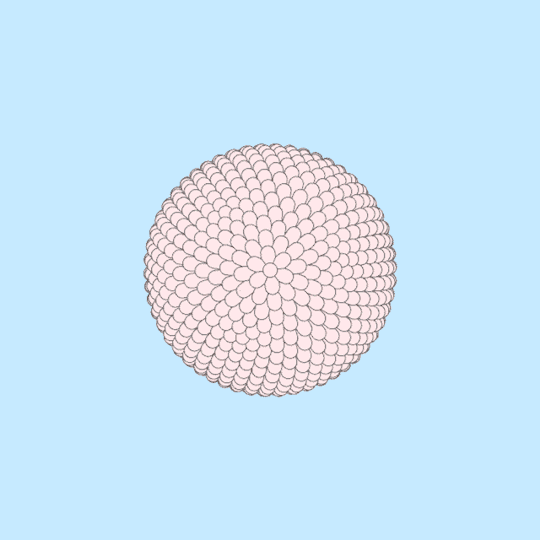 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||