

Не приходится сомневаться в достоверности сообщения мемуаристки. Она, по-видимому, запомнила не только общее содержание слов Хлебникова, но и самые слова — уж очень они хлебниковские. О смысле же и говорить нечего — едва ли кому-нибудь мог прийти в голову столь странный и глубоко хлебниковский образ.
Дело было, по-видимому, так: будто бы не терпевший умываться Хлебников обожал плавание и, говорят, плавал, как рыба. И во время купания в Днепре потерял подаренный ему крестик. Вот этот бытовой, пустяковый, казалось бы, эпизод Хлебников мгновенно, несколькими словами превращает в миф громадной бытийственной значительности. Погружение в воды Днепра, где некогда происходило крещение Руси, приобретает у него соотнесенный с этим обрядом, но противоположный ритуальный смысл: тогда крест, так сказать, был дан, теперь — отобран. Потеря крестика осмысляется как обряд “раскрещивания”, сопоставимый по значению с давним обрядом крещения. И происходит это по воле — не более, не менее — самого мифологического “отца”, Днепра-Славутича, которому, очевидно, не угодно было оставить мне ваш крест ‹...›
Связанный с Киевом обряд крещения (и, как мы видели, обряд “раскрещивания”) стал в творчестве Хлебникова основой “киевского мифа”, который входит чрезвычайно важной составляющей в хлебниковскую утопию.
Футурист, будетлянин, новатор, авангардист и т.д., Хлебников вместе с тем — самый, пожалуй, архаичный из русских писателей XX века. Поэт проявлял незаурядный интерес к «Слову о полку Игореве», прежде всего — к древнейшему, языческому слою великой поэмы, но безвестный автор этого памятника в некотором смысле “новее”, чем Хлебников. Свою книгу «Архаисты и новаторы» Ю. Тынянов хотел назвать «Архаисты-новаторы» — через дефис, близкий по смыслу знаку равенства, и формула “архаист-новатор” как нельзя лучше подходит Хлебникову. Ю. Тынянов имел в виду не до конца понятную, но безотказно действующую закономерность, в силу которой любая попытка новации в области культуры поднимает на поверхность давние культурные слои, и чем мощнее попытка, тем глубже перемещаемый слой архаики.
Эта мысль далеко не совпадает с прописной истиной, гласящей, что всякое новое есть, дескать, хорошо забытое старое. Нет, речь идет о другом: о некоем законе “культурного маятника”, если заимствовать метафору из психологической терминологии. Согласно закону “психологического маятника”, усиление в человеческом характере, скажем, сентиментальности “наводит”, возбуждает, усиливает свою противоположность — жестокость. Сокрушительное новаторство Маяковского повело к актуализации в его творчестве средневеково-христианских моделей (через голову “новой” русской культуры XIX века); тихое, но, по сути, более резкое “будетлянство” Хлебникова актуализировало еще более древние — древнейшие — культурные модели, относящиеся к области первоначальной мифологии; разухабистый, безудержный авангардизм Алексея Кручёных вывел его, так сказать, в “докультурные пространства”.
Юрий Тынянов это понимал — не случайно своего “архаиста-новатора” Кюхлю он писал с новатора-архаиста Хлебникова, так что теперь многие страницы воспоминаний о Хлебникове выглядят словно черновые наброски или подготовительный материал к тыняновскому роману о Кюхельбекере.
В творчестве Хлебникова загадочно-очаровательным образом представлен самый тип первобытно-мифологического творчества. Представлен тип мышления той труднопостигаемой эпохи, когда одновременно шло складывание языка и первоначального мифа. Раньше других, пожалуй, понял это Бенедикт Лившиц, написавший о Хлебникове в своем мемуарном романе «Полутораглазый стрелец», что языковой и мифологический процесс, „мыслившийся до сих пор как функция коллективного сознания целого народа, был воплощен в творчестве одного человека”.3![]()
В этом не было никакой преднамеренности, заданности, выстроенности — творчество Хлебникова стихийно и органично. В нем проговорились глубинные структуры психики, а не “художественная задача” или “социальный заказ”, как будто неким волшебством в мозгу поэта, обогащенном знанием многовекового культурного развития, заработала “память” о мифе непредставимой древности. Приглядываясь к уэллсовской “машине времени”, Хлебников изобрел подобную в своем творчестве, вернее — он сам был этой машиной, соединявшей крайние точки на шкале времен. Хлебников — мифотворец, мифологический художник, создатель самого, быть может, поразительного поэтического мифа новейшего времени. Не это ли его свойство (осознаваемое или воспринимаемое не аналитически) влечет к нему читателей, исследователей, поэтов и философов?
Но случилось так, что жизнь, творчество, судьба поэта стали в свой черед мифологизироваться (хотя и не совсем в том смысле, в каком это слово употреблялось до сих пор). Хлебникова непрерывно делали полигоном для мифологических упражнений, превращали поэта в литературную или окололитературную легенду, и на всем хлебниковедении — отечественном и зарубежном — в той или иной мере лежат отражения и пятна этой легенды, независимо от того, получал ли мифологизированный Хлебников положительную или отрицательную оценку. Миф о Хлебникове становится поперек научного знания (то, что этот миф сам подлежит изучению как особое явление культуры — другое дело). Разрушить, рационально “снять” миф о Хлебникове, заменить легенду о Хлебникове твердым научным знанием — задача самая что ни на есть насущная, заостренная неутихающим общественным интересом к жизни и творчеству поэта.
В расхожих представлениях биография Хлебникова связывается с Астраханью, Москвой, Баку, Петербургом, Харьковом — для Киева в этом ряду как будто не находится места. Между тем этот очерк был начат с киевского эпизода — отнюдь не первого и не единственного в жизни Хлебникова. Из всех посещений Киева Хлебниковым надо выделить его пребывание в городе и дачном пригороде Святошин в конце 1908 и на протяжении 1909 года — как наиболее продолжительное и плодотворное.
10 января 1909 года Хлебников, извещая В.В. Каменского: Меня забросило в Святоши‹н›, Киевского уезда, Киевской губернии, Северная ул., д. 53, — обращался к нему, редактору только что образованной газетки «Луч света»: Посылаю Вам 3 вещи («Скифское», «Крымское», «Курган Святогора»). Поместите их? Это меня ободрит. Я мечтаю о большом романе, которого прообраз «Купальщики» Савинова — свобода от времени, от пространства, сосуществование водимого и водящего. Жизнь нашего времени, связанная в одно с порой Владимира Красное Солнышко (Дочь Владимира, женатая на реке Дунае), какой она мнится слагателям былин, их слушателям ‹...›.4![]()
Ни одна из названных вещей Хлебникова не была напечатана Каменским: его газетка прекратила существование на втором номере. Но из письма видно, что Хлебников, оказавшись в ближайших окрестностях Киева, немедленно начал осваивать новое пространство — киевское — и связанное с этим пространством историческое время — время Киевской Руси. Он осваивал их, мифологизируя: свобода от времени для Хлебникова означала, что прошлое и настоящее, канувшая в века эпоха первых киевских князей и сегодняшний день, человеческий мир и мир животных — сосуществуют одновременно, как на понравившейся ему картине А.И. Савинова, где Волга омывает тела купающихся мужчин, женщин и лошадей, словно река времени. В замысле большого романа о дочери Владимира, женатой на реке Дунае (а Дунай — река славянского мифа, и “женитьба” на ней — мотив мифологический) угадывается будущая поэма «Внучка Малуши», там же, на святошинской даче, вскоре, по-видимому, и написанная.
Съездив в мае 1909 года ненадолго в Петербург, Хлебников в июне вернулся в Святошин с тем, чтобы провести здесь свой каникулярный отпуск — до конца августа. 8-го августа он сообщал Каменскому: Написал поэму «Внучка Малуши», которой, однако, вряд ли могу похвастаться.5![]()
Для любого читателя тут вопиющий анахронизм: девушки в Киеве X века поют русскую народную песню, известную не ранее, чем с конца XVIII века. Для Хлебникова же никакого анахронизма здесь нет. Он, конечно, отлично знает культурную хронологию, но пренебрегает ею. Весь объем исторически сложившейся культуры существует для него одновременно. Век десятый и последующие века пронизывают друг друга, внучка Малуши “древнее” и вместе с тем “новее”, моложе самой себя.
Оказавшись в Петербурге с помощью столь странного транспорта, как нечистая сила, княжна попадает в точности в такую ситуацию, в какую попал Поток-богатырь, герой стихотворения А.К. Толстого, поэта, высоко ценимого Хлебниковым. Соответствующая сцена «Внучки Малуши» кишит реминисценциями и прямыми парафразами «Потока-богатыря». Примчавшаяся из первозданных просторов, внучка Малуши видит себя под давящими каменными сводами в обществе стриженых, безкосых дев, анатомирующих трупы, и соблазняет этих узниц науки своей природной свободой. И молоденькие петербургские курсистки предпочитают “наивно-природное” — “гнилостно-цивилизованному”. Они бегут вместе со своей мифической гостьей, проговорив напоследок что-то вроде заклинания или считалки, в которой имена научных деятелей превращены в пугающую заумь:
Одним словом: „гори, гори ясно” вся эта книжная схоластика! Едва ли призыв поэмы Жизни сок берите! не связан с ощущением вакационной свободы и святошинского приволья, откуда Хлебников и его юные родственники должны были вернуться в каменные стены учебных заведений…
Среди этих родственников поэта была и Мария Николаевна Рябчевская (впоследствии Качинская), которая — более полувека спустя — вспоминала:
 Вся семья Хлебниковых, кроме Кати, жила в Святошине на даче у Дидевич, на 5-й просеке (Дидевич — двоюродная сестра матери поэта. — М.П.). Дом стоял среди пустой усадьбы, кругом только много сосен. Папа, Коля и я жили в это время у дяди Владимира Юрьевича по Северной улице, № 2, и ежедневно ходили на 5-ю просеку, где все вместе проводили целые дни и обедали. ‹...› Лето проводили весело, дома устраивали всякие игры, в которых папа принимал тоже участие, он всегда был весел, энергичен. Часто устраивали детские прогулки. Раз пошли в Пущу-Водицу, там смотрели рыбопитомник и уже вечером возвратились домой. К праздникам Витя (то есть Велимир Хлебников. — М.П.) всегда писал нам на открытках с изображением лотоса. Много писем пропало, а главное, тетрадка, в которой некоторые стихи были посвящены мне, с обращением О, Мария…7
Вся семья Хлебниковых, кроме Кати, жила в Святошине на даче у Дидевич, на 5-й просеке (Дидевич — двоюродная сестра матери поэта. — М.П.). Дом стоял среди пустой усадьбы, кругом только много сосен. Папа, Коля и я жили в это время у дяди Владимира Юрьевича по Северной улице, № 2, и ежедневно ходили на 5-ю просеку, где все вместе проводили целые дни и обедали. ‹...› Лето проводили весело, дома устраивали всякие игры, в которых папа принимал тоже участие, он всегда был весел, энергичен. Часто устраивали детские прогулки. Раз пошли в Пущу-Водицу, там смотрели рыбопитомник и уже вечером возвратились домой. К праздникам Витя (то есть Велимир Хлебников. — М.П.) всегда писал нам на открытках с изображением лотоса. Много писем пропало, а главное, тетрадка, в которой некоторые стихи были посвящены мне, с обращением О, Мария…7В Святошинском парке, в театре «Гран-Гиньоль» в то лето давал представление “ансамбль санкт-петербургской труппы, драматических артистов” под управлением и при участии В.Р. Гардина. Приезжала также труппа “китайских артистов” (по-видимому, тоже из Петербурга), исполнявшая кек-уок, тарантеллу, матчиш и другие “китайские” танцы. После спектаклей в парке допоздна играл оркестр, по праздничным дням устраивались детские гуляния. И хотя решительно не известно, посещали ли молодые представители родственных семейств эти увеселения, но трудно предположить, что близость Святошинского парка не легла какой-то краской — хоть легким мазком — в картину летних вакаций 1909 года.
Молодые люди в меру озоровали — например, из письма Александра Хлебникова, брата поэта, известно, что их сестра Вера — впоследствии художница и жена художника П. Митурича — „испортила стену г. Дидевич”,8![]()
![]()

Все молодые люди были одарены — каждый на свой лад. Юный Коля Рябчевский, двоюродный брат Велимира Хлебникова, выказывал, например, незаурядные музыкальные способности и проходил в Киеве курс теории и композиции у Р.М. Глиэра. М.Н. Качинская-Рябчевская в уже цитировавшихся воспоминаниях рассказывает, что в один из следующих приездов семьи Рябчевских из Одессы в Святошин
Это мемуарное свидетельство тем более ценно, что составляет как бы комментарий к написанному несколько лет спустя после святошинских вакаций хлебниковскому прозаическому фрагменту «Коля был красивый мальчик…» Фрагмент посвящен размышлениям о необыкновенной одаренности Коли Рябчевского, о жертвенности таланта и завершается мрачными предчувствиями, почти пророчествами, которые, увы, сбылись. Н.Н. Рябчевский погиб на двадцать четвертом году жизни, и Хлебников лишь на два года пережил своего двоюродного брата.
Мучительно воспринимая несовершенство мира, Хлебников искал выхода в фантастической “машине времени”, которая переносила бы человека в уютное “родное время”, как транспорт может перенести его в родные места. Мое настроение в начале лета, — писал он В. Каменскому из Святошина 8 августа 1909 года, — можно было назвать настроением “велей злобы” на тот мир и на тот век, в который я заброшен по милости благого провидения, теперь же я утихомирился и смотрю на божий свет “тихими очами”. Задумал сложное произведение «Поперек времени», где права логики времени и пространства нарушались бы столько раз, сколько пьяница в час прикладывается к рюмке ‹...› Заключительная глава — мой проект на будущее человечества. ‹...›11![]()
В то лето слово “конфликт” чуть было не приняло прямой, конкретный и кровавый смысл: Хлебников собирался с оружием в руках выйти к дуэльному барьеру. Дуэль к тому времени была уже делом безнадежно старомодным (хотя в начале века и воскрешалась небезуспешно, особенно в военной среде), но могла ли угроза старомодности остановить Хлебникова, — поэта, жившего сразу во многих временах, непрерывно нарушавшего права логики времени и пространства? Особенно примечательно, что к барьеру он намеревался выйти за другого, защищая честь и достоинство незаслуженно оскорбленного писателя А.М. Ремизова, своего старшего друга и наставника. Подобно Дон Кихоту, Хлебников готов был защищать с оружием в руках то, во что верил, нисколько не заботясь, чтобы его действия не показались кому-нибудь смешными или неуместными. Обиду, нанесенную чести и достоинству русского писателя, он воспринимал как личную.
Алексей Михайлович Ремизов, честнейший человек и изощренный мастер русского слова, был обвинен в плагиате газетчиком, не разбиравшимся в вопросах, очевидных для фольклориста: в разнице между авторской и фольклорной сказкой, между сырой фольклористической записью и ее литературной обработкой. Хлебников взвился на дыбы. Он кинулся выручать оболганного писателя, помогать ему и первым делом, по просьбе Ремизова, обежал ряд киевских газетных редакций, разыскивая перепечатки петербургской клеветнической заметки и местные отклики. Он ходил от одного знакомого к другому, изливая свое возмущение, и с удивлением видел, что интеллигентные знакомые если и не поверили газетной заметке вполне, то, по крайней мере, допускают возможность правоты журналиста. Хлебников натолкнулся на пошлую осторожность “порядочных людей”, занявших по отношению к Ремизову известную позицию: то ли он шубу украл, то ли у него шубу украли, но что-то такое было… Но предоставим слово Хлебникову.
Честь должна быть смыта, — писал он в уже цитированном письме В. Каменскому от 8 августа. — Если Алексей Михайлович не хочет гордо искать удовлетворения, то он должен позволить искать удовлетворения его друзьям. Мы должны выступить защитниками чести русского писателя, этого храма, взятого на откуп — как гайдамаки, — с оружием в руках и кровию. К черту третейские суды, здесь нужны хмель и иное пламя. Пусть Алексей Михайлович потребует удовлетворения от издателя газеты г. Проппера. Так как, вероятно, сам он не захочет, да его и не пустят друзья, то он должен дать право своим друзьям искать удовлетворения. Так должен вести себя писатель с гордо поднятой головою — жрец истины. Мы должны сплотиться вокруг Алек‹сея› Мих‹айловича› как его друзья. Пусть Ал‹ексей› Мих‹айлович› помнит, что каждый из его друзей гордо встанет у барьера защищать его честь и честь вообще русского писателя, как гайдамак вставал за право родины. Но этот же знакомый может и не подать руки, видя его отказывающимся от благородной услуги друга, сносящим пощечины. Итак, еще раз: я был бы гордым стать у барьера за честь Алек‹сея› Мих‹айловича› и за честь вообще писателя. ‹...›12![]()
Легко представить себе, с каким клокочущим сердцем было написано это письмо. Обращает на себя внимание дважды повторенное сравнение с гайдамаком: Хлебников числил себя украинцем по материнской линии (из рода Вербицких), и его нисколько не смущало, что честь русского писателя он намерен защищать как украинский повстанец. Поэт устанавливал некое наднациональное единство порядочности, интернационал благородства. Впоследствии А.М. Ремизов рассказывал, каких превеликих усилий стоило ему и его друзьям отговорить, удержать Хлебникова от ненужной и нелепой затеи. Удержать его было тем труднее, что свою затею он рассматривал как поэтический поступок.
Эта история, изогнутая воображением художника, отразилась в романе А.М. Ремизова «Крестовые сестры», написанном по свежим следам событий — в 1910 году. В перемежающемся многоголосии человеческих болей, бед и обид, которые, сливаясь, образуют роман Ремизова, звучит и обида маленького бухгалтера Маракулина. Долгие годы беспорочной службы он с гордостью нес кличку “немец”, присвоенную ему за педантичную честность и аккуратность, как вдруг был изгнан со службы по нелепому беспочвенному подозрению. Растерявшись от незаслуженной обиды, он совсем впал бы, как говорили в ту пору, “в ничтожество”, если бы не его приятель из купцов, книгочей и фантазер Плотников. Приятель трижды (как в сказке, характерным для фольклористического мышления Ремизова образом) выручил Маракулина из беды: “в первый раз ограждая, в другой раз устраивая, наконец, в третий раз выручая”. Подобно сказочному герою, Плотников совершает три подвига, после чего расстается со своим подопечным и уходит из романа…
В этих эпизодах «Крестовых сестер» литературовед А.А. Данилевский разглядел причудливое отражение реальных событий предыдущего, 1909 года. Свалившееся на голову Ремизова несправедливое обвинение в плагиате, изоляция, которой подвергли Ремизова, захлопнув перед ним двери редакций, и услуги, оказанные Ремизову Хлебниковым, — все это претворилось в эпизоды романа.
Разумеется, Маракулин — не Ремизов, а Плотников — не Хлебников, это самостоятельные художественные образы, отличные от прототипов по всем статьям, начиная с социального положения и едва ли кончая интеллектуально-культурным уровнем. Но в ситуациях, связывающих в романе эти образы, проглядывают подлинные, жизненно достоверные связи автора и его молодого друга, а в Маракулине и Плотникове брезжат какие-то характерологические черточки Ремизова и Хлебникова. Претензия Плотникова на управление от лица России земным шаром прямо указывает на носителя отдаленно сходных планов — прототип образа маракулинского друга, — считает А.А. Данилевский. Это будущий Председатель Земного Шара, „планетчик”, по словам Ремизова, хотевший „обрусить земной шар”, поэт Хлебников. Пьяная же “бессмыслица” Плотникова — это завуалированно-ироническое изложение идейно-эстетического кредо Хлебникова 1909–1910 гг. в ремизовском его понимании, включающее и ремизовское отношение к нему.
Угадка А.А. Данилевского тем более основательна, что Ремизов и сам называл свой роман „исповедью” и жаловался, что не напишет другой такой вещи „по напряжению, по огорчению против мира”. Несправедливое обвинение в плагиате было, вне сомнения, той последней каплей бесчисленных нанесенных Ремизову миром огорчений, которая выплеснулась в чашу романа «Крестовые сестры». Угадка литературоведа подтверждается и тем, что, “ограждая” Маракулина, Плотников проявил совершенно хлебниковскую решимость: избил обидчика „всенародно и не без внушения”. И тем, что обидчик поименован Сашкой, сниженным именем критика Александра Измайлова. И тем, что подобное превращение “житейского” в “литературное” было в обычаях той эпохи, в обычаях Ремизова — не меньше и не больше, чем у других. За год до «Крестовых сестер» он написал — на автобиографическом материале — рассказ «Эмалиоль» (1909) о том, как политического ссыльного гонят пешком по этапу — вместе с уголовниками. Жертвой подобной ошибки тюремно-пересыльного начальства стал некогда Ремизов. И вот автобиографическому герою писатель присвоил фамилию своего друга, пребывающего в киевском отпуске: Хлебников. Трудно не увидеть здесь по-ремизовски прихотливую форму скрытого, “внутреннего” посвящения… „Целый год продолжалась их трогательная и нежная дружба, — сообщается в «Крестовых сестрах». — А потом как-то после летних каникул Плотников вырос, и уж ничего не осталось в нем от того котятного и щенятного, что тянуло Маракулина просто подойти и погладить его, как зверушку”.13![]()
С этого момента и начался отход Хлебникова от Ремизова. Юный максималист не простил старшему другу его трезвость. Запрет, наложенный Ремизовым на попытку дуэли, возможно, стал причиной охлаждения и разрыва, как предупреждало хлебниковское письмо и как неоспоримо, хотя и косвенно, прикровенно свидетельствует ремизовский роман.
Не следует забывать, что тем летом святошинскому Дон Кихоту было всего двадцать четыре года, что он был поэт и, следовательно, влюблен.  Разумеется, киевский роман Хлебникова (если только можно назвать это романом) был подобен всем другим его бесчисленным влюбленностям — нежным и трогательным обожаниям, бесконечно далеким от победительного сердцеедства. По-видимому, роман протекал или по крайней мере завязался в Святошине и, вполне возможно, что юный “предмет” даже не догадывался о чувствах, которые вызвал. Свои чувства Хлебников изживал стихами — пусть читатель вспомнит тетрадку с обращениями О, Мария!, подаренную М.Н. Качинской-Рябчевской, и открытки с изображениями лотоса, посылавшиеся ей же, о чем шла речь в приводившихся отрывках ее воспоминаний.
Разумеется, киевский роман Хлебникова (если только можно назвать это романом) был подобен всем другим его бесчисленным влюбленностям — нежным и трогательным обожаниям, бесконечно далеким от победительного сердцеедства. По-видимому, роман протекал или по крайней мере завязался в Святошине и, вполне возможно, что юный “предмет” даже не догадывался о чувствах, которые вызвал. Свои чувства Хлебников изживал стихами — пусть читатель вспомнит тетрадку с обращениями О, Мария!, подаренную М.Н. Качинской-Рябчевской, и открытки с изображениями лотоса, посылавшиеся ей же, о чем шла речь в приводившихся отрывках ее воспоминаний.
Сохранилась такая открытка, посланная шесть лет спустя после святошинских вакаций, когда Мария Николаевна была уже замужем. В почтовой прозе, почти неотличимой от его стихов, Хлебников комментировал изображенный на открытке цветок лотоса:
Поздравительная открытка Хлебникова — это произведение Хлебникова, со свойственной его стихам ритмикой, строфикой (прикрытой записью “в строчку”), рифмовкой — и мифологией. Из седого Го аспа — древнеперсидской “Страны коней”, как поэтически называл Хлебников родной астраханский край, — он раскидывает поэтические сети дружбы, объединяющей разноположенные края Индии и Приднепровья, создает, если воспользоваться формулой Гёте, свой «Западно-Восточный диван», включает в свое имя название Ганга, священной реки „страны чудес” — прародины индоевропейцев, — и, вопреки лотосу, царице моря и цветку забвения, подчеркивает: помнящий. Объявляя лотос обручальным кольцом Индии, Хлебников как бы “обручается” с адресатом, вступает в идеальный мифопоэтический союз.
Когда Мария Николаевна выходила замуж, Хлебников написал ей поэтическое послание под странным и даже загадочным названием «Армянское Я». Концовка этого стихотворения — откровенное признание в любви:
В публикациях этого стихотворения перед приведенным отрывком проставлена строчка точек — знак пропуска. Пропуск — не авторский, он принадлежит публикатору, не сумевшему разобрать хлебниковский текст. Этот опущенный фрагмент был прочитан Валентиной Мордерер — на месте отточия оказались, между прочим, такие строки:
Го асп — так в письме, приведенном выше, Хлебников именовал самого себя. Здесь, в этих стихах, Хлебников слагает миф о себе самом и своем воображаемом браке с адресатом послания. Но адресат — двоюродная сестра поэта, и кровная связь с нею делает брак невозможным. Тогда Хлебников “вспоминает”, что в нем течет и другая, армянская кровь (от рода Алабовых), и, чтобы избежать инцеста или преодолеть запрет на инцест, находит чисто мифопоэтический способ (бриколаж) преодоления противоречий, свойственных мифу же. Он, дескать, любит свою сестру-славянку другой частью своего “состава крови” — армянской, и тем самым воображаемый грех кровосмешения отменен. Потому-то послание ей сочиняется от имени армянского Я поэта…
Свои личные отношения Хлебников мыслил как глобальные и даже космические: не его, молодого человека и студента, влечет к юной родственнице, но через него, поэта, Восток хочет слиться с Западом. На мышление поэта решающее влияние оказал город его детства — Астрахань, „самый онтологический город” в России, по словам умнейшего и образованнейшего Дм. Мирского.
Критик имел в виду, что Астрахань, расположенная на исторической волжской магистрали неподалеку от внутреннего “азийского” моря, стала точкой схождения, точкой пересечения великих судеб человечества: здесь пролегал путь в Персию и Индию, здесь Запад встречался с Востоком, Восток перетекал в Запад, славянский мир обнимался с азиатским. Но разве не той же судьбоносностью был отмечен и Киев, раскинувшийся на холмах, которые контролировали великий днепровский путь, соединяющий этносы, народы, страны? Киев, расположившийся на границе леса и степи, западного и восточного славянства? Киев, ворота и перевалочный пункт исторических культурных влияний, идущих сквозь время и пространство из античной Греции и христианской Византии?
Осип Брик рассказывал, что в первый год мировой войны в одном петроградском доме зашел разговор о беженцах, сметенных волной немецкого наступления и заполнивших столицу. Из-за наплыва „этих провинциалов” Петроград (Петербург был переименован сразу после начала войны с Германией) приобрел, дескать, несвойственный ему “провинциальный” вид. Хлебников, сидевший в стороне и, похожий на нахохленную птицу, как всегда молча слушавший, в этом месте вмешался в разговор. Он заговорил необычно громко, с несвойственной ему резкостью. Слово провинция, объяснил он, происходит от латинского pro, что значит за, и латинского же vincere, что значит воевать. Следовательно, слово ‘провинция’, вел дальше Хлебников, означает “завоеванная территория”, “присоединенная область”. Поэтому провинциалами следует называть не беженцев из западных областей империи, а как раз жителей Петрограда.
У Хлебникова был замечательный филологический слух, и общеупотребительное слово он немедленно вернул к его первородному смыслу. “Провинциальное”, по Хлебникову, противостоит не “столичному” (как было в расхожей бытовой речи), а “исконно родному”, “изначально собственному”. Но у Хлебникова был и поразительный исторический слух: он как бы слышал всю историю одновременно. Он словно бы видел в каждый отдельный момент всю карту страны в ее исторической динамике…
При таком филологическом и историческом слухе он ни в коем случае не мог относиться к Киеву как к провинции. Какая уж там провинция, если «Повесть временных лет», где сказано „откуда есть пошла земля Руская”, обладала для него не меньшей актуальностью, чем сегодняшняя газета. Реплика в петербургском разговоре 1914 года дает ключ к пониманию киевских образов, возникших в воображении поэта во время святошинских вакаций — и после них.
Тем более, что Хлебников, по свидетельству Дм. Петровского, считая украинский язык более архаичным, нежели русский, видел в нем живые черты того “праславянского языка”, который он реконструировал в поэтическом творчестве. „Хлебников, — заметил Н. Ушаков, — ввел украинизмы в русскую поэзию, не связывая их с украинской тематикой, исключительно под предлогом расширения словаря русского. У Хлебникова: ‘чоботы’, ‘чарторый’, ‘кигитки, киги’, ‘вырей’, ‘мавка’, ‘дереза’, ‘клуня’, ‘млын’, ‘крученый паныч’ — затем перешедший к Пастернаку, и т.д.”16![]()
Хлебников не мог не ощутить историко-культурную “рифму”, связующую Астрахань и Киев, не мог не откликнуться на странное устройство этого города, древнейшего центра цивилизации, ухитрившегося сохранить живую и непосредственную связь со своей природной, ландшафтной основой. В напряженном поэтическом поиске всевозможных синтезов Хлебников не мог пройти мимо историко-культурного опыта Киева. Образ этого города нет-нет да и появлялся в его стихах еще до разнообразно насыщенного святошинского лета, после же — сделался постоянным знаком в размышлениях Хлебникова об истории и культуре. В этом образе поэт сопрягал грандиозные историософские смыслы с наиконкретнейшими деталями.
В распоряжении известного хлебниковеда А. Парниса находится неизданный парус (глава) из сверхповести Хлебникова «Дети Выдры», причем следует учесть, что слово парус у Хлебникова многозначно. Это и часть оснастки корабля, и одновременно — одна из плоскостей, которые в совокупности образуют сложный объем купола, часть его конструктивной развертки. Полное, начертанное рукой Хлебникова название этого паруса: Сын Выдры перед поездкой по морю. Останавливается в Киеве (Киевские впечатления). Киевские впечатления хлебниковского персонажа без труда отождествляются с собственными впечатлениями поэта. В этой главе (парусе) есть такие строки (сочиняя их, Хлебников, конечно, помнил пушкинские стихи о „тополе киевских высот”):
Киевское время в тех же «Детях Выдры» оспаривает реальное. В нем, не пересекаясь, соприсутствуют древние русы, насыпавшие курган и пирующие на нем (как в “киевской” балладе Пушкина «Песнь о вещем Олеге»), — и приехавшие к этому кургану на автомобиле горожане, — туристы, по-видимому. Собственное время хлебниковской поэмы обратимо, оно может двигаться вперед и назад: выходящие из кургана скелеты превращаются в юных новобрачных, мертвое превращается в живое. Здесь днепровские воды выбрасывают на берег не Перуна (легендарное: „Выдобай, боже!”), а статую Афродиты, которая становится сначала самой богиней красоты и любви, а затем обращается в пену, то есть проделывает эволюцию, обратную заявленной в мифе (напоминая мандельштамовское „Останься пеной, Афродита!”).
В сцене, так прямо и названной «Киевские впечатления», Сын Выдры попадает в подземелье Киево-Печерской лавры, и с ним, насколько можно судить, происходит то же, что с Данте в Аду: спускаясь все ниже, он, вопреки физике, но в полном соответствии с хлебниковской “идеологической логикой”, оказывается наверху. Киевское пространство, по Хлебникову, оспаривает реальное так же, как и время. Хлебников с его напряженным мифологическим мышлением заметил, надо полагать, мифологическую парадоксальность пространственных ориентаций киевских пещер: они устремляются вглубь, но почему-то на самых высоких точках городской топографии.
В «Зангези», чье название (характерно для синтезирующего хлебниковского мышления) сочетает названия великих рек Азии и Африки — Ганга и Замбези — Киев предстает как некий Феникс, непрерывно погибающий и непрерывно возрождающийся:
Хлебников взял Киев с собой в свои скитания по градам и весям, словно некий эталон города, единицу “городоведения”, если в число утопических наук, изобретенных Хлебниковым, включить и такую, вполне реальную. После киевского эпизода с утонувшим крестиком (описанного в начале этого очерка) Хлебников попал в Нижний Новгород — и сразу же стал прилагать к нему киевский эталон, мерить его киевской меркой. Поэт немедленно окрестил Нижний Киевом на Оке и стал развивать только что рожденный образ:
Напряженно пульсирующая точка на исторической карте человечества — вот чем был Киев для Хлебникова, и он снова и снова возвращался к нему поэтической мыслью, соединяющей старое и новое, древнейшие времена праславянства и славные времена Киевской Руси, былой гнев гайдамацких восстаний и нынешний — социальной революции, которая тоже включалась в поэтический — киевский — миф:
Смывая троны, как некогда смыла Перуна, днепровская вода, полагал Хлебников, исправляет собственную ошибку: она крестила, она же “раскрещивает”, порождая будущее, которое сомкнётся с прошлым. И единый смертных разговор — грядущее единство человечества — отразит в себе минувшее единство, по кругу вернется к гипотетической целостности, существовавшей до раздробления первоначального языкового ядра, из которого развились нынешние языки. “Киевский миф” становится у поэта универсальным инструментом преодоления “разрыва времен”, “машиной для уничтожения времени”, как определил миф К. Леви-Стросс. История, трудная и кровавая, прекратится, и наступят вечные “вакации” — свободное сосуществование всех времен, блаженное “всегда”…

| Передвижная Выставка современного изобразительного искусства им. В.В. Каменского | ||
| карта сайта | 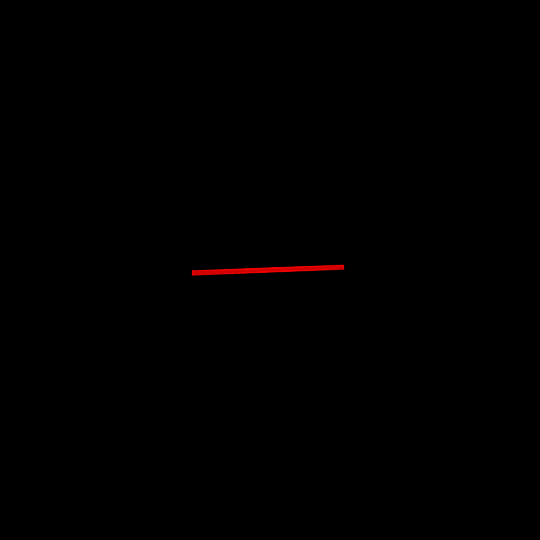 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||