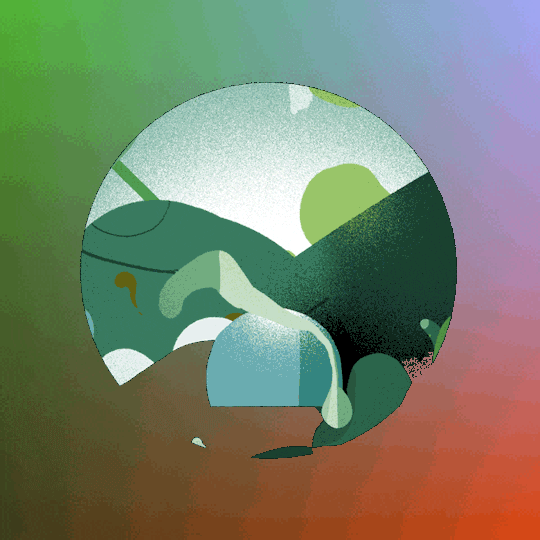А.А. Бруни-Соколова

Это было летом 1917 года... Мы ещё жили тогда в Петрограде, в Академии Художеств, в квартире №5, но пленительный уют этой квартиры уже сильно пострадал; лучшие вещи были проданы, люди, и населявшие её и часто ее посещавшие, поразъехались, потрясения общественной жизни, новизна и напряженность её и угнетали и вздёргивали настроение. Вернувшись откуда-то (после экскурсий, имевших целью разыскать что-нибудь из продуктов) к завтраку, я застала внизу в столовой Петникова (с которым я, впрочем, не была раньше знакома), а с ним увидела и высокого, худого, прямого военного как я думала, в защитного цвета штанах и куртке, совершенно изношенных и как будто с трудом прикреплённых на нём. Меня поразила напряжённая вытянутость всей его фигуры и шеи и такая же устремленность взгляда больших голубовато-серых малоподвижных глаз. Лёва с гордостью мне представил его, назвав Велимиром Хлебниковым. До этого дня он ещё не был у нас, но личность и творчество его нас очень интересовали. В те годы в нашем доме била ключом интенсивная жизнь. Сыновья мои были ещё очень юные, но взрослые люди, полные сил и талантов. К нам само собою притекало всё, что составляло цвет всех родов искусства в то время. Как-то раз, в один из случайно возникших у нас творческих вечеров, нашим друзьям захотелось привлечь Хлебникова. Им было известно, что он в этот вечер находится у общих знакомых. Позвонили по телефону и вызвали Хлебникова. Стали просить его к нам. Он отказался, „потому что ему здесь немножко уютно”. Теперь я с интересом вглядывалась в него, здороваясь... Длинное, очень особенное, некрасивое, но значительное лицо, нежный женственный рот, маленькие изящные уши. Он пожал мою руку и встал вплотную у стены, рядом с дверью в кухню, заложив руки за спину, но ничуть при этом не ослабляя натянутых мускулов. Я пошла посмотреть, что послала судьба нам и нашим гостям к завтраку, и направила в столовую Акулину, кухарку, за какой-то посудой. Вернувшись через минуту, кухарка Акулина, только что видевшая Хлебникова, словно прикованного к стене рядом с дверью, встретила меня в кухне не то в экстазе, не то в ужасе: „Ах, барыня!.. Какой он горящий! (Она произносила ‘го’ немножко как ‘хо’.) Ах, какой горящий!” Это её поразил Хлебников, а под словом ‘горящий’ она подразумевала одновременно и ‘терпящий горе’ и ‘горящий огнём’. Это определение неграмотной новгородской бабы было необычайно метко для Хлебникова. У Петникова, тоже очень высокого и худого, были длинные волосы, немножко провинциальный костюм и перстень на пальце. Он мне показался очень противоположным с Хлебниковым. За столом больше говорил Петников. Хлебников только изредка вставлял какое-нибудь замечание — быстро, как бы скороговоркой, и очень кратко. Впоследствии, когда мы с Лёвой съездили с Хлебниковым на Острова, а там, лёжа на травке, Лёва просил его сказать какие-нибудь его стихи, он, по-видимому, сделал это не очень охотно. Говорил при этом стихи так же быстро, до последнего предела просто, стремительно и как бы вполголоса. Говорил так, что каждому заправскому декламатору, наверно, показалось бы, что он усиленно старается не выдвинуть, а скрыть все красоты своего произведения от слушателей. И тем не менее впечатление от его чтения получалось гармоничное и глубокое. За завтраком речь шла преимущественно об основании „Общества Председателей земного шара”, для чего Хлебников, по-видимому, и приехал в Петербург. Несмотря на то, что он был крайне немногоречив, ясно чувствовалось, что эта затея его чрезвычайно увлекла и поглощала все его мысли... После завтрака мне надо было идти на Петроградскую сторону, а Хлебников тоже собрался куда-то. Он надел свою длинную солдатскую шинель, протёртую и общипанную, и совсем уже невозможную кепку. Мы вышли вместе и прошли от Четвёртой линии по набережной мимо Соловьёвского сквера. Шли, продолжая разговор на те же темы, и я чувствовала себя в его обществе чрезвычайно непринужденно и просто. Я пробыла в отсутствии несколько часов, а когда возвращалась домой тем же путём, то, к удивлению своему, увидела, что у Соловьёвского сквера, как раз на том же месте, где мы с Хлебниковым расстались, его фигура на ходу опять присоединилась ко мне. Такая случайность показалась мне забавной, и я, смеясь, что-то сказала об этом. Но Хлебников, очевидно, даже ничего не заметил; мысли так поглощали его, что все прошедшие тем временем часы как будто и вовсе для него не существовали... Хлебников пробыл у нас два дня, и пребывание это оставило по себе впечатление чего-то необычайно полного и обогащающего... И Лёва и я получили предложение вступить в число Председателей земного шара. Я отвечала уклончиво. Лёва отказался мягко, но решительно, ссылаясь на полную неподготовленность и неуверенность в своих силах. Хлебников промолчал, но по внимательному взгляду, устремленному им на Лёву, видно было, что такой ответ его озадачил и внушил ему уважение... Когда Хлебников уезжал и прощался, я принесла маленький крестик на тесёмочке и предложила надеть этот крестик ему на шею... А впоследствии я получила от него открытку из Киева. Поток тревожных событий в моей личной жизни, к сожалению, не дал мне возможности сохранить этот ценный автограф. Привожу содержание по памяти: „Днепру Славутичу, очевидно, не угодно было оставить ваш крест у меня на шее. Когда я купался, он снял его с меня речными волнами”. Прошло много времени. Я больше никогда не видела Хлебникова. До нас доходили слухи о болезни Хлебникова, о необыкновенной приверженной любви к нему Митурича... Вот рассказ о нём Наташи Митурич, ухаживавшей за ним в его последней болезни. Наташа была тогда сельской учительницей в Новгородской губернии. Митурич привёз Хлебникова к ней почти умирающим. „Я тогда согласилась принять его, — говорила Наташа, — потому что я на все бы согласилась, о чём бы ни попросил меня Митурич, — так я его любила... Митурич привёз его со станции на простой телеге, шаг за шагом, чтобы как можно слабей была тряска. В ту пору все пути сообщения были так трудны, и станция так далеко от нас. Митурич всё время боялся, как бы Хлебников не умер дорогой... однако он прожил у нас ещё долго. В конце концов всё же пришлось перевезти его в больницу... Умер он тихо, без жалоб, без ропота”.
За всю мою жизнь, длящуюся уже три четверти века, я не встречала ничего более трагического, чем эта смерть, и вообще чем весь образ “горящего” Хлебникова... Мир праху твоему, мир и твоему духу, сгоревший в пламени своего гения и всё же горящий в свете своего творчества, дорогой Виктор Хлебников!
Публикация А. Парниса
Воспроизведено по:
Литературное обозрение. 1985 г., №12, стр. 98–99
Изображение заимствовано:
Hugo Robus (b. 1885 in Cleveland, OH, US; d. 1964 New York).
One and Another. 1934.
Bronze on wood base. 73.0×111.5×59.4 cm.
Smithsonian American Art Museum, Washington DC, US.
www.flickr.com/photos/goimardantas/3674731509/