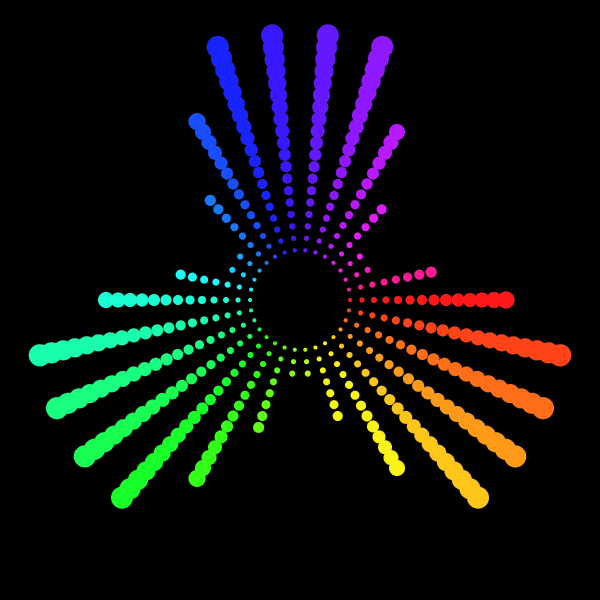Мирослав Шкандрий
Сын степей: самоощущение Давида Бурлюка
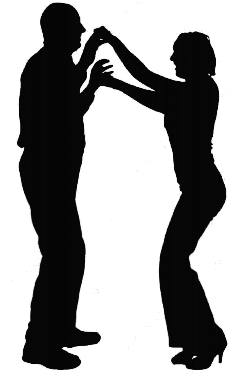
о мнению большинства специалистов, Давид Бурлюк — центр кристаллизации футуризма в Российской империи. Принято считать, что он „во многом придал футуризму его идеологическую направленность: призвал художников и поэтов выйти на улицы, дабы соединить искусство и жизнь, учил понимать изобразительное искусство и поэзию как бесконечный поиск новых форм самовыражения”.
1
К организационному оформлению футуристского движения в дореволюционной России Бурлюк причастен как никто другой: знаковые выставки, нашумевшие издания и общественные мероприятия, а также выработка рекламной стратегии, благодаря которой приобрёл известность и он сам. Без него, писал Марков, в Российской империи не было бы футуризма.
2
Тем не менее, Бурлюк — наименее изученнная и понятая крупная фигура русского авангарда двадцатого века. Учёные мало что могут сказать о нём как о писателе или художнике. Барушьян писал, что „печальная ирония жизни Бурлюка заключается в том, что он организовал авангардное движение первой величины, в то время как сам не смог добиться значительного признания”.
3
Боулт также отметил, что художник „продолжает занимать самое неопределённое место в нынешней табели о рангах авангарда. Творческое наследие Бурлюка серьёзно не исследовано, о нём до смешного мало публикаций, а ведущие специалисты по русскому кубофутуризму относительно художественной ценности творчества Бурлюка высказываются в лучшем случае двусмысленно”.
4
Причин игнорирования Бурлюка наукой две. Во-первых, развёрнутому и беспристрастному изучению его творчества в СССР мешала политика. Бурлюк бежал от революции, пробрался через Сибирь во Владивосток, затем в Японию, после чего эмигрировал в США (1922). Уже с середины 1920-х пролетарский (в дальнейшем и социалистический) реализм внедрялся директивно, а футуризм был признан пережитком прошлого. Должным образом отредактированный и подчищенный Маяковский был присвоен советским режимом; творческое наследие и биография Бурлюка в этом плане оказались куда менее удобными: он сознательно уехал из страны, а затем проживал в США вплоть до своей смерти в 1967 году. Обстоятельства его отъезда были совершенно правильно истолкованы как бегство: над ним нависла угроза преследования со стороны ЧК за то, что его брата Николая, бывшего офицера царской армии, расстреляли в 1922 году лишь потому, что сочли подозрительным, т.е. потенциальным врагом.
5
К тому же семья Бурлюков не была пролетарской, одного этого было достаточно для репрессий. Когда Бурлюк предпринял лекционно-выставочное турне по Сибири в 1917–1918 годах, ему посоветовали не посещать некоторые города, потому что близ них проводились внезапные проверки социальной принадлежности. Сын художника в неопубликованной рукописи свидетельствует, основываясь на воспоминаниях отца: „Вся деревня должна была выстроиться в одну шеренгу с поднятыми руками. ‹...› Комиссар и его комитет расстреливали граждан, если их ладони и пальцы не были такими грубыми от мозолей, как кора дерева”.
6 7
7
Кроме того, Бурлюк был категорически против регламентации литературы. В 1919 году в стихотворении о “чужаках” (Чужак был левым критиком) он сравнил требование тотальной политизации поэзии и подчинения “злобе дня” с поркой крестьянок на барских конюшнях. В целом его отношения с большевизмом оставались неудовлетворительными, хотя в 20–30-е годы он участвовал в коммунистическом движении США и сотрудничал в просоветских изданиях «Русский голос» и «Новый мир».
Во-вторых, громадное художественное наследие, которое самим Бурлюком оценивается в 17 000 картин и примерно столько же акварелей и рисунков,8 не собрано в мало-мальски представительном объёме. Большинство произведений его кисти разбросано по городам Украины, России, Японии, США и Канады. Около 200 полотен Бурлюк написал в Башкирии (1915–1918), ещё 200 — во время поездок по Сибири (1918–1920); 125 куплено коллекционерами и музеями во время пребывания в Японии (1920–1922). Работы, созданные в Ист-Сайде, Нью-Йорк (1922–1939) и в Хэмптон-Бейс, Лонг-Айленд (1940–1967) хранятся во множестве частных собраний и музеев (на закате жизни Бурлюк добился признания в США). Его поэзия, проза и критические эссе крайне редко попадают в печать и анализируются специалистами. Марков в своём знаковом исследовании русского футуризма отверг раннюю поэзию Бурлюка как „беспомощное, чрезвычайно скучное подражание поэзии 80-х годов”.9
не собрано в мало-мальски представительном объёме. Большинство произведений его кисти разбросано по городам Украины, России, Японии, США и Канады. Около 200 полотен Бурлюк написал в Башкирии (1915–1918), ещё 200 — во время поездок по Сибири (1918–1920); 125 куплено коллекционерами и музеями во время пребывания в Японии (1920–1922). Работы, созданные в Ист-Сайде, Нью-Йорк (1922–1939) и в Хэмптон-Бейс, Лонг-Айленд (1940–1967) хранятся во множестве частных собраний и музеев (на закате жизни Бурлюк добился признания в США). Его поэзия, проза и критические эссе крайне редко попадают в печать и анализируются специалистами. Марков в своём знаковом исследовании русского футуризма отверг раннюю поэзию Бурлюка как „беспомощное, чрезвычайно скучное подражание поэзии 80-х годов”.9 Сетования на пренебрежительное отношение критики — рефрен последних десятилетий: „‹...› о литературном творчестве Бурлюка написано и сказано крайне мало ‹...› и бóльшая часть того, что написано и сказано, неверно” (Поступальский);10
Сетования на пренебрежительное отношение критики — рефрен последних десятилетий: „‹...› о литературном творчестве Бурлюка написано и сказано крайне мало ‹...› и бóльшая часть того, что написано и сказано, неверно” (Поступальский);10 репутация Бурлюка как „шоумена, шарлатана и корыстолюбца” отвлекает комментаторов от более глубокого изучения его личности и художественных инноваций (Боулт).11
репутация Бурлюка как „шоумена, шарлатана и корыстолюбца” отвлекает комментаторов от более глубокого изучения его личности и художественных инноваций (Боулт).11
Ещё одна трудность в оценке художественных достижений Бурлюка связана с тем, что он стремительно и загадочно эволюционировал как в интеллектуальном, так и в художественном плане, экспериментируя со множеством стилей — история, которая до сих пор не получила должного объяснения. Наконец, не решён вопрос о чувстве национальной идентичности Бурлюка, что пролило бы дополнительный свет на истоки его вдохновения. Недавняя биография Норберта Евдаева прослеживает жизнь Бурлюка посредством критических обзоров, писем и статей в журнале «Color and Rhyme», который он издавал в США с 1930 года. Благодаря Евдаеву, всплыли многие “забытые” эпизоды из жизни писателя и художника, стали известны некоторые подробности его характера. Тем не менее, в книге чувствуется предвзятость: постсоветская “реабилитация” Евдаевым Бурлюка жёстко привязана к его патриотизму. Он представлен тоскующим по родине, делающим всё возможное, чтобы поддержать страну, которую вынужден был покинуть. Кое-что из этого, конечно, вполне справедливо, но чувство идентичности, лежавшее в основе творческого вдохновения Бурлюка, было, как нам представляется, гораздо более сложным.
Бурлюк с 1923 по 1939 год входил в редакционный совет левой газеты «Русский голос», правил заметки её корреспондентов и сам писал статьи о событиях в области культуры и проблемах угнетённых слоёв населения, неизменно взывая о помощи при стихийных бедствиях в СССР. Первые два десятилетия пребывания в США он вращался в левых русскоязычных кругах среди эмигрантов, которые могли быть евреями, армянами, украинцами или русскими. Однако просоветские высказывания Бурлюка нельзя принимать за чистую монету. Художника поддерживали состоятельные любители живописи, среди которых Роберт Чендлер, миссис Гарриман-Ромси и Кэтрин Дрейер, до 1939 года ярая поклонница Гитлера. А ведь именно Кэтрин Дрейер — автор первой биографии Бурлюка. Одобрение Бурлюком советской власти — типичная перестраховка эмигранта из числа тех, кто ностальгировал по России. Мечтая вернуться, они боялись режима, особенно расправы с родственниками, проживающими в СССР. Ведя в 20-е и 30-е годы жизнь бедствующего художника, Бурлюк-публицист понимал необходимость реверансов в сторону большевистской революции, международной солидарности рабочего класса и коммунизма. Делая такие жесты, он не мог не знать о гонениях на представителей авангардного искусства в Советском Союзе или, например, о натянутых отношениях Маяковского (великий поэт-футурист посетил своего старого друга и наставника в Нью-Йорке в 1925 году) с властями, что в немалой степени способствовало его самоубийству. Бурлюк знал и о запрете в Советском Союзе футуристической литературы, и о том, что многие из его друзей-художников не могут выставиться ни дома, ни за границей. Даже в шестидесятые годы, в самый разгар послесталинской “оттепели”, по распоряжению Хрущёва, заявившего, что всё это можно было намалевать ослиным хвостом, снесли бульдозерами выставку модернистских работ под открытым небом. Любопытно, что глава государства употребил то самое издевательское выражение, которым полвека назад награждали футуристические полотна, а в 1910 году начертала на своём знамени одна из футуристских групп. Именно такого рода “прежние заслуги” подвигли Бурлюка приблизительно с 1927 года утверждать, что дореволюционный футуризм был предвестником большевистской революции. В своих статьях он теперь именовал себя „отцом российского пролетарского футуризма”, защищал былых сподвижников и всячески стараясь доказать свою лояльность режиму. Бóльшая часть его литературной продукции того времени в наши дни воспринимается как скучная пропаганда советского строя, но “бойцы идеологического фронта” и к ним отнеслись с подозрением. Эти опусы как небо и земля отличаются от кипевших воодушевлением дореволюционных публикаций Бурлюка, где он, мало касаясь политики, ратовал за отказ от эстетических клише.
Однако в 1956–57 годах Бурлюку разрешили посетить Советский Союз. К тому времени он знал не только о репрессиях ЧК, от которых бежал в 1919 году, но и о голоде 1933 года, и о сталинских концлагерях. Сыновья Бурлюка выросли американцами и сражались на фронтах Второй мировой войны, сам он на склоне лет вошёл в круг богатых и влиятельных людей. Всё это безусловно исключает наивные просоветские убеждения.
Кроме того, составители биографий не придают значения высказываниям Бурлюка о его культурной идентификации. А ведь этого человека можно охарактеризовать как русского, гордящегося своими украинскими корнями. Его любимым самоназванием было прозвище отец российского футуризма (отец футуризма в Российской империи). У всех на слуху, тем не менее, отец русского футуризма. А ведь это далеко не одно и то же. Россия и производное российский, конечно, могут пониматься как обобщение всех владений дома Романовых, где господствовал русский язык, и большинство деятелей культуры именовались русскими, независимо от их фактического происхождения и культурной принадлежности. Многие биографы используют термины российский (принадлежащий Российской империи) и русский (т.е. этнически русский) взаимозаменяемо, называя Бурлюка отцом русского футуризма, русским писателем, русский патриотом и питомцем русской культуры. В какой-то степени он всем этим действительно был. Впрочем, ни один из биографов Бурлюка не отрицает его украинской идентичности, но только его сын Николай придаёт ей важное значение, объясняя украинством ряд личных убеждений, привычек и свойств характера отца:
Мой отец, Давид Давидович Бурлюк, был украинцем.
12
Никто, встретив моего отца в Америке, с его мягкостью, добротой и большим чувством юмора, которым обладает почти каждый украинец, никогда не мог представить той весёлости, которая была частью его огромной силы и обаяния, когда он был молодым человеком.
13
В юности мой отец очень любил бывать на маленьком кладбище под Рябушками (родовое имение под Сумами, где он родился и вырос. —
М.Ш.). В окружении уединения степей, под массивными дубовыми крестами отдыхали его любимые предки. Аромат полевых цветов дополнял меланхолическую красоту священного места. Он стоял и слушал вздохи ветра в соснах и ивах.
— Вот они лежат, — говорил он. — От них я получил искру жизни, чтобы нести в мир и сам быть живым связующим звеном между прошлым и будущим.
14
В его жизни нет намёка на обречённость или выразительную неудачу, ибо он был настоящим украинцем: человеком радости и смеха.
15
Трудно было представить себе зимовку в Японии и попытку согреть дрожащее тело у крохотной печки-хибати (так в оригинале. —
М.Ш.), стоящей на соломенных циновках. Окружённые стенами, дверями и окнами из бумаги — всё напоминало какую-то декорацию — было слишком для украинца, привыкшего к потрескиванию печи, непродуваемым тяжелым стенам и окнам со ставнями.
16
Николай также вспоминает, что во время своих знаменитых археологических раскопок братья Бурлюки слушали рассказы местных жителей о старине и песни бандуристов.17 Даже привычка Бурлюка носить одну серьгу в правом ухе была, по мнению его сына, „в духе украинского казачества”.18
Даже привычка Бурлюка носить одну серьгу в правом ухе была, по мнению его сына, „в духе украинского казачества”.18
Украинскую принадлежность Бурлюка подтверждает и художник Аристарх Лентулов. С его слов записано: „Я был у них в гостях, гостил у них. Это украинцы настоящие, хотя мать еврейка”.19 В своих ранних произведениях Бурлюк неизменно использует слово Россия для обозначения владений Российской империи (провозглашена Петром Великим в 1721 г.) и Русь как термин, суммирующий культурно-политическую идентичность России и Украины времён средневековья. В стихотворении «Россия под красным флагом: Русь — Россия — СССР» он уподобил мощный напор Днепра запорожским казакам: это они вращают лопасти турбин, а те энергетически подпитывают революцию.20
В своих ранних произведениях Бурлюк неизменно использует слово Россия для обозначения владений Российской империи (провозглашена Петром Великим в 1721 г.) и Русь как термин, суммирующий культурно-политическую идентичность России и Украины времён средневековья. В стихотворении «Россия под красным флагом: Русь — Россия — СССР» он уподобил мощный напор Днепра запорожским казакам: это они вращают лопасти турбин, а те энергетически подпитывают революцию.20 Эпический образ казака, совершенно в духе Тараса Шевченко и Петро Сагайдачного, у Бурлюка нередок.
Эпический образ казака, совершенно в духе Тараса Шевченко и Петро Сагайдачного, у Бурлюка нередок.
Игнорирование самоидентификации Бурлюка как украинца не является чем-то необычным. Перипетиями его жизненного пути, а также влиянием Малевича не менее часто пренебрегают, в лучшем случае преуменьшают их. Матери Татлина и Хлебникова тоже были украинками, и эти два гиганта проявляли свою национально-культурные чувства гораздо более сложным образом, чем принято считать. Возможно, камнем преткновения здесь являются конкурирующие интерпретации и ярлыки. Бурлюка можно рассматривать и как русского радикала, сочувствующего марксизму, и как ассимилированного украинца, отвернувшегося от своего народа, — и как украинца, который питал родовыми корнями творческое вдохновение.
Хотя большинство исследователей считают Санкт-Петербург и Москву 1910–1912 гг. местами зарождения в Российской империи футуризма, невозможно переоценить выставку «Венок» (1908) в Киеве и украинский фон создания группы «Гилея».21 Необходима более тонкая оценка этих подробностей, тем более что Бурлюк последовательно воспринимал себя как украинца и придавал такому самоопределению большое значение. Особый интерес представляют три документа, два из которых оставлены лично Бурлюком и один — его сестрой.22
Необходима более тонкая оценка этих подробностей, тем более что Бурлюк последовательно воспринимал себя как украинца и придавал такому самоопределению большое значение. Особый интерес представляют три документа, два из которых оставлены лично Бурлюком и один — его сестрой.22 Из них мы узнаем, что предки Давида Бурлюка вплоть до 1775 года служили писарями в Запорожской Сечи, и что их портреты висели на стенах дома его прадеда. Все, кто знал отца Бурлюка, уверяли, что именно Давид Фёдорович позировал Репину для сидящего на бочке мощного полубнажённого казака со знаменитого полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».23
Из них мы узнаем, что предки Давида Бурлюка вплоть до 1775 года служили писарями в Запорожской Сечи, и что их портреты висели на стенах дома его прадеда. Все, кто знал отца Бурлюка, уверяли, что именно Давид Фёдорович позировал Репину для сидящего на бочке мощного полубнажённого казака со знаменитого полотна «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».23 24
24
В одной из автобиографических заметок Бурлюк объясняет свой характер и взгляды на жизнь именно казацкой генетикой. Воспитание на Украине повлияло не только на его интеллектуальное становление (чтение Гоголя и подзапретного Шевченко, посещение «Наталки-Полтавки» Котляевского), но и, по его собственному признанию, на творческое развитие. Поскольку эти высказывания крайне редко публикуются, стоит привести хотя бы отрывки:
О предках своих мог бы написать целую книжищу. И напишу когда-нибудь, времени больше будет. Пока пишу по-русски. А потом, может быть, и на родной украинский язык перейду. Ибо родился на Украине ‹...› Украина ‹...› была и остаётся моей Родиной.
Там лежат кости моих предков.
Вольных казаков, рубившихся во славу силы и свободы. ‹...›
Я посчитал своим долгом здесь в нескольких чертах вспомнить некоторых из предков моих, ибо чую всегда связь с ними; хотя кажется на первый взгляд, они и я так различны, но прочтя о них до конца, читатель увидит роль наследственности. ‹...›
Чтобы разобраться в самом себе, „гнотхи сеавтон”, как говорили греки, познай самого себя, — надо узнать о своих предках, ибо оттуда пришли те черты характера, с которыми приходится потом всю жизнь пытаться строить. ‹...›
Что связывало их в один общий тип? Упрямство, характер, стремление овладеть раз намеченным.
Во всю свою жизнь в себе я чуял эти же черты... Но было упрямство моё направлено к преодолению старого, изжитого вкуса и к проповеди, к введению в жизнь нового искусства, дикой красоты. ‹...›
Отец писал по-русски и по-украински, на последнем, родном, языке — мало. ‹...›
В том же 1915 году картина «Святослав», стиль старинной украинской живописи ‹...›
Что касается преобладания того или иного цветового решения в моём творчестве, то должен сказать, что в моём лице Украина имеет своего самого верного сына. Мои цветовые решения глубоко национальны. Оранжевые, зеленовато-жёлтые, красные и синие тона льются Ниагарой из-под моей дерзости. Когда я рисую, мне кажется, что я дикарь, тру палочку одного цвета о другой, чтобы получить определённый цветовой эффект. Эффект пламени. Эффект страсти, сексуальное возбуждение характерных черт и особенностей одного цвета другим ‹...›
Дитя украинских степей, я всегда был неравнодушен к горизонтальным форматам ‹...›
Было бы неплохо перенести часть моих картин в Украину, на мою любимую родину.
В послевоенные годы публицисты вроде Маланюка, Гришко и Дывнича (Лавриненко), заклеймили многих украинцев из “русской” эмиграции в США американскими малоросами (малоросы — пренебрежительное название лиц с явно выраженной культурной идентичностью, не имеющее политического подтекста) и даже отказали им в праве называться украинцами. Большинство обвинений, выдвигаемых ими против американских малоросов, можно отнести непосредственно к Бурлюку. И действительно, такого рода филиппики часто звучат так, будто адресованы лично Бурлюку. Приведённые выше цитаты показывают, впрочем, что художник не только благожелательно высказывался о том, что считается атрибутами украинства, но и ввёл их в свои определения футуризма и современного искусства в целом. Собственно, само понимание того, чем был или должен был стать футуризм, слилось у Бурлюка с ощущением своей украинской идентичности.25
В первые десятилетия ХХ века и в поэзии, и в живописи Давида Бурлюка обнаруживаются качества, прославившие его: грубый напор, почти физиологический культ жизненной силы, дикарская радость существования, утрированный эротизм. Последний стал притчей на языцех после заявления Бурлюка о привлекательности для него всех женщин, не достигших девяноста лет.26 Этими эксцессами Бурлюк противостоял тому, что считал изнеженным и упадочным. Своё (т.е. футуристическое) буйство он оправдывал стремлением претворить в жизнь подспудную мечту бедняка — независимость. На протяжении всей своей карьеры Бурлюк изображал повседневную жизнь простых людей, наслаждающихся жизнью. Его искусство изобилует сценами чаепитий, пикников, деревенских и городских улиц, трактиров. На этих полотнах жизнеутверждающая энергия бьёт через край, персонажи деятельны и бодры, что имплицитно сулит человечеству безбедное и гармоничное будущее.
Этими эксцессами Бурлюк противостоял тому, что считал изнеженным и упадочным. Своё (т.е. футуристическое) буйство он оправдывал стремлением претворить в жизнь подспудную мечту бедняка — независимость. На протяжении всей своей карьеры Бурлюк изображал повседневную жизнь простых людей, наслаждающихся жизнью. Его искусство изобилует сценами чаепитий, пикников, деревенских и городских улиц, трактиров. На этих полотнах жизнеутверждающая энергия бьёт через край, персонажи деятельны и бодры, что имплицитно сулит человечеству безбедное и гармоничное будущее.
Именно культ бодрости влёк Бурлюка к примитивизму, новомодной реплике сильного, простого и непосредственного в народном искусстве, включая архаику и фольклор. Скифские артефакты, собранные во время археологических раскопок на Херсонщине, и образцы народного художественного промысла вдохновили большую часть его ранних картин. Марков перечисляет эти заимствования: меандр орнамента, скифские стрелы из курганов и древние каменные изваяния (каменные бабы), которые в немалом количестве находили тогда в степи.27 В 1907–1912 годах братья Бурлюки по всем правилам науки раскопали близ Чернянки около пятидесяти древних могил, содержимое которых попало или в Херсонский музей, или в семейное собрание. Помимо многочисленных артефактов, эта коллекция насчитывала около семидесяти полных скелетов и двести черепов.28
В 1907–1912 годах братья Бурлюки по всем правилам науки раскопали близ Чернянки около пятидесяти древних могил, содержимое которых попало или в Херсонский музей, или в семейное собрание. Помимо многочисленных артефактов, эта коллекция насчитывала около семидесяти полных скелетов и двести черепов.28 Кроме того, Давид Бурлюк собрал множество кустарных вывесок, на которые тратил все свои деньги.29
Кроме того, Давид Бурлюк собрал множество кустарных вывесок, на которые тратил все свои деньги.29 На таких вот “дрожжах вдохновения” и поднялась мощная примитивистская живопись Бурлюка.
На таких вот “дрожжах вдохновения” и поднялась мощная примитивистская живопись Бурлюка.
Скифские формы, которые он усвоил, включают фигурки животных, особенно лошадей, предполагающие несколько точек обзора: приём, использованный скифами для создания иллюзии движения. Изделия такого рода “оживают” по мере того, как их поворачивают и рассматривают с разных сторон. В творчестве братьев Бурлюков используется „похожее отсутствие фиксированной ориентации: животные и фигуры людей изображаются вверх ногами, с поворотами на девяносто градусов и бегущими в разных направлениях вдоль границ изображения. ‹...› Давид Бурлюк сочетает принцип вращения со склонностью скифов располагать разрозненные изображения впритык”.30 Обращение к древнему искусству местного происхождения, а также многочисленные у Давида Бурлюка изображения казака Мамая, ярко расцвеченные и чётко очерченные, — “родимые пятна” его примитивистского стиля.
Обращение к древнему искусству местного происхождения, а также многочисленные у Давида Бурлюка изображения казака Мамая, ярко расцвеченные и чётко очерченные, — “родимые пятна” его примитивистского стиля.
С этим же связан и демократический подход Бурлюка к изобразительному искусству. Всю жизнь он стимулировал творческие способности окружающих, часто посредством привлечения их внимания к эстетике предметов прикладного искусства. Он поощрял добрым словом и художников-самоучек, и детей, и друзей, и членов семьи — всех, кто тянулся к рисованию. Кстати говоря, его мать тоже участвовала в выставке «Венок» 1908 года под девичьей фамилией Михневич.31 Лившиц сообщает:
Лившиц сообщает:
Среди многочисленных обитателей Чернянки, приходивших глазеть „на малюнки панычей”, нашёлся человек, не на шутку соблазнившийся бурлюковской живописью и увидевший в ней своё призвание.
Это был уже немолодой бородач, не то кузнец, не то плотник, служивший в одной из экономий. Его фамилия — Коваленко. Бурлюки снабжали его холстом, кистями, красками и взращивали в нём второго Руссо, выставляя его картины вместе со своими. Ещё зимой тринадцатого года я видел его вещи на петербургской выставке «Союза Молодёжи», устроенной Жевержеевым: они пользовались успехом.
32
Картины Бурлюка, как и многое в народном творчестве, выказывают увлечение фактурой поверхности. Искусство было для него „тактильным, чувственным опытом”.33 Лившиц в подробностях описал, как Бурлюки вытаскивали на улицу свежий холст и швыряли его в лужу грязи, а затем закрашивали прилипшие комья глины и песок, чтобы пейзаж стал „плотью от плоти гилейской земли”.34
Лившиц в подробностях описал, как Бурлюки вытаскивали на улицу свежий холст и швыряли его в лужу грязи, а затем закрашивали прилипшие комья глины и песок, чтобы пейзаж стал „плотью от плоти гилейской земли”.34 С этим связано преднамеренное культивирование Бурлюком спонтанности — ещё один способ бросить вызов зализанному академизму и худосочному символизму. Но не только: налицо тяга Бурлюка к правде первого впечатления — именно непредвзятость считал он единственно верным способом живописи. Во имя этого он восставал против любого рода изощрённости — не более чем украшательства и стилизации, по его мнению. Бурлюк сурово порицал группу «Мир искусства», Александра Бенуа и столичную салонную публику, задававших тон в среде коллекционеров и дилетантов. Во имя примитивизма он провозгласил диссонанс, диспропорцию, асимметрию. Даже из его ранних высказываний ясно, что всё это им уже культивируется: уроки Ван Гога не прошли впустую.35
С этим связано преднамеренное культивирование Бурлюком спонтанности — ещё один способ бросить вызов зализанному академизму и худосочному символизму. Но не только: налицо тяга Бурлюка к правде первого впечатления — именно непредвзятость считал он единственно верным способом живописи. Во имя этого он восставал против любого рода изощрённости — не более чем украшательства и стилизации, по его мнению. Бурлюк сурово порицал группу «Мир искусства», Александра Бенуа и столичную салонную публику, задававших тон в среде коллекционеров и дилетантов. Во имя примитивизма он провозгласил диссонанс, диспропорцию, асимметрию. Даже из его ранних высказываний ясно, что всё это им уже культивируется: уроки Ван Гога не прошли впустую.35
Примитивизм Бурлюка дореволюционного периода можно истолковать как следствие вчувствования в местную историю и предания. Приникнув к истокам, скифскому и украинскому, он обрёл идентичность, которой не изменил до конца своих дней.
«Гилея» — первоначальное название группы новаторов, съехавшихся (1910) на зимние каникулы в усадьбу Чернянка близ Херсона. Здесь отец Бурлюка служил управляющим огромным имением, принадлежавшим графу Мордвинову. Гилея — древнегреческий топоним скифских владений в устье Днепра, четыре раза упоминаемый Геродотом — место совершения нескольких подвигов Геракла. Названия этого группа придерживалась до 1913 года, затем “гилейцев” критика перекрестила футуристами. Бенедикт Лившиц писал в своих мемуарах: „Осмысливаемая задним числом, Чернянка оказывается точкой пересечения координат, породивших то течение в русской поэзии и живописи, которое вошло в их историю под именем футуризма”.36 Для Лившица «Гилея» ассоциировалась с Гесиодом и Гомером, Бурлюку же представлялась средоточием стихийной энергии, революционного энтузиазма и варварской силы. Этот термин стал обозначать нигилистический пафос, ниспровержение косных обычаев и ложных ценностей. Именно такой подход преобладает в ранних футуристических манифестах, инспирированнных — а порой и написаннных лично — Бурлюком. В его воображении Гилея слилась с казацкой вольницей, то есть жизнелюбием, физическую силой и неукротимым оптимизмом. Сюда же примешивалась подавленная энергия степняка, веками лишённого выхода через дельту Днепра к Черному морю: как скифский, так и о запорожский настрой предполагает сгнетённую взрывную силу, зимующую в степи.
Для Лившица «Гилея» ассоциировалась с Гесиодом и Гомером, Бурлюку же представлялась средоточием стихийной энергии, революционного энтузиазма и варварской силы. Этот термин стал обозначать нигилистический пафос, ниспровержение косных обычаев и ложных ценностей. Именно такой подход преобладает в ранних футуристических манифестах, инспирированнных — а порой и написаннных лично — Бурлюком. В его воображении Гилея слилась с казацкой вольницей, то есть жизнелюбием, физическую силой и неукротимым оптимизмом. Сюда же примешивалась подавленная энергия степняка, веками лишённого выхода через дельту Днепра к Черному морю: как скифский, так и о запорожский настрой предполагает сгнетённую взрывную силу, зимующую в степи.
Бóльшая часть вдохновения Бурлюка коренится в эмоциональном и подсознательном. Он верил в существование невидимых сфер, которые можно почувствовать, но не подвергнуть рациональному анализу. Эта вера, по-видимому, проистекла из его встреч с прорицателями, знахарями и цыганами, с которыми он общался в археологических экспедициях (они описаны Николаем Бурлюком37 ). В молодости он просился переночевать в домах с привидениями,38
). В молодости он просился переночевать в домах с привидениями,38 а в 1920-х годах рисовал радиоволны — в полной уверенности, что они видимы. Его точка зрения заключалась в том, что, по мере освобождения от чрезмерной рациональности, чувственное восприятие людей будет утончаться, и высшие сферы станут им доступны. Подобные воззрения свойственны и другим выходцам с Украины — Казимиру Малевичу, Александру Архипенко и Александру Богомазову. Кроме того, Бурлюк хотел видеть мир целостным. Это выразилось в сильно выраженном экологическом сознании: он практиковал консервацию пищевых продуктов задолго до того, как жители Северной Америки массово признали этот способ заготовки впрок. Даже в юности Бурлюк жил скромно, что не помешало советским критикам, игнорируя бытовую непритязательность художника, пенять ему за то, что, по их понятиям, было мистическими наклонностями и натурфилософией.39
а в 1920-х годах рисовал радиоволны — в полной уверенности, что они видимы. Его точка зрения заключалась в том, что, по мере освобождения от чрезмерной рациональности, чувственное восприятие людей будет утончаться, и высшие сферы станут им доступны. Подобные воззрения свойственны и другим выходцам с Украины — Казимиру Малевичу, Александру Архипенко и Александру Богомазову. Кроме того, Бурлюк хотел видеть мир целостным. Это выразилось в сильно выраженном экологическом сознании: он практиковал консервацию пищевых продуктов задолго до того, как жители Северной Америки массово признали этот способ заготовки впрок. Даже в юности Бурлюк жил скромно, что не помешало советским критикам, игнорируя бытовую непритязательность художника, пенять ему за то, что, по их понятиям, было мистическими наклонностями и натурфилософией.39
Как все подлинные новаторы, Бурлюк презирал торные пути. Стремление к самостоятельности в искусстве чаще проистекает не из желания удивить или шокировать, а из мечты о полноценном самовыражении. Один из способов добиться этого — сказать нет условностям и ожидаемости результата; другой — намеренно включать в изображение уродливые или “жестокие” детали (бегство от сентиментальности можно расценить как попытку постижения истины через её отрицание). Из этого же арсенала и применение Бурлюком одновременно нескольких точек обзора изображаемого предмета — радикальный отказ от вековых догм живописи, построение более динамичной модели восприятия окружающей действительности.
Понятно, почему непредвзято наблюдаемое, спонтанное и парадоксальное оказались для Бурлюка способами опрокидывания любых сдержек и противовесов: он перестал доверять рациональным построениям, которые накладывают на глаза художника шоры, препятствуя тем самым честному, не заданному наперёд восприятию зрителя. В результате вместо того, чтобы подавлять в себе привычку к бурному проявлению чувств и прочие анархические наклонности, он радостно принял их.
И всё-таки в творчестве Бурлюка поиск трансцендентного очевиден. Он находит его, как уже сказано, в глубоко прочувствованном, если не сказать мистическом, союзе с жизнелюбием простонародья. Его кисть исследует и славит не только психологическую или культурную сторону жизни, но и биологическую. В своих поздних работах Бурлюк обратился к летним пейзажам, полным яркого солнца и растений. Многочисленные натюрморты с цветами, написанные им на излёте жизни, — прощальная дань естественной красоте и таинственным силам земли, которые пленяли его смолоду.
Именно эти основополагающие убеждения и такого рода восприимчивость имели в виду современники, когда называли Бурлюка украинцем. Голлербах подметил у него „хохляцкое добродушие” и „упрямство”,40 Лентулов и Лившиц сочли разливанное море гостеприимства и чревоугодия Чернянки свидетельством украинского происхождения хозяев. Бурлюк черпал силы в мужестве и боевом задоре своих предков. Когда эти качества сопутствуют его живописи (увлечение народным жизнелюбием, мистическое единение с энергиями мира природы, миф о степной Украине как об Аркадии — плодородной целине, исполненной неукротимой энергией), в ней тотчас распознаёшь элементы веками складывающегося, ключевого мифа об идентичности Украины.
Лентулов и Лившиц сочли разливанное море гостеприимства и чревоугодия Чернянки свидетельством украинского происхождения хозяев. Бурлюк черпал силы в мужестве и боевом задоре своих предков. Когда эти качества сопутствуют его живописи (увлечение народным жизнелюбием, мистическое единение с энергиями мира природы, миф о степной Украине как об Аркадии — плодородной целине, исполненной неукротимой энергией), в ней тотчас распознаёшь элементы веками складывающегося, ключевого мифа об идентичности Украины.
Увы, осуждение Маланюком, Дывничем, Гришко и совсем недавно Рябчуком “малороскости” как своего рода отступничества или креолизации имеет тенденцию выводить такие фигуры, как Бурлюк, за рамки “украинских” исследований.41 Дывнич, например, утверждает: поскольку малоросы-эмигранты зачастую не были свидетелями культурного возрождения 1920-х годов, они мало симпатизируют усилиям украинского национального строительства. Для Маланюка феномен малороса оказывается не просто проблемой политической или культурной безграмотности, недостатка информации или образования. В военном и политическом плане он констатирует у интеллигентов-соотечественников конрадианскую убыль нервной энергии, т.е. не просто культурную гибридизацию, „национальный гермафродитизм”, но и настроения „национального пораженчества”,42
Дывнич, например, утверждает: поскольку малоросы-эмигранты зачастую не были свидетелями культурного возрождения 1920-х годов, они мало симпатизируют усилиям украинского национального строительства. Для Маланюка феномен малороса оказывается не просто проблемой политической или культурной безграмотности, недостатка информации или образования. В военном и политическом плане он констатирует у интеллигентов-соотечественников конрадианскую убыль нервной энергии, т.е. не просто культурную гибридизацию, „национальный гермафродитизм”, но и настроения „национального пораженчества”,42 капитуляцию перед могущественным врагом и паралич политической воли.43
капитуляцию перед могущественным врагом и паралич политической воли.43
Однако термин американский малорос не следует подавать в столь мрачном свете. В имперские времена многие украинцы, которые сначала аккультурировались, а затем ассимилировались по имперскому образцу, не утратили самоидентичности, струя украинства в них не иссякала. Такой тип личности зачастую сохранял множественную (многослойную) идентичность, когда мировоззрение на глубинном уровне переслаивалось тёплым чувством украинства. Так было с Николаем Гоголем и Казимиром Малевичем. Еврейские писатели в Германии или России оказались в аналогичной ситуации. Те, кто игнорирует еврейское происхождение Гейне, упускает из виду связь его убеждений с иудаизмом.44 Точно так же, манкируя украинским происхождением Гоголя, Малевича или Бурлюка, критики рискуют упустить из виду течения, которые питали духовное и художественное развитие этих гигантов. Попытка Давида Бурлюка сконструировать из отголосков скифского и украинского прошлого как личную идентичность, так и источник вдохновения футуризма заслуживает более внимательного рассмотрения.
Точно так же, манкируя украинским происхождением Гоголя, Малевича или Бурлюка, критики рискуют упустить из виду течения, которые питали духовное и художественное развитие этих гигантов. Попытка Давида Бурлюка сконструировать из отголосков скифского и украинского прошлого как личную идентичность, так и источник вдохновения футуризма заслуживает более внимательного рассмотрения.
————————
Примечания  1 Vahan D. Barooshian
1 Vahan D. Barooshian. Russian Cubo-Futurism 1910–1930: A Study in Avant-Gardism.
The Hague-Paris: Mouton. 1974. P. 72.
 2 Vladimir Markov
2 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press. 1968. P. 9.
русский перевод на www.ka2.ru 3 Vahan D. Barooshian
3 Vahan D. Barooshian. Russian Cubo-Futurism 1910–1930: A Study in Avant-Gardism.
The Hague-Paris: Mouton. 1974. P. 78.
 4 John E. Bowlt
4 John E. Bowlt. David Burliuk, the Father of Russian Futurism. Canadian-American Slavic Studies, 20, nos. 1–2 (Spring-Summer 1986). P. 26.
русский перевод на www.ka2.ru 5 Андрей Крусанов
5 Андрей Крусанов. Норберт Евдаев. Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии // Новая русская книга, 2. 2002.
 6 Nicholas Burliuk
6 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 175a.
 7 Норберт Евдаев
7 Норберт Евдаев. Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии.
М.: Наука. 2002. С. 51.
 8 Nicholas Burliuk
8 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 274b.
 9 Vladimir Markov
9 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press. 1968. P. 24.
 10 Игорь Поступальский
10 Игорь Поступальский. Литературный труд Давида Д. Бурлюка.
Нью-Йорк: Изд-во Марии Бурлюк. 1931. С. 4.
 11 John E. Bowlt
11 John E. Bowlt. David Burliuk, the Father of Russian Futurism. Canadian-American Slavic Studies, 20, nos. 1–2 (Spring-Summer 1986). P. 26.
 12 Nicholas Burliuk
12 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 1.
 13
13 Ibid. P. 15.
 14
14 Ibid. P. 18.
 15
15 Ibid. P. 194.
 16
16 Ibid. P. 275.
 17
17 Ibid. P. 87.
 18
18 Ibid. P. 111.
 19
19 Цит. по записи В.О. Перцовым его беседы 6 января 1939 г. с А. Лентуловым, вспоминавшим о дружбе с Маяковским и Давидом Бурлюком. См.:
Норберт Евдаев. Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии.
М.: Наука. 2002. С. 34. Николай Бурлюк вспоминает и о том, что дед его отца и Людмилы Бурлюк „был юристом и адвокатом еврейской веры” (
Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 18). Евдаев, тем не менее, отмечает, что никаких документов, подтверждающих еврейство Л.И. Михневича, не обнаружено, см.:
Норберт Евдаев. Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии.
М.: Наука. 2002. С. 57.
 20 Давид Бурлюк
20 Давид Бурлюк. Десятый Октябрь.
Нью-Йорк: Издание Марии Никифоровны Бюрлюк. 1928. С. 14.
 21
21 В мемуарах Лившица есть замечательная глава «Гилея» (см.:
Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. Pp. 35–68), где он упоминает о выставке «Венок» которая действовала в Киеве со 2-го по 30-е ноября 1908 г. Поскольку в ней участвовали Давид, Людмила и Владимир (Володимир) Бурлюки, Экстер, Богомазов, Прибыльска, Гончарова, Ларионов и другие авангардисты, «Венок» может считаться первой футуристической выставкой в Российской империи, особенно после того, как её участники выпустили коллективный манифест (p. 65).
 22
22 Два из них приведеные в книге Евдаева: «Лестница моих лет» Давида Бурлюка (с. 297–304) и «Фрагменты семейной хроники» Людмилы Кузнецовой-Бурлюк (с. 305–313). Последний известен и как «Фрагменты хронологии рода Бурлюков», см.: «Color and Rhyme», 48 (1961–62): 43–47. Два следующих документа см. в приложении к альбому «Украiньскiй авангард 1910–1930 рокiв» (
Киев: Мiстетство. 1996): «Предки мои» (с. 373–374) и «Фрагменты спохадiв футуриста (за сорок рокiв 1890–1930)» (с. 373). Оригиналы хранятся в ГПБ СПб.: Отдел рукописей, ф. 552, оп. 1.
 23 Людмила Кузнецова-Бурлюк
23 Людмила Кузнецова-Бурлюк. Фрагменты хронологии рода Бурлюков. «Color and Rhyme», 48 (1961–62): 43.
 24 Nicholas Burliuk
24 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 26, 51.
 25 Давид Бурлюк
25 Давид Бурлюк. Предки мои. ГПБ СПб: Отдел рукописей, ф. 552, оп. 1.
 26 Benedikt Livshits
26 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. P. 41.
оригинал на www.ka2.ru 27 Vladimir Markov
27 Vladimir Markov. Russian Futurism: A History.
Berkeley and Los Angeles: Univ. of California Press. 1968. Pp. 33, 35.
 28 Nicholas Burliuk
28 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. P. 84.
 29 Benedikt Livshits
29 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. P. 53.
 30 Jared Ash
30 Jared Ash. Primitivism in Russian Futurist Book Design 1910–14 // Margit Rowell and Deborah Wye, eds., The Russian Avant-Garde Book, 1910–1934.
New York: The Museum of Modem Art. 2002. P. 37.
 31 Норберт Евдаев
31 Норберт Евдаев. Давид Бурлюк в Америке: материалы к биографии.
М.: Наука. 2002. С. 32.
 32 Benedikt Livshits
32 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. P. 53.
 33 John E. Bowlt
33 John E. Bowlt. David Burliuk, the Father of Russian Futurism. Canadian-American Slavic Studies, 20, nos. 1–2 (Spring-Summer 1986). P. 31.
 34 Benedikt Livshits
34 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. P. 51.
 35 Андрей Крусанов
35 Андрей Крусанов. Русский авангард: 1907–1932 (Исторический обзор). В трёх томах. Т. 1. Боевое десятилетие.
СПб.: НЛО. 1996. С. 99.
 36 Benedikt Livshits
36 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, MA: Oriental Research Partners. 1977. Pp. 58, 59.
 37 Nicholas Burliuk
37 Nicholas Burliuk. The First Hippie: David Davidovich Burliuk // Mary Holt family archive. Pp. 86–93.
 38
38 Ibid. Pp. 93–95.
 39 Игорь Поступальский
39 Игорь Поступальский. Литературный труд Давида Д. Бурлюка.
Нью-Йорк: Изд-во Марии Бурлюк. 1931. С. 15.
 40 Э. Голлербах
40 Э. Голлербах. Искусство Давида Бурлюка.
Нью-Йорк: Издание М.Н. Бурлюк. 1930. С. 16.
 41
41 См.:
Malaniuk. Tvorchist i natsionalnist (Do problemy malorossyzmu u mystetstvi,” and “Malorosiistvo”;
Vasyl I. Hryshko. Maloukrainske skhidniatstvo (studia odniiei provokatsii);
Iurii Dyvnych [Lavrinenko]. Amerykanske malorosiistvo (Publitsystychnyi reportakh);
Mykola Riabchuk. Vid Malorosii do Ukrainy.
 42 Ievhen Malaniuk
42 Ievhen Malaniuk. Malorosiistvo // Knyha sposterezhen. Vol. 2.
Toronto: Homin Ukrainy. 1966. P. 233.
 43
43 Ibid. P. 234.
 44 Jost Hermand
44 Jost Hermand. One Identity is not Enough: Heine’s Legacy to Germans, Jews, and Liberals // Peter Uwe Hohendahl and Sander L. Gilman, eds., Heinrich Heine and the Occident: Multiple Identities, Multiple Receptions.
Lincoln: Univ. of Nebraska Press. 1991. Pp. 19–20.
Воспроизведено по:
Canadian American Slavic Studies, 40, No. 1 (Spring 2006), 65–78.
Перевод В. Молотилова


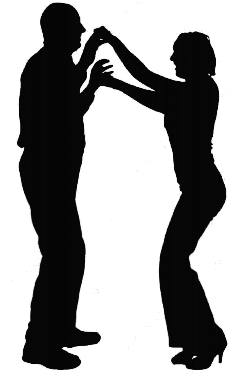 о мнению большинства специалистов, Давид Бурлюк — центр кристаллизации футуризма в Российской империи. Принято считать, что он „во многом придал футуризму его идеологическую направленность: призвал художников и поэтов выйти на улицы, дабы соединить искусство и жизнь, учил понимать изобразительное искусство и поэзию как бесконечный поиск новых форм самовыражения”.1
о мнению большинства специалистов, Давид Бурлюк — центр кристаллизации футуризма в Российской империи. Принято считать, что он „во многом придал футуризму его идеологическую направленность: призвал художников и поэтов выйти на улицы, дабы соединить искусство и жизнь, учил понимать изобразительное искусство и поэзию как бесконечный поиск новых форм самовыражения”.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()