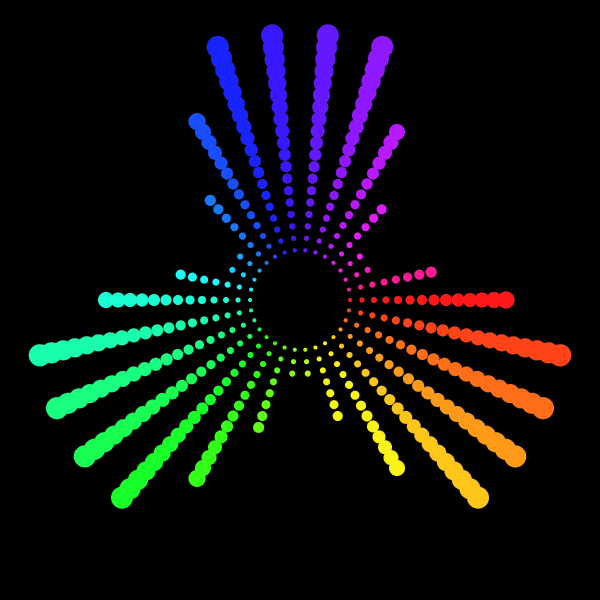Джон Э. Боулт
Давид Бурлюк, отец русского футуризма
Борис Лавренёв оставил такое описание своего друга и наставника Давида Давидовича Бурлюка:
Коренастый, неуклюжий и коротконогий Давид Бурлюк, поднося к глазам свой неразлучный лорнет, стоял перед своими великолепными — скорее, импрессионистскими — пейзажами, развешанными по всем стенам его мастерской, и, ухмыляясь, говорил, что на следовании классическим традициям и серьёзной живописи сегодня много славы и капитала не добудешь, а буржуазию и мещан надо оглушать дубинкой новизны.
1
В период расцвета русского кубофутуризма (ок. 1912 – ок. 1916) Бурлюк и впрямь держал в руках такую дубинку, и многие отведали её. Возможно, это одна из причин, по которым открытого противоборства с ним старались избегать, и почему он по сей день известен больше как законодатель казарменных нравов, „хулиган палитры”,2 чем самобытный живописец, поэт и проницательный критик.
чем самобытный живописец, поэт и проницательный критик.
История русской культуры ХХ века невозможна без упоминания Давида Бурлюка с дóлжной почтительностью, и нет сомнения в том, что русский авангард — экспериментальные течения в искусстве и литературе 1910-х и 1920-х годов — достиг бы гораздо меньшего, не окажись у Бурлюка неуёмной тяги к новаторству и организаторской жилки. Его коллега-футурист Василий Каменский однажды сказал: „Имя Давида Бурлюка всегда было и есть именем интернациональным, как солнце на небесах”.3 Короче говоря, он был, по выражению Василия Кандинского, „отцом русского футуризма”.4
Короче говоря, он был, по выражению Василия Кандинского, „отцом русского футуризма”.4
Бурлюк дружил со множеством поэтов и художников, среди которых Наталья Гончарова, Велимир Хлебников, Алексей Кручёных, Михаил Ларионов, Казимир Малевич и Владимир Маяковский. С некоторыми — с Гончаровой и Ларионовым, например — произошёл бурный разрыв, другие — не в последнюю очередь Маяковский — пронесли любовь к нему через всю жизнь. Бурлюк организовывал и/или участвовал во многих важных футуристических затеях — художественных выставках, полемических дебатах, декламации стихов, издательских предприятиях — и сам, человек неиссякаемой энергии, был поэтом, художником, теоретиком, оратором и антрепренёром в одном лице.
Несмотря на впечатляющий послужной список, „чугунно-литейный” Бурлюк5 продолжает занимать самое неопределённое место в нынешней табели о рангах авангарда. Творческое наследие Бурлюка серьёзно не исследовано, о нём до смешного мало публикаций, а ведущие специалисты по русскому кубофутуризму относительно художественной ценности творчества Бурлюка высказываются в лучшем случае двусмысленно.6
продолжает занимать самое неопределённое место в нынешней табели о рангах авангарда. Творческое наследие Бурлюка серьёзно не исследовано, о нём до смешного мало публикаций, а ведущие специалисты по русскому кубофутуризму относительно художественной ценности творчества Бурлюка высказываются в лучшем случае двусмысленно.6 Советский литературовед Николай Харджиев положительно отозвался о поэтических экспериментах Бурлюка в книге «Поэтическая культура Маяковского»,7
Советский литературовед Николай Харджиев положительно отозвался о поэтических экспериментах Бурлюка в книге «Поэтическая культура Маяковского»,7 тогда как Владимир Марков, автор бесценной «Истории русского футуризма», осудил Бурлюка как „провинциала, которому не удаётся замаскировать свою поэтическую старомодность сверхдерзким “новаторством”. Он тонет в банальностях, пытаясь быть оригинальным”.8
тогда как Владимир Марков, автор бесценной «Истории русского футуризма», осудил Бурлюка как „провинциала, которому не удаётся замаскировать свою поэтическую старомодность сверхдерзким “новаторством”. Он тонет в банальностях, пытаясь быть оригинальным”.8
Справедливо или нет, Бурлюк — по крайней мере, на Западе — заслужил репутацию шоумена, шарлатана и корыстолюбца. Что и говорить — он, как и многие другие футуристы, не без греха; но театральные жесты Бурлюка продиктованы, как правило, глубоко внутренними, непоколебимыми убеждениями. Во враждебном отношении к нему академической науки отчасти виноват он сам: как вам покажется художник, уверяющий, что за 18 лет написал 10 000 картин, не считая рисунков?9 Сказал же Маяковский о Бурлюке: „свободно плавает по собственной хронологии”!10
Сказал же Маяковский о Бурлюке: „свободно плавает по собственной хронологии”!10 Тот, у кого в стихотворении слово ‘помёт’ (англ. shit) напечатано заглавными буквами,11
Тот, у кого в стихотворении слово ‘помёт’ (англ. shit) напечатано заглавными буквами,11 кто умудрился совместить историю искусства с описанием новой лодки своих сыновей12
кто умудрился совместить историю искусства с описанием новой лодки своих сыновей12 — однозначно вызовет подозрение и скептицизм.
— однозначно вызовет подозрение и скептицизм.
И всё-таки этим выходкам не заслонить личности глубокой и последовательной. Бурлюку — художественному новатору и острому теоретику — было что сказать городу и миру. Есть множество подробностей творческой биографии Бурлюка (русский период, Япония, США), которые достойны отдельного разговора, но мы остановимся на более важном: на его статусе, т.е. взаимоотношении с художникам и писателям, влиянии на национальную культуру и мировое художественное движение в целом. Но, поскольку это не более чем краткий обзор, ограничимся сферой деятельности Бурлюка, где этот энтузиаст достиг наибольших успехов: изобразительного искусства и художественной критики. Немногочисленные публикации о Бурлюке, в том числе монография Кэтрин Дрейер 1944 г.,13 содержат некоторые факты и даты его жизни, часто неточные; впереди исследования по периодизации его художественной и литературной эволюции и, разумеется, полная библиография. Биографический очерк, дополняющий эту статью, лишь набросок основных этапов творческой жизни Бурлюка.
содержат некоторые факты и даты его жизни, часто неточные; впереди исследования по периодизации его художественной и литературной эволюции и, разумеется, полная библиография. Биографический очерк, дополняющий эту статью, лишь набросок основных этапов творческой жизни Бурлюка.
Бурлюк-художник
Иван Народный, ведущий поэт и критик ранней нью-йоркской эмиграции, однажды написал о картинах Бурлюка: „Это искусство, которым нужно не наслаждаться, а бояться его. Он либо раздражает, либо угнетает зрительное восприятие, действуя подобно дурману”.
14
Может быть, такая реакция чрезмерна, однако в живописи Бурлюка действительно ощущается напор и животная сила, которые рождены архаичным захолустьем Чернянки, неукротимой твердыни украинских степей. Само количество художественной продукции Бурлюка (апокрифические 10 000 картин и рисунков периода 1900–1918 гг.) — из тех же “гомерических” пропорций чернянского быта.
15
Когда в своем поэтическом портрете Бурлюка Хлебников говорит:
Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты, /
Другие ходили буграми, как чёрные овцы волнуясь, /
Своей поверхности шероховатой, неровной,
16
он делает упор на главном в искусстве Бурлюка — жизненности, энергии, первобытной простоте.
Первые заметные влияния на Бурлюка-живописца, по понятным причинам, оказал немецкий югендстиль, который он усвоил, находясь в Мюнхене в 1901–1904 годах, и французский импрессионизм, впитанный в Париже в 1904 году (ср. «Женщина, читающая в саду» ок. 1905 г. и «Пейзаж» ок. 1910 г.). Эти робкие опусы напоминают раннее творчество Бориса Анисфельда, Исаака Бродского и Николая Фешина,17 его однокашников по Одессе и Казани. Хронология становления Бурлюка-живописца затруднена главным образом тем, что он любил датировать картины как ему заблагорассудится, к тому же многие ранние работы уничтожены или разбросаны по провинциальным городам России (Уфа, Буздяк, Чита: Бурлюк с домочадцами странствовал по Восточной России в 1918–1919 гг). И всё же основной вехой в развитии Бурлюка была, думается, весна 1910 года: именно тогда он ознакомился с новейшим французским искусством из собраний Морозова и Щукина, после чего, как он писал Михаилу Матюшину: „Все старые вещи были выброшены. Боже, как сложно, но как радостно начать заново”.18
его однокашников по Одессе и Казани. Хронология становления Бурлюка-живописца затруднена главным образом тем, что он любил датировать картины как ему заблагорассудится, к тому же многие ранние работы уничтожены или разбросаны по провинциальным городам России (Уфа, Буздяк, Чита: Бурлюк с домочадцами странствовал по Восточной России в 1918–1919 гг). И всё же основной вехой в развитии Бурлюка была, думается, весна 1910 года: именно тогда он ознакомился с новейшим французским искусством из собраний Морозова и Щукина, после чего, как он писал Михаилу Матюшину: „Все старые вещи были выброшены. Боже, как сложно, но как радостно начать заново”.18
Итак, в Москве Бурлюк впервые увидел Сезанна, Гогена, Матисса, Руссо. Неудивительно обнаружить их влияние в его картинах той поры: «Один из моих предков» (1910 г.), «Пейзаж» (1912 г.) и «Натюрморт» (1912 г.). Параллели заметны не только в выборе темы — дикая природа, “варварские” народы, мифы, — но и в кричащих цветовых сочетаниях, в стремлении моделировать форму на ощупь, скульптурно.
Бурлюк, подобно его коллегам Гончаровой и Ларионову, никогда не довольствовался какой-либо одной художественной системой. Энергия, гибкость и неуёмный энтузиазм позволили ему, быстро выйдя за рамки элементарных уроков Гогена и Матисса, усвоить и переработать множество стилей. Одним из очень важных стимулов этой стремительной эволюции было открытие Бурлюком местных художественных форм: вывесок, икон, расписных подносов и лубка. Например, увлечение Бурлюка темой стрижки и бритья, когда он в разных ракурсах изображает клиента парикмахерской (например, «Безголовый брадобрей», 1912), восходит непосредственно к лубку XVIII века «Цирюльник, отстригающий бороду староверу». Этот лубок повлиял и на Ларионова, и Александра Шевченко, но, в отличие от Бурлюка, они в гораздо большей степени пощадили оригинал. Бурлюк, напротив, того же «Безголового брадобрея» выполнил в кубистской и футуристской манерах.
В какой-то мере готовность Бурлюка заимствовать тот или иной стиль — словом, идеологическая всеядность — отдалила его от сподвижников по нарождавшемуся авангарду: хотя Бурлюк был одним из “козырных” членов созданного Гончаровой и Ларионовым в 1910 году неопримитивистского объединения «Бубновый валет» и участвовал в его выставках, начиная с первой, он, по-видимому, порвал с ними ещё в 1911 году.19 Практически одновременно и Ларионов вышел из «Бубнового валета», обвинив коллег в том, что они бездумно тиражируют французские образцы, и учредил «Ослиный хвост». Несомненно, он поступил так отчасти благодаря постоянному заимствованию Бурлюком новых западных форм, трактуемых им (см. «Синтетический пейзаж» 1911 года) весьма свободно. О том, что Ларионов и сам грешил плагиатом, он, разумеется, предпочёл помалкивать.
Практически одновременно и Ларионов вышел из «Бубнового валета», обвинив коллег в том, что они бездумно тиражируют французские образцы, и учредил «Ослиный хвост». Несомненно, он поступил так отчасти благодаря постоянному заимствованию Бурлюком новых западных форм, трактуемых им (см. «Синтетический пейзаж» 1911 года) весьма свободно. О том, что Ларионов и сам грешил плагиатом, он, разумеется, предпочёл помалкивать.
Подобно Ларионову, Бурлюк любил подурачиться, позабавить зрителя визуальными шутками и каламбурами. Например, во многих иллюстрациях к брошюрам футуристов на все лады обыгрывал сексуальную тему, преднамеренно опошляя и оскверняя стереотип обнажённой натуры, или, в духе Клее, мягко поигрывал “возвышенностью” образа («Зонтик»,1917?). Но больше всего Бурлюк любил издеваться над благоговением художников и критиков старой закалки перед “святым искусством”. Наверняка он злорадно хохотал, читая рецензию на одну из самых задорных своих картин американского периода «Символическая голова рыбака Новой Англии с макрелью» (1928 г.): „Плоскость, на которой изображено лицо человека, на дюйм выше основной поверхности картины. На заднем плане — маяк и две рыбацкие лодки. Написано в истинно французской манере. Бутылка заменяет нос, окрашенный с глубоким пониманием старого колониального стиля. Две рыбки заменяют глаза”.20
Это не значит, разумеется, что Бурлюк из кожи вон лез корчить придворного шута, даже если сама его натура неумолимо диктовала столь безалаберный стиль. В искусстве Бурлюка есть две струи, которые предполагают у художника весьма серьёзный, созерцательный характер, а именно: его расчётливые попытки применить принципы итальянского футуризма, особенно Карра и Боччони, к злободневной тематике: экономическому кризису в США 1920–30-х годов и социализму как спасению человечества («День и ночь» 1930 года и «Толстой и Ленин: непобедимые» 1920-х годов). Интерпретация итальянского футуризма, который в 1926 году он переименовал в «радиофутуризм», подвигла Бурлюка на создание ряда его самых совершенных картин: таковы «Каменщик» (1913?) и «Пророк Илия» (1924). Хотя бурлюковская трактовка футуризма, возможно, была несколько более приземлённой, чем у итальянцев („Бутылка виски, когда-то стоявшая на столе, останется там навсегда, но как абстракция”21 ), его визуальные результаты были впечатляющими, вызывая благоприятные сравнения с прототипами Балла, Боччони и Карра. Например, картина Бурлюка, условно называемая «Ядро и атом» (датированная 1913 г., но, вероятно, более поздняя), демонстрирует его знакомство с динамическими композициями Балла («Меркурий в противостоянии Солнцу», 1914 г.), а «Электрическая станция» (1924 г.) перефразирует ключевые живописные решения Боччони («Эластичность», 1912).
), его визуальные результаты были впечатляющими, вызывая благоприятные сравнения с прототипами Балла, Боччони и Карра. Например, картина Бурлюка, условно называемая «Ядро и атом» (датированная 1913 г., но, вероятно, более поздняя), демонстрирует его знакомство с динамическими композициями Балла («Меркурий в противостоянии Солнцу», 1914 г.), а «Электрическая станция» (1924 г.) перефразирует ключевые живописные решения Боччони («Эластичность», 1912).
В своей карьере художника Бурлюк прошёл ряд этапов, международных и межличностных. Он освоил бесчисленные стили — неопримитивизм, кубофутуризм, японское искусство, американский реализм — и водил дружбу с ведущими русскими, японскими и американскими художниками, но эпигоном чего- и кого-либо на стал: он тут и там брал взаймы, не более того. Правда, есть несколько картин («Синтетический пейзаж», «Безголовый брадобрей» и «Электрическая станция»), где налицо мастерство исполнения и подлинная оригинальность, но они, пожалуй, исключение из правила. Трагический изъян Бурлюка-живописца, вероятно, таков: воздавая должное всем художественным идеям без разбора, он растратил энергию собственного гения. Чего не скажешь о его критических и теоретических опытах.
Бурлюк-теоретик
Изучение картин Бурлюка, будь они русского или американского периода, показывает, что сила воздействие многих из них зависит от двух составляющих: во-первых, это концентрация и манипулирование текстурой (фактурой); во-вторых — следование правилу, называемому автором „канон сдвинутой конструкции”.
22
Поскольку именно эти два формальных нововведения привлекли самое пристальное внимание сподвижников Бурлюка по русскому авангарду — Кручёных и Ольги Розановой, например, — трактовка их самим первооткрывателем заслуживает подробного комментария. Предупреждаю: речь пойдёт о
раннем его периоде — позднейшее, ретроспективное теоретизирование Бурлюка, вроде «Энтелехизма» 1930 года, настолько маловразумительно, что почти не задевает сознания.
23
Пристрастие Бурлюка к фактуре несколько предшествовало её победному — и в теории, и на практике — шествию по мастерским авангардистов (1912–1914), ибо ещё весной 1911 года, по словам Бенедикта Лившица,24 Давид и его брат Владимир окунали в „жидкую грязь” Чернянки „слишком спокойные” полотна, и, поверх приставших к свежей краске „комьям глины и песку”, дописывали. Следовательно, когда Бурлюк приступал к изложению своих соображений о фактуре, он имел о ней самое конкретное, физическое понятие. Как и всё в области культуры, живопись для Бурлюка было тактильным, чувственным опытом, и это выпукло отражено в одном из важнейших его эссе «Фактура», вошедшем в сборник «Пощёчина общественному вкусу» (декабрь 1912 года).25
Давид и его брат Владимир окунали в „жидкую грязь” Чернянки „слишком спокойные” полотна, и, поверх приставших к свежей краске „комьям глины и песку”, дописывали. Следовательно, когда Бурлюк приступал к изложению своих соображений о фактуре, он имел о ней самое конкретное, физическое понятие. Как и всё в области культуры, живопись для Бурлюка было тактильным, чувственным опытом, и это выпукло отражено в одном из важнейших его эссе «Фактура», вошедшем в сборник «Пощёчина общественному вкусу» (декабрь 1912 года).25 В истории русской эстетики это первый пример того, как художник или критик пытается анализировать частные формальные составляющие живописного произведения без обращения к его повествовательному содержанию, более того — сводит живопись к точной науке:
В истории русской эстетики это первый пример того, как художник или критик пытается анализировать частные формальные составляющие живописного произведения без обращения к его повествовательному содержанию, более того — сводит живопись к точной науке:
Перейдём наконец к изложению Первого Пункта — Живописного Контрапункта — Петрографии Живописи. Изучение — Поверхности — её Характера.
Картины.
И структуры поверхности…
Плоскость картины: может быть.
А. Ровная и В. Неровная.
А. Ровная плоскость.
‹...›
Структура поверхности картины (в данном случае мы говорим о красочном слое картины).
I Зернистая.
II волокнистая.
III слоистая.
‹...› я внимательно рассматривал «Руанский Собор» К. Монэ. ‹...› „Структура волокнистая (вертикально)” подумал я — „нежные нити дивных и странных растений”. ‹...›
Сезанн, о живописи которого можно сказать, что она по Структуре своей типично Слоистая.
Бурлюк весьма соблазнительно, хотя иной раз и произвольно, расширяет свою номенклатуру, перечисляя категории того, что следует понимать под „ровной плоскостью”:
1) Металлический блеск.
2) Стеклянный блеск.
3) Жирный блеск.
4) Перламутровый блеск.
5) Шелковистый блеск.
26
и „неровной плоскостью”:
I Занозистая поверхность.
II Крючковатая поверхность.
III Землистая поверхность (матова и Пыльна).
IV раковистая поверхность, (плоско, глубоко…).
Крупно и мелко-раковистая.
Совершенно и несовершенно раковистая.
27
Как видно из таких картин, как «Сибирская флотилия» (1913?) и «В городе» (1922; также называлась «Господа грядущей цивилизации»), Бурлюк в 1910–1920-е годы осознанно применял всё это разнообразие приёмов на практике.
К концу 1912 года Бурлюк ратовал за такого рода живопись, где основной упор делается на зрительный эффект чисто технических приёмов — фактуры, формы, цвета, распределения красочных пятен и плоскостей; описательное, анекдотическое содержание не имело значения. Отнюдь не случайно оба свои эссе в «Пощёчине общественному вкусу» (о фактуре и о кубизме) Бурлюк начал с утверждения „Живопись — цветное пространство”. Хотя в 1913 году Ларионов, Малевич и Розанова двигались в том же направлении, Бурлюк был лидером своего поколения в отстаивании ценности нефигуративной живописи, т.е. “абстрактного” искусства — того, что он называл Новой Живописью. Бурлюк предельно внятно высказался об этом в эссе «Кубизм»:
Живопись цветное пространство.
Точка, линия и поверхность суть элементы пространственных форм.
порядок в котором они помещены возникает из их генетической связи.
простейший элемент пространства есть точка.
след её — есть линия.
след линии поверхность.
этими 3-мя элементами исчерпываются все пространственные формы.
след прямой линии есть плоскость.
Быть может не парадоксом будет сказать, что живопись лишь в XX веке стала искусством.
Лишь в XX веке мы стали иметь живопись как искусство — ране было искусство живописи, но не было живописи-Искусства. Принято называть, питая некоторое снисходительное сострадание к бесконечным затратам на музеи — Эту Живопись (до XX века) — Старой Живописью, в отличие от Живописи
Новой.
Эти определения сами собой указывают как всеми, даже самыми Тёмными и не интересующимися Духовностью, уже постигнута бесконечная пропасть, павшая между вчерашним и сегодняшним днём живописи. Бесконечная пропасть. Вчера мы не имели искусства — Сегодня у нас есть искусство. Вчера оно было средством, сегодня оно стало целью. Живопись стала преследовать лишь Живописные задачи. Она стала жить для себя.
28
Далее Бурлюк разъясняет эстетических основы Новой Живописи, сведя их к тому, что он назвал каноном сдвинутой конструкции.
Сдвиг может быть линейный.
Сдвиг . . . . . . . плоскостной.
Сдвиг может быть частным — одноместным и общим…
Сдвиг может быть красочным — (чисто механическое понятие).
Академический канон выдвигал: симметрии пропорции — плавность = или же что тоже гармонию.
Новая живопись указала на существование параллельное не уничтожающее первой Канон второго канона сдвинутой конструкции.
1) Дисгармония (не плавность).
2) Диспропорция.
3) Дисконструкция.
4) Красочный диссонанс.
29
Без сомнения, Бурлюк многое почерпнул у своего друга Николая Кульбина, “доктора русского футуризма”,30 который двумя годами прежде писал о диссонансе в музыке, и, в любом случае, был осведомлён о подобных идеях итальянских футуристов. Бурлюк решительно приступил к претворению теории в жизнь, и бóльшая часть его живописи и поэзии после 1912 года выстроена применительно именно к теории сдвига. Разумеется, коллеги Бурлюка, особенно Кручёных и Малевич, этот канон взяли на вооружение, однако “чувство сдвига” оказалось у них, скажем так, более “гармоничным” и “красивым”.
который двумя годами прежде писал о диссонансе в музыке, и, в любом случае, был осведомлён о подобных идеях итальянских футуристов. Бурлюк решительно приступил к претворению теории в жизнь, и бóльшая часть его живописи и поэзии после 1912 года выстроена применительно именно к теории сдвига. Разумеется, коллеги Бурлюка, особенно Кручёных и Малевич, этот канон взяли на вооружение, однако “чувство сдвига” оказалось у них, скажем так, более “гармоничным” и “красивым”.
Стихотворение Кручёных «Высоты» 1913 года, где он оперирует только гласными звуками, или алогичные полотна Малевича, такие как «Женщина у рекламного киоска» (1914), богаче композиционно. Сдвиг у Бурлюка примитивен и эпатажен. Своей эстетической “уродливостью” он напоминает картины Павла Филонова (ср. «Искусство Достоевского» Бурлюка 1923 г. с любой из филоновских «Голов 1920-х») или рассказы обэриутов. Глядя на картину «Город в 19.22», превосходный образчик дрейфа Бурлюка в сторону живописного безобразия, можно вспомнить и одно из самых известных его “сдвинутых” стихотворений «Мёртвое небо» 1913 года (в собственном переводе):
Heaven is only a cadavar! Nothing more!
Stars — worms drunk on fog
I silence pain with rustling mystification!
Sky — a fetid corpse.
For attentive myopes are licking the hid-eousrump
With a lustful grasp of an Ethiopian:
Stars-worms-pussy, live rash!
I am encircled by cordage of rope Cry of a butter-bump Men — beasts
Truth — noise
Shut the hour of anticipation of joy Call of limbs
Spider.
31
Забавно вспомнить, что в своей книге о параллелях между клиническим помешательством и русским футуризмом, изданной в 1914 году, психиатр Е. Радин32 использовал это стихотворение для доказательства того, что Бурлюк и его друзья — душевнобольные, нуждающиеся в профессиональной врачебной помощи. На самом же деле Бурлюк расчётливо следовал весьма продуманной системе вербального и визуального сдвига — сознательно смешивал высокопарное и низменное, извращал или даже ставил с ног на голову привычные метафоры (звезды уже не “ласковые”, а „черви”), взрывал романтические образы отсылкой к смерти и разложению трупа, приписывал пейзажу едкую вонь пота. В результате у Бурлюка получилась собственная версия зауми — термин, которого он, однако, избегал, предпочитая собственный: мозаика несогласованностей.33
использовал это стихотворение для доказательства того, что Бурлюк и его друзья — душевнобольные, нуждающиеся в профессиональной врачебной помощи. На самом же деле Бурлюк расчётливо следовал весьма продуманной системе вербального и визуального сдвига — сознательно смешивал высокопарное и низменное, извращал или даже ставил с ног на голову привычные метафоры (звезды уже не “ласковые”, а „черви”), взрывал романтические образы отсылкой к смерти и разложению трупа, приписывал пейзажу едкую вонь пота. В результате у Бурлюка получилась собственная версия зауми — термин, которого он, однако, избегал, предпочитая собственный: мозаика несогласованностей.33
Заключение
К тому времени, когда Бурлюк и его семья пересекли океан в 1922 году, футуризм уже стал в США модным, респектабельным и коллекционным. В Нью-Йорке Бурлюк нашёл динамику технического прогресса, о которой мог только мечтать в Москве, и, как видно из его тогдашних панегириков Америке, находился под впечатлением суеты и суматохи большого города: „Новейший радиофутуризм — вот он, с его шумами; радио, телевидение, терменовокс, механический человек и, наконец, пассажирские дирижабли над Атлантикой”.
34
Как футурист, Бурлюк нимало не постарел, но чем усерднее он пытался пропагандировать свои радикальные взгляды, тем меньше к нему прислушивались.
Несмотря на показуху и эпатаж, Бурлюк был всецело предан искусству; как это ни парадоксально звучит, живопись была для него самым серьёзным делом. Именно целеустремленность позволила Бурлюку писать и рисовать до конца своих дней. В рецензии на выставку Бурлюка 1963 года Элла Джаффе писала:
Давиду Бурлюку 81 год. Глядя на его поздние работы ‹...› можно подумать ‹...›, что их написал юноша — настолько они пронизаны энергией, размахом, буйством красок и радостью. Невероятно, что человек прожил так долго — и так мало постарел.
35
Но именно в силу своей насквозь артистической натуры Бурлюк столкнулся в США с той же проблемой, которую по сей день приходится решать русским эмигрантам из числа художников и поэтов: отсутствие прочного положения в обществе, которое (возможно, это и к лучшему) не воспринимает искусство всерьёз, рассматривает его скорее как развлечение, нежели творчество. Бурлюк был озадачен, расстроен и одновременно дьявольски очарован таким прагматизмом. Но ещё не поздно обратить эту тенденцию вспять, отдав запоздалую дань уважения “протеизму” этого художника.36 В одном из выпусков «Color and Rhyme», с грустью вспоминая гибель Маяковского в 1930 году, он написал, что его близкий друг „стал абстракцией”.37
В одном из выпусков «Color and Rhyme», с грустью вспоминая гибель Маяковского в 1930 году, он написал, что его близкий друг „стал абстракцией”.37 Надеюсь, реставрируя его мозаику несогласованностей, мы не позволим Бурлюку повторить ту же судьбу.
Надеюсь, реставрируя его мозаику несогласованностей, мы не позволим Бурлюку повторить ту же судьбу.
———————
Примечания 1 Б. Лавренёв
1 Б. Лавренёв. В канун праздника // Color and Rhyme (Hampton Bays, N.Y.), No. 57 (1964), p. 49.
 2
2 Давид Бурлюк употребил это выражение в пику художникам-реалистам XIX в. Ивану Айвазовскому и Константину Маковскому в своем первом опубликованном манифесте «Голос импрессиониста в защиту живописи» (1908). См. перевод в: Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934 / J. Bowlt, ed.
New York: Viking 1976. Pp. 10–11.
 3
3 Письмо В. Каменского к Давиду Бурлюку датировало 23 января 1927 г. Опубликованно в:
D. Burliuk. Entelekhizm.
New York: M. Burliuk. 1930. P. 3.
 4
4 Авторство, достаточно маловероятное, приписывается Кандинскому в каталоге выставки Oils, Watercolors by David Burliuk. New York: 8th Street Gallery, 1934, p. 3. Бурлюк любил повторять свой титул, однажды расширив его до „отец российского пролетарского футуризма” (Энтелехизм. С. 1).
Электронная версия «Эдикта об энтелехическом стихосложении» на www.ka2.ru 5
5 Каменский сообщает, что однажды прочёл лекцию под названием «Чугунно-литейный Бурлюк», см.: Московские мастера.
Москва. 1916. С. 99.

 6
6 Перечислю достойные упоминания публикации, посвящённые Бурлюку, даже если приводимая в них информация не точна: David Burliuk. Catalog of exhibition at J.B. Neumann. New York, 1925;
K. Dreier , Burliuk.
New York: Societу Anonyme. 1944; David Burliuk (1882–1967): Selections from Various Periods. Catalog of exhibition at the АСА, New York, 1967; David Burliuk: 55 Years of Painting. Catalog of exhibition at the Lido Galleries, Long Beach and New York, 19Ы; David Burliuk: Years of Transition, 1910–1931. Catalog of exhibition at The Parrish Art Museum, Southhampton, New York, 1978;
F. Ingold. Die einzige Kunst der Gegenwart. Line vergessene Deklaration von David Davidovic Burljuk,” in Peter Brang et al., cds„ Schweizertsche Beitrage zum VII. Internationalen Slavistenkongress in Warschau, August 1973.
Zurich: C. J. Bucher. 1973. Pp. 51–64.
 7 Харджиев Н., Тренин В
7 Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М.: Искусство. 1970. С. 17.
 8 V. Markov
8 V. Markov. Russian Futurism: A History.
Berkeley: Univ. of California Press. 1968. P. 60.
русский перевод на www.ka2.ru 9
9 Сообщено Бурлюком в: Color and Rhyme, No. 51–52 (1961–62). P. 22.
 10
10 Подобным образом Маяковский отзывался и о себе, см.:
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М.: Искусство. С. 17.
 11
11 См.: Первый журнал русских футуристов. Москва. 1914. С. 37.
 12
12 См.: Color and Rhyme, No. 66 (1967–70), p. 1 и далее.
 13
13 См. примечание 6.
 14 Ivan Narodny.
14 Ivan Narodny. The New Icon // American Art of Tomorrow.
New York: M. Burliuk. [1929]. P. 7.
 15
15 Именно так Бенедикт Лившиц изображает быт Чернянки, см.:
Б. Лившиц. Полутораглазый стрелец (1933). Перевод Джона Э. Боулта см.:
Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners. 1977. P. 45.
электронная версия подлинника на www.ka2.ru 16 Велимир Хлебников
16 Велимир Хлебников. Бурлюк // Собрание сочинений в шести томах. Под общей редакцией Р.В. Дуганова. Т. 2.
М.: ИМЛИ РАН, «Наследие». 2000. С. 330–332.
 17
17 См.: Boris Anisfeld. 1879–1973. Catalog of exhibition at the William Benton Museum of Art, University of Connecticut, Storrs, 1979;
И.А. Бродский. Исаак Израилевич Бродский.
М.: Изобразительное искусство. 1973;
Г. Могильников. В.И. Фешин.
Ленинград: Художник РСФСР. 1975.
 18
18 Из письма Бурлюка Матюшину. Цит. по:
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М.: Искусство. С. 31.
 19
19 После первой выставки «Бубнового валета» (проходила по январь 1911, Москва) Гончарова, Ларионов и несколько других “бубновалетчиков”, включая Бурлюка, покинули сообщество, обвиняя оставшихся в зависимости в Парижской школы и “вульгарных работах, не имеющих ничего общего ни с новым искусством, ни со старым” (
В. Паркин. «Ослиный хвост» и «Мишень» // «Ослиный хвост» и «Мишень».
М.: Мюнстер. [1913]. С. 54.
 20
20 Из рецензии Грейс В. Келли в: Cleveland Plain Dealer, 11 March 1928. Перепечатка: American Art of Tomorrow, pp. 16–17.
 21
21 Из рецензии Элвина Сили «Радиофутуризм» в: New York Telegram, 23 March 1929. Перепечатка: Color and Rhyme, No. 57 (1960), p. 1a.
 22
22 Согласно Лившицу (
Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners. 1977. P. 49), Бурлюк следовал этому канону ещё зимой 1911 г., провозгласил в эссе «Кубизм» (1912).
 23
23 Энтелехизм. С. 6–12.
 24 Benedikt Livshits
24 Benedikt Livshits. The One and a Half-Eyed Archer.
Newtonville, Mass.: Oriental Research Partners. 1977. P. 51.
 25
25 «Фактура» (1912). Перевод:
J. Bowlt. The Avant-Garde in Russia 1910–1930. Catalog of exhibition at the Los Angeles County Museum of Art, 1980, pp. 129–30.
 26
26 Там же.
 27
27 Там же.
 28
28 «Кубизм» (1912). Перевод:
J. Bowlt. Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934.
New York: Viking. 1976. P. 70.
 29
29 Там же.
 30
30 Художник и теоретик искусства Николай Иванович Кульбин (1868–1917) был врачом по профессии. См. о нём:
В. Пяст. Встречи.
М. 1929. С. 276–299;
В. Шкловский. Третья фабрика.
М. 1926. С. 48–50; С. Судейкин и др. в: Кульбин. Каталог. Книга.
СПб. 1912;
J. Bowlt. Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934.
New York: Viking. 1976. Pp. 11–17.
 31
31 Color and Rhyme, No. 31 (1956), p. 29. Безграмотный перевод, орфография, и пунктуация сохранены.
 32 Е. Радин
32 Е. Радин. Футуризм и безумие.
СПб.: Карбасников. 1914. С. 46.
электронная версия на www.ka2.ru 33
33 См.:
V. Markov. Russian Futurism: A History.
Berkeley: Univ. of California Press. 1968. P. 392, note 31.
 34 Grace V. Kelley
34 Grace V. Kelley. Cleveland Plain Dealer, p. 9. Из контекста не совсем понятно, принадлежат эти слова Бурлюку или Келли.
 35
35 Цит. по: Color and Rhyme, No. 57 (1960), p. 3.
 36 Christian Brinton
36 Christian Brinton. Burliuk in 1934 // Oils, Watercolors, p. 3.
 37
37 Color and Rhyme, No. 31 (1956), pp. 17–18.
Воспроизведено по:
Canadian-American Slavic Studies, 20, Nos 1–2 (Spring–Summer 1986), pp. 25–37.
Перевод В. Молотилова
Изображение заимствовано:
Vladimir Bobritsky (Bobri), 1898–1986. Burliuk in New York. 1924.
Reproduced from «Color and Rhyme» No. 48. 1962. P. 2.
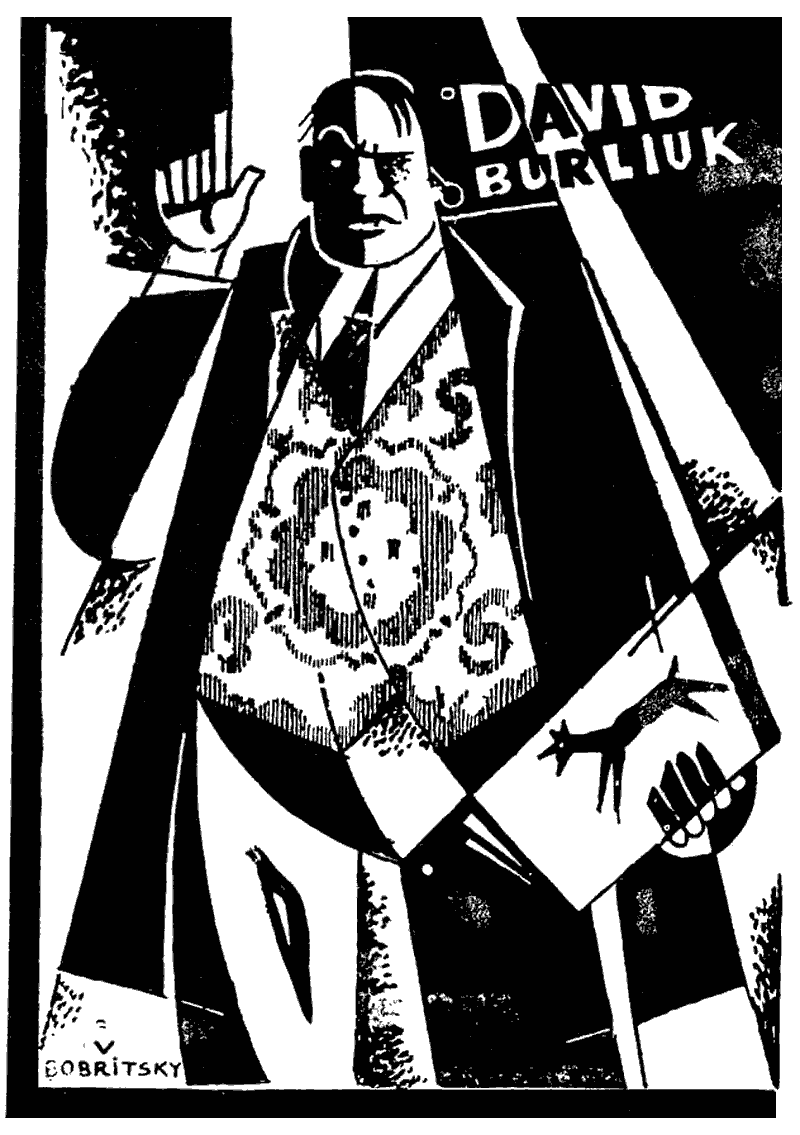
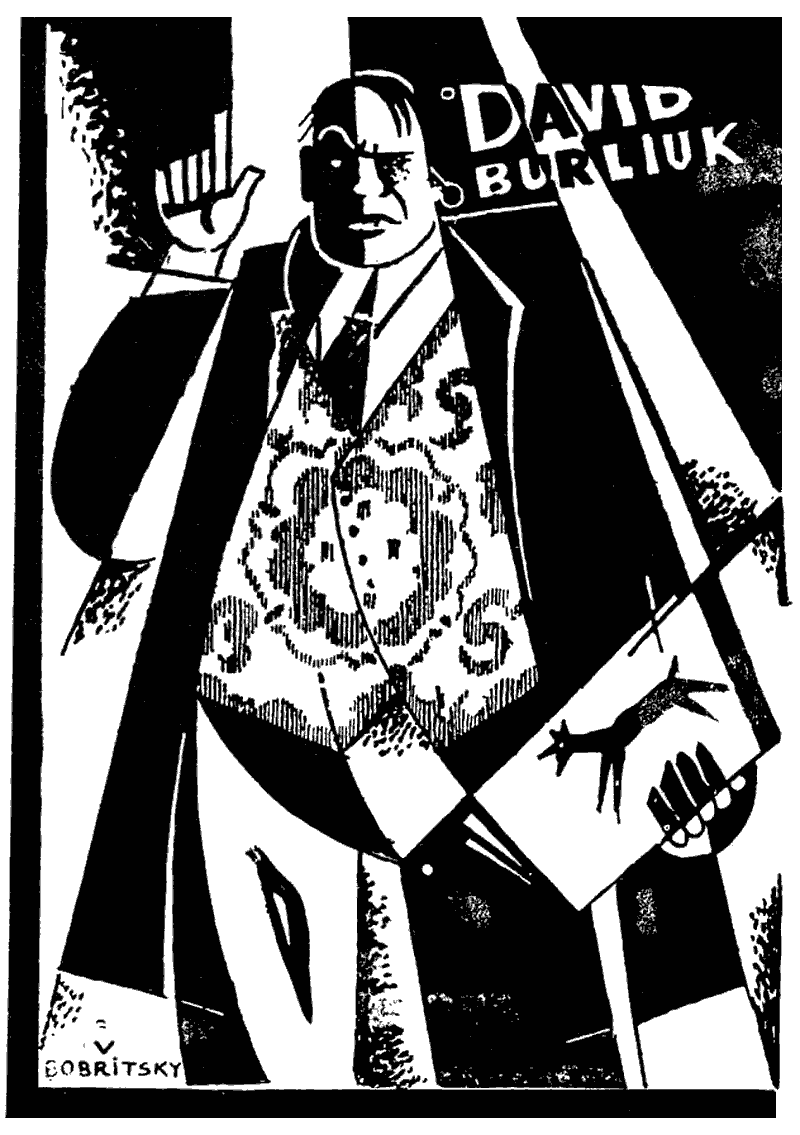
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()