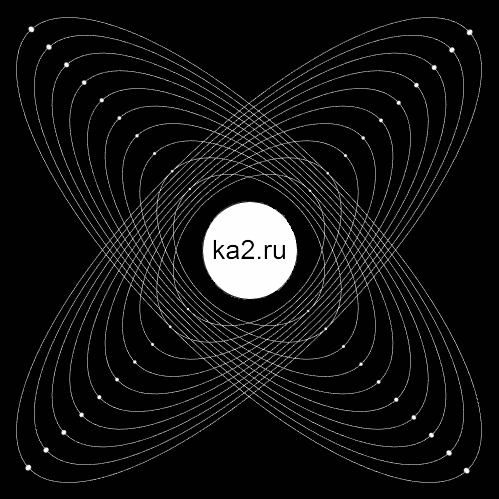Жан-Клод Ланн
“Я” в творчестве Велимира Хлебникова
И чувствую —
“Я”
Для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
В. Маяковский. Облако в штанах.1

творчестве любого писателя, будь то прозаик или поэт, его глубинное самоощущение с неизбежностью определяет избрание какого-либо жанра. Однако у самого оригинального из русских футуристов Велимира Хлебникова обычной триады (лирика, драма, эпос) в чистом виде не наблюдается. Чуть более двадцати лет тому назад в блестящей статье
2
по проблеме эпического начала в эстетике и поэтике Хлебникова Р. Дуганов задался вопросом о причинах принципиальной неопределённости “Я” великого
будетлянина. Он объяснил этот удивительный феномен “трансгенеральности” тем, что хлебниковский дискурс синкретичен, самодостаточен — и, следовательно, находится за пределами жанровых прописей. Однако в анализе причин хлебниковского полиморфизма не возбраняется пойти дальше и предположить, что “Я”, из которого исходит сообщаемая средствами поэзии мысль (“художественный дискурс”, в широком понимании), само по себе системно, выработано на основе определённой концепции языка, искусства и мира. Ниже я попытаюсь показать “функциональность” “Я”, сначала сконструированного в поэтическом тексте, а затем вошедшего в далеко превосходящий личное творчество Хлебникова контекст.
Итак, текстуальное и интертекстуальное поэтическое “Я” Хлебникова связано с сетью ассоциаций, касающихся языка (прежде всего, русского), эстетики будетлянства и, наконец, философии, которая едва ли не всегда отдаёт предпочтение воображаемому и виртуальному (в аристотелевском смысле этого слова). Заимствуя у поэта его собственный неологизм, я бы охотно порассуждал о самовитом “я”, о “внутреннем Я”, столь же оторванном от эмпирических случайностей, как и внутренняя речь (самовитое слово), питаемая переживаниями поэта. Будучи по своей природе системным, “Я”, выработанное в поэтическом воображении и посредством него, с необходимостью оказывается ключом к определённому мировоззрению. Философские предпосылки его можно найти уже в первых эссе Хлебникова, эстетические же принципы внятно изложены в манифестах и теоретических трактатах группы “гилейцев” (кубофутуристов), к которой он одно время принадлежал.
Таким образом, “Я”, представленное в художественном произведении (рассказе, пьесе, поэме, даже в научном трактате), составляет своего рода пазл и с эмпирическим “Я” автора, и с миром людей, событий и вещей, и, наконец, с Судьбой, этим как бы безличным словом Вселенной, её объективным и неумолимым законом. Мы увидим, какие удивительные слова изобретает, и какие реальные (исторические) или мифические фигуры задействует этот “футурист” в своём грандиозном научно-поэтическом предприятии. Неизбежно увеличиваясь в объёме, “Я будущего”, наконец, взрывается — и обретает универсальность, адекватно определяющую масштаб футуристической утопии. Экстраполируя и развивая прозрение Рембо („Я — это другой”),3 Хлебников выработал целостное “Я”, соразмерное Вселенной, — пример дискурса, достоинство которого не в последнюю очередь состоит в обнажении парадоксального характера “функционального Я”, предполагаемого сущностью столь же абстрактной и безличной, как Мир. Но не является ли этот кажущийся парадокс признаком того, что Хлебников называл моё эстетическое я,4
Хлебников выработал целостное “Я”, соразмерное Вселенной, — пример дискурса, достоинство которого не в последнюю очередь состоит в обнажении парадоксального характера “функционального Я”, предполагаемого сущностью столь же абстрактной и безличной, как Мир. Но не является ли этот кажущийся парадокс признаком того, что Хлебников называл моё эстетическое я,4 т.е. “Я”, дистанцированного жестом художественного изображения, “Я”, объективированного и оторванного от личности его владельца? Именно в этом разрыве между эмпирическим “Я” и “Я”, находящимся за пределами понимания, вне быта и жизненных польз,5
т.е. “Я”, дистанцированного жестом художественного изображения, “Я”, объективированного и оторванного от личности его владельца? Именно в этом разрыве между эмпирическим “Я” и “Я”, находящимся за пределами понимания, вне быта и жизненных польз,5 и заключается вся специфика хлебниковского художественного высказывания.
и заключается вся специфика хлебниковского художественного высказывания.
Формы и функции хлебниковского “Я”
Если “Я” в лингвистике есть знак включения субъекта в язык, а личное местоимение первого лица превращает язык-систему в акт высказывания, в речь,
6
то “Я”, литературного произведения, особенно лирического плана, ставит сложную проблему значения и эффективности местоимения как функции, производной от текста. По сути дела, опосредованное актом художественного “мимесиса” “Я” текста — искусственный продукт этой “литературной машины”. Как таковое, оно фиктивно, составляет “маску” или, точнее, “идею” (в платоновском смысле) текста, а эмпирическое “Я” автора и индивидуальное “Я” читателя — не более чем локальные, случайные явления: метафорические фигуры, скажем так.
7
Однако, если у большинства предшественников или современников Хлебникова операция отчуждения “Я” закамуфлирована, то у этого представителя поэтического авангарда (впрочем, и у его соратников по футуристическому движению) она „весома, груба и зрима”: “Я” безоговорочно признаётся объектом, сконструированным для включения в связную поэтическую языковую систему.
Эта система во многом определяется исходным посылом Хлебникова — “внутренней речью”, самым убедительным показателем чего является, используя формулу Малларме, „красноречивое исчезновение поэта”.8 В статье, опубликованной осенью 1913 г. в гилейском сборнике «Дохлая луна», Б. Лившиц со всей прямотой излагает радикальные выводы, неизбежно следующие из признания абсолютной свободы творчества:
В статье, опубликованной осенью 1913 г. в гилейском сборнике «Дохлая луна», Б. Лившиц со всей прямотой излагает радикальные выводы, неизбежно следующие из признания абсолютной свободы творчества:
Отрицая всякую координацию нашей поэзии с миром, мы не боимся идти в своих выводах до конца, и говорим: она неделима. В ней нет места ни лирике, ни эпосу, ни драме. Оставляя до времени в неприкосновенности определения этих традиционных категорий, спросим: может ли поэт, безразличный, как таковой, ко всему, кроме творимого слова, быть лириком? Допустимо ли превращение эпической кинетики в эпическую статику, иными словами, возможно ли, коренным образом не извращая понятия эпоса, представить себе эпический замысел расчленённым искусственно — не в соответствии с внутреннею необходимостью последовательно развивающейся смены явлений, а сообразно с требованиями автономного слова? Может ли драматическое действие, развёртывающееся по своим исключительным законам, подчиняться индукционному влиянию слова, или хотя бы только согласовываться с ним? Не является ли отрицанием самого понятия драмы — разрешение коллизии психических сил, составляющей основу последней, не по законам психической жизни, а иным? На все эти вопросы есть только один ответ: конечно, отрицательный.
9
Родовая неопределённость художественного слова у Хлебникова имеет своим источником конструктивную установку, устраняющую несущественное, чтобы создать эффект оторванного от времени, места и самого говорящего — ничейного, скажем так — слова. Современники поэта не преминули указать на эту особенность хлебниковского высказывания:
Хлебников не знает, что такое современник. Он гражданин всей истории, всей системы языка и поэзии. ‹...› Современники не могли и не могут ему простить отсутствия у него всякого намёка на аффект своей эпохи.
10
Сравним этот вердикт с приговором Б. Пастернака, ещё более суровым и несправедливым:
Был ‹...› Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего понимания всё протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью.
11
Итак, столь чувствительным к “велению времени” поэтам, каковы Мандельштам и Пастернак, проза и поэзия Хлебникова (особенно так называемая “лирическая” поэзия) показались несвоевременными. Но эта черта хлебниковского искусства эпохи футуристической ангажированности (лирическое “Я”, освобождённое от жанрового гнёта и вернувшееся к своей первоначальной абстракции) отнюдь не случайна в ландшафте авангарда тех лет. Напротив, она представляет собой кульминацию сложной эволюции роли субъекта современной поэзии
12
— эволюции, в которой сливаются эстетические, философские и психологические факторы. Между исчезновением l’ego scriptor, уступающего инициативу объективности языка, и имперским Эго, поглощающим Мир, — бесконечный простор для изменчивости субъекта. В итоге гиперболического расширения происходит своеобразное слияние “Я” с Миром, см. прозаический отрывок «Юноша Я — Мир»:
Я клетка волоса или ума великого человека, которому имя — Россия.
Разве я не горд этим?
Он дышит, этот человек, и смотрит, он шевелит своими костями, когда толпы мне подобных кричат: „долой” или „ура”. Старый Рим, как муж, наклонился над смутной тёмной женственность Севера и кинул свои семена в молодое женственное тело.
Разве я виноват, что во мне костяк римлянина?
Побеждать, завоевать, владеть и подчиняться — вот завет моей старой крови.13
Освобождённое философской рефлексией Макса Штирнера “Я” находит своё политическое прибежище в анархической практике М. Бакунина (нередко упоминаемой Хлебниковым как образец взрыва мира, закосневшего в рутине
14
) и отклик во всех певцах духовной анархии, от У. Уитмена, полагаемого К. Чуковским родоначальником футуризма,
15
до эгофутуристов, сподвижников и соперников Хлебникова в деле воспевания “вселенского Эго” (эгофутуристы называли себя
вселенцами16
). Уместно добавить и другие возможные опосредования литературного, философского и “поведенческого” порядка: западный дендизм и его теоретиков (Бодлер, О. Уайльд), сверстника футуризма французский унанимизм, русский мистический анархизм (Вяч. Иванов, Г. Чулков) и бесчисленных поборников борьбы с буржуазной культурой и её ценностями во имя защиты прав человека, “гражданина будущего” (манифесты футуристов цитируют Руссо, Ницше, Герцена, Толстого, Горького). Однако из всех “предтеч” наиболее значимым оказывается Е. Соловьёв, чей очерк «Опыт философии русской литературы» (1905) содержит все необходимые культурные предпосылки идеологической платформы футуристов. Сведённое к своему
эйдосу чисто дискурсивной направленности, “Я” может в полной мере выразить свою созидательную силу, отождествляя себя попеременно то с “Другим” в акте общения (“Ты”), то с внеличным “Оно”, которое может оказаться ограниченным сообществом (в случае футуристической группы “Я” усиливается и расширяется до размеров “Мы”) или коллективом космического масштаба (человечество, живые, Вселенная), включая Бога как личность (парадигма творцов). Таким образом, “Я” колеблется между всем и ничем, бесконечно большим и бесконечно малым:
Баграми моров буду разбирать старое строение народов,
Чернилами хворей буду исправлять черновик, человеческий листок рукописи.
Крючьями чум после пожара буду выбирать брёвна и сваи народов
Для нового сруба новой избы.
Тонкой пилою чахотки буду вытачивать новое здание,
Выпилю новый народ грубой пилой сыпняка.
Выдерну гвозди из стен, чтобы рассыпалось Я, великое Я,
То надевающее перстнем ваше это солнце,
То смотрящее через стекло слёз собачонки.17
Задолго до громогласных и провокационных заявлений А. Кручёных
18
о “субъективной объективности” новой постсимволистской гносеологии — подпитанной, надо сказать, больше теософскими реминисценциями (П. Успенский, Е. Блаватская и др.), нежели философскими цитатами — В. Хлебников развил свою концепцию Эго и его отношения к миру в прозаическом отрывке «Еня Воейков», представляющем собой нечто среднее между философским эссе к автобиографией. В этом произведении, которое сохранилось в виде черновика, он попытался обосновать эстетику
эгоморфизма,
19
возводимую на универсальном, выходящем за рамки различий между видами критерии. Этот набросок не даёт, разумеется, ответа на сложнейшую философскую проблему “трансцендентальной” природы отношений субъект – Мир в акте эстетического восприятия (или творчества), но молодой поэт-мыслитель (едва ли двадцати лет!) вознамерился преодолеть
эгоморфизм (солипсизм), присущий любой рационалистической доктрине, своего рода регрессивным подходом “наивного” или “примитивистского” типа. Такой подход направлен на восстановление целостности и непосредственности детского восприятия у взрослого, дабы последний оказался в состоянии
сохранить ‹...›
расположение к схватыванию аналогий20
— иначе говоря, мог „хорошо метафоризировать”,
21
подобно будущему поэту-“футуристу”! В конечном счёте, именно поэзия уитменовского, пантеистического и панкосмистского толка, где “Я” проникает во Вселенную и распространяется в ней, вырывает молодого мыслителя из эгоцентризма, в котором, казалось, он должен бы замкнуться как отвлечённый мыслитель. В одной из поздних стихотворений Хлебников бесподобно скажет об этом универсальном круговороте субъекта, об этом осмосе “Я” и Мира в непрерывном потоке или “струе”, в которой они взаимно отражаются:
Ра, видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде,
Созерцающий свой сон и себя
В мышонке, тихо ворующем болотный злак,
В молодом лягушонке, надувшем белые пузыри в знак мужества,
В траве зелёной, порезавшей красным почерком стан у девушки, согнутой с серпом,
Собиравшей осоку для топлива и дома,
В струях рыб, волнующих травы, пускающих кверху пузырьки,
Окруженный Волгой глаз,
Ра, продолженный в тысяче зверей и растений,
Ра, дерево с живыми, бегающими и думающими листами, испускающими шорохи, стоны.
Волга глаз,
Тысячи очей смотрят на него, тысячи зир и зин.
И Разин,
Мывший ноги,
Поднял голову и долго смотрел на Ра,
Так что тугая шея покраснела узкой чертой.22
Это величественное стихотворение, где использованы роскошные „гераклитовские метафоры”,
23
имеет замечательное свойство, присущее авангардному искусству в целом: отсылать и к седой древности, и к новейшим достижениям живописи. Налицо
круговое видение, которое превращает вселенную в паноптическую структуру;
слияние множественного и единого (здесь это действительно эхо учения Гераклита);
взаимопроникновение самых разных времён, мест и языков (Ра, древнее название Волги,
вместе с тем имя верховного бога египетской мифологии24 );
);
Разин, знаменитый предводитель крестьянского восстания XVII века);
поразительное обновление возможностей русского языка путём разложения слов
на значащие составные части (Разин = Ра зин = Волга глаз). Но в этом тщательно зашифрованном стихотворении наиболее примечательной подробностью оказывается разливанность “Я”: бог Ра, река Ра, мир предметов, поток взглядов — всё это “Я”, скрытое в имени Разина,
двойника поэта в его собственной поэтической мифологии.
25
И, оставаясь в регистре архаики, мощно подпитывавшей поэтику Хлебникова, можно с полным основанием сказать, что здесь (да и во многих других его произведениях) “Я” суть “никто”: поэт, подобно хитроумному Одиссею с его „тысячей уловок” (
polytropos Odysseus),
26
сводит воедино множество “тропов”, чтобы скрыть свою личность под их разнообразием... разнообразием масок. Эти наблюдения побуждают рассмотреть особенности хлебниковского “Я” в литературных текстах.
Особенности “Я” в творчестве Хлебникова
Итак, хлебниковский дискурс (будь то проза или стихи) стремится оторваться от случайностей эмпирического мира и достичь идеальной нормы нейтрального, объективного высказывания, где вещи самостоятельно изъясняются, излагая законы своего возникновения, строения и связи друг с другом. Как показал Р. Дуганов, творчество Хлебникова, взятое в целом, есть “допущение” единичным субъектом (поэтом) абсолютного, объективного состояния речи. Это, конечно, не значит, что поэт полностью отмежевался от своего времени, своей истории, национальных традиций или даже от своего языка. Такое невозможно: в конце концов, само занятие словесностью предполагает намерение нечто сообщить. Но все особенности творчества Хлебникова, чаще всего критикуемые современниками
27
(избыток неологизмов, заумь, крайняя отвлечённость и безличность, “несвоевременность” и т.д.), свидетельствуют о направленности его на слияние с научным дискурсом и уход в математические изыскания. В заметке начала 1921 года раскрыт общий смысл хлебниковского проекта, цель его теоретико-поэтической системы:
Дать очерк жизни человечества на земном шаре не краской слов, а строгим резцом уравнений — вот моя задача.
28
На пике такой эволюции, когда дискурс приведён в наибольшее соответствие реальному мировому порядку, язык упраздняется числовой формулой,
повестью без слов — единственным, по Хлебникову, изоморфным строению мироздания типом высказывания, ибо таковое устраняет малейшее подозрение в личностном подходе. Самоустранение автора как такового приводит к подлинному пресуществлению речи, которая, таким образом, переходит от оценки качеств к измерению количеств (ср. отрывки, касающиеся отношения между словом и числом в гл. II “хронометрического” эссе «Время мира мира»).
29
Это радикальное следствие развития импликаций “независимого или внутреннего дискурса” ретроспективно проливает свет на стремление к всеохватности, присущее футуристской утопии. Преобразуется не только природа художественного высказывания (то, что Кручёных назвал „художественным предложением”
30
), но и его структура, которая тоже становится соэкстенсивной всем типам дискурса: жанры смешиваются, проза и поэзия обмениваются родовыми признаками, границы между художественным и научным стираются. Более того, налицо
континуум лирических миниатюр начала творческого пути (знаменитые «Крылышкуя...» или «Бобэоби пелись губы...», например) и «Досок Судьбы» — последней стадии его полиморфного творчества, этого образца тотального дискурса, способного вместить в себя все способы высказывания человека о Мире и его тайнах. Но, парадоксальным образом, победа числа не означает поражения слова. Отнюдь нет: Мир в своём временнóм развитии (история) сродни изящной словесности (
Мир как стихотворение);
31
таблицы, раскрывающие “законы” истории, составлены по строго поэтическим (регулярное повторение подобных явлений, построение событий по периодам, ритмизация времени и др.). Произведение, в собственном смысле этого слова, оказывается fabula Mundi, структурированной речью, которая порождает закон возникновения Мира. Налицо торжество “поэтики” в строгом смысле этого слова: она сливается с “математикой” — но поверх неё.
Особые черты поэзии Хлебникова проистекают из стирания однозначности высказывания чувством, которое переполняет поэта и порождает нечто, произносимое по наитию. “Я” довольствуется тем, что перепоручает свой “голос” силам Вселенной — тёмным силам, которые дремлют в нём, и которые оно высвобождает. Монотонные парадигматические ряды, усеивающие черновики поэта, суть отражение этой “автопоэтичности” речи Хлебникова: он фиксирует присущую языку “фрактальность”, выявляет порождающий принцип вокабул или формул, показывает морфологию в действии посредством бесконечных парономастических или гомеосуффиксальных рядов. Таково знаменитое «Любхо» (Залюблюсь-влюблюсь, любима, любнея в любинках и т.д.), ряды Зарошь | дебошь | варошь | студошь | жарошь | сухошь | мокошь | темошь или Трепетва | Зарошь | Умнязь | Дышва | Дебошь | Песнязь | Помирва | Варошь | Вечязь и т.д.32
Как видно из этих примеров, парадигматические ряды связаны с неологией (словотворчеством), а “Я” оказывается в ассоциативной сети, которая вовлекает его как в будущее, так и, по выражению Мандельштама, в „этимологическую ночь” языка.33 Это “Я” располагается на обоих концах эволюционной цепи, оказываясь одновременно и гражданином будущего (будетлянин | будийца | будущник), и альфой, Адамом первых дней, “áзом” языка архаики и мифологии. И поэт тематизирует этот природной метаморфизм “Я” в произведениях, без околичностей показывающих его исконную невещественность («Песнь Мирязя», «Училица», «Дети Выдры», «Ка» и др.). Можно расширить список, но именно в этих произведениях “Я”, ускользая от “разоблачения”, пробегает по тексту в нескольких обличьях. Самое странное из них — реанимированный Ка египетской мифологии, бодро пересекающий пространства и эпохи призрак, меняющий свою идентичность по воле автора. Но в финале этого сказочного повествования читатель задаётся вопросом о “Я”, которое это повествование ведёт, скрываясь под множеством личин. Среди повторяющихся слов, которые у Хлебникова означают постоянное перемещение “действующего лица” в речевом потоке, наиболее знаковыми являются волна и молния. Они адекватно выражают невещественность этой сущности, охватывающей вселенную и отождествляющей себя последовательно (или одновременно) со всем и вся. В поэме «Сёстры-молнии» тематизирована многоаспектность творческой энергии, которая есть (фактически) Мир. Подобно актёрам, сёстры рядятся в самые разнообразные облачения, “принимая” при этом облик весьма непохожих друг на друга “лиц”: мошки, облака, печи, меча, русалки! Квазиматематическая формула этого вечного переодевания дана в конце поэмы:
Это “Я” располагается на обоих концах эволюционной цепи, оказываясь одновременно и гражданином будущего (будетлянин | будийца | будущник), и альфой, Адамом первых дней, “áзом” языка архаики и мифологии. И поэт тематизирует этот природной метаморфизм “Я” в произведениях, без околичностей показывающих его исконную невещественность («Песнь Мирязя», «Училица», «Дети Выдры», «Ка» и др.). Можно расширить список, но именно в этих произведениях “Я”, ускользая от “разоблачения”, пробегает по тексту в нескольких обличьях. Самое странное из них — реанимированный Ка египетской мифологии, бодро пересекающий пространства и эпохи призрак, меняющий свою идентичность по воле автора. Но в финале этого сказочного повествования читатель задаётся вопросом о “Я”, которое это повествование ведёт, скрываясь под множеством личин. Среди повторяющихся слов, которые у Хлебникова означают постоянное перемещение “действующего лица” в речевом потоке, наиболее знаковыми являются волна и молния. Они адекватно выражают невещественность этой сущности, охватывающей вселенную и отождествляющей себя последовательно (или одновременно) со всем и вся. В поэме «Сёстры-молнии» тематизирована многоаспектность творческой энергии, которая есть (фактически) Мир. Подобно актёрам, сёстры рядятся в самые разнообразные облачения, “принимая” при этом облик весьма непохожих друг на друга “лиц”: мошки, облака, печи, меча, русалки! Квазиматематическая формула этого вечного переодевания дана в конце поэмы:
Мы — равенство миров, единый знаменатель.
Мы ведь единство людей и вещей.
Мы учим узнавать знакомые лица в корзинке овощей,
Повсюду единство, мы — мира кольцо!
Бога лицо.
Мыслители, нате!
Этот плевок — миров столица,
А я — весёлый корень из нет-единицы.34
Таким образом, Мир представляет собой спектакль “из себя и для себя”,
35
где одна и та же сущность, нейтральная и абстрактная, аналогичная индуистскому Брахме, облекается несметью идентичностей. Именно в этом мифопоэтическом ключе Хлебников решает проблему
осады множеств.
36
Подобно Всемиру писателя-космиста и философа А.В. Сухово-Кобылина, “Все-Я”, “космическое Эго” Хлебникова является движителем поэтической соборности. Словно авраамический Бог, который одновременно нигде и всюду в сотворенном Им Мире, “бог” литературного произведения, его творец, единосущен своему созданию, составляет его чистую форму, деятельное начало. Он есть буквально имя собственное, “текст-личность”, как во всём блеске поэтического откровения возвещает «Единая книга»:
Род человеческий — книги читатель,
И на обложке надпись творца,
Имя моё, письмена голубые.
Да ты небрежно читаешь,
Больше внимания!
Слишком рассеян и смотришь лентяем,
Точно урок Закона Божьего.
Эти снежные горные цепи и большие моря,
Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтёшь.37
Вывод
К функционированию “Я” в текстах Хлебникова можно было бы применить то, что сам он сказал об обыденных словах в “логокритической” части своего сочинения «Время мера мира»:
Вопрос о сравнении “постоянных мира” связан с соотношениями числа и слова. Наиболее проницательные умы не умеют иначе определить мышление посредством слова, как малосовершенное измерение мира. Человек, который бы измерял мир с помощью единицы длины, дав ей право изменяться от вершка до версты и от длины световой волны до длины проходимой светом в год, находился бы в положении человека, пользующегося словом, как орудием мысли. Словом “мало” можно назвать и число звёзд на Млечном пути, и число глаз или рук (на теле).38
“Я”, представленное в творчестве великого футуриста, наделено семантической широтой, равной смелости и размаху его лингвистической, поэтической и философской утопии. Колеблясь между эмпирическим “Я” поэта и трансфинитным “Я” Бога-Творца, провозглашая, подобно древнему Фатуму, закон последовательности событий, составляющих время людей, (Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с Богом до миротворения39 ), текстуальное “Я” Хлебникова гибнет в акте самопожертвования “первой инстанции”, стоит ему войти в структуру произведения. Если в «Единой книге» Веды, Евангелие и Коран приносят себя в жертву, чтобы ускорить появление единой Книги природы, воссозданной поэтом, то последний, в свою очередь, лишает себя эмпирического “Я”, дабы открыться неограниченному кругу потенциальных читателей, каждый из которых по-своему воспримет это чистое, универсальное “Я”. Действом подлинной литературной “трансперсонализации” “Я” оказывается его самосожжение в коротком стихотворении, где оно, подобно фениксу, восстаёт из пепла уже как Мы, в знаке новой общности, утверждаемом самим жестом поэтического творчества:
), текстуальное “Я” Хлебникова гибнет в акте самопожертвования “первой инстанции”, стоит ему войти в структуру произведения. Если в «Единой книге» Веды, Евангелие и Коран приносят себя в жертву, чтобы ускорить появление единой Книги природы, воссозданной поэтом, то последний, в свою очередь, лишает себя эмпирического “Я”, дабы открыться неограниченному кругу потенциальных читателей, каждый из которых по-своему воспримет это чистое, универсальное “Я”. Действом подлинной литературной “трансперсонализации” “Я” оказывается его самосожжение в коротком стихотворении, где оно, подобно фениксу, восстаёт из пепла уже как Мы, в знаке новой общности, утверждаемом самим жестом поэтического творчества:
Я вышел юношей один
В глухую ночь,
Покрытый до земли
Тугими волосами.
Кругом стояла ночь,
И было одиноко,
Хотелося друзей,
Хотелося себя.
Я волосы зажёг,
Вросалея лоскутами колец
И зажигал кругом себя.
Зажёг поля, деревья,
И стало веселей.
Горело Хлебникова поле,
И огненное Я пылало в темноте.
Теперь я ухожу,
Зажегши волосами...
И вместо Я
Стояло Мы!40
————————
Примечания 1 В. Маяковский
1 В. Маяковский. Облако в штанах // Полное собрание сочинений. Т. I.
М. 1955. С. 179.
 2 Р. Дуганов
2 Р. Дуганов. Проблема эпического в эстетике и поэтике Хлебникова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 35. 1976. №5. С. 426–439.
воспроизведено на www.ka2.ru 3 A. Rimbaud
3 A. Rimbaud. Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871 // Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1972. P. 250.
 4
4 Выражение
моё эстетическое я встречается в одном из первых рассказов Хлебникова «Еня Воейков» // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг / Cост. и изд. Н.А. Зубкова.
Л. 1988. С. 159.
 5
5 Выражение заимствовано у В. Хлебникова, который использовал его в предисловии к изданию своих произведений под ред. Р. Якобсона, для характеристики
самовитого слова (Свояси // Собрание произведений Велимира Хлебникова (далее СП). Т. II.
Л. С. 9).
 6
6 См. по вопросу о языковом “Я” ставшие уже классическими статьи É. Benveniste (La nature des pronoms et De la subjectivité dans le langage // Problèmes de linguistique générale.
Paris: Gallimard. 1966. P. 251–257; 258–266).
 7
7 О парадигматической ценности литературного “Я” ср. анализ Ю. Тынянова в статье «Блок» (
Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы,
Л. 1929. С. 512–520), а также блестящие интуиции П. Валери, рассеянные в разделах его тетрадей, касающихся поэзии и литературы (
P. Valéry. Cahiers. T. II.
Paris: Gallimard. 1974. P. 987–1242).
 8
8 „Чистое произведение подразумевает исчезновение поэта, который уступает инициативу словам...” (Crise de vers: variations sur un sujet //
S. Mallarmé. Œuvres complètes.
Paris: Gallimard. 1974. P. 366).
 9 Б. Лившиц
9 Б. Лившиц. Освобождение слова // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 76.
 10 О. Мандельштам
10 О. Мандельштам. Буря и натиск // Собрание сочинений в двух томах (далее СС). Т. II.
New York. 1966. P. 390.
 11 В. Pasternak
11 В. Pasternak. Sauf-conduit // Œuvres.
Paris: Gallimard. 1990. P. 618.
 12
12 Хьюго Фридрих (
Hugo Friedrich. Structures de la poésie moderne.
Paris: Denoël – Gonthier. 1976. P. 41–42, 88–90 et 145–147) говорит по этому поводу об обезличивании или дегуманизации поэзии.
 13
13 Цит. по:
Khlebnikov. Nouvelles du Je et du Monde.
Paris: Imprimerie Nationale. 1994. P. 148.
 14
14 Например, в стихотворении «Б» //
В. Хлебников. Неизданные произведения.
М. 1940. С. 180.
 15 К. Чуковский
15 К. Чуковский. Эгофутуристы и кубофутуристы // Шиповник, кн. 22, 1914.
 16
16 См.:
И.В. Игнатьев. Эго-футуризм // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 37–47.
 17
17 СП V: 100–101/ См. также пьесу «Хочу я» (СП IV: 162–163), в которой воля “Я” сливается с необъятностью
Всесущини!
 18
18 См., например, статью А. Кручёных (Новые пути слова // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 64–72), выражающую в агрессивных формулировках эстетику и философию
будетлянства.
 19
19 Выражение
ego-morphism принадлежит самому Хлебникову (Еня Воейков // Исследование памятников письменной культуры в собраниях и архивах отдела рукописей и редких книг / Cост. и изд. Н.А. Зубкова.
Л. 1988. С. 160).
 20
20 Там же, с. 160.
 21
21 В своей «Поэтике» Аристотель пишет, что свойство поэта — „хорошо метафоризировать”. При этом „хорошо использовать метафоры — значит ясно видеть сходство” (Poétique, 1459 а 5). Это высказывание приведено в «Ене Воейкове» почти дословно.
 22
22 Цит. по:
Vélimir Xlebnikov. Zangezi et autres poèmes.
Paris: Flammarion. 1996. P. 174.
 23
23 Выражение принадлежит Мандельштаму, который применяет его к типу метафор, действие которых заключается в стирании, “разжижении” сравниваемого посредством сравнения, подчёркивая при этом текучесть наблюдаемого явления. Мандельштам считает Данте мастером „гераклитовской метафоры” (СС II: 425).
 24
24 Более подробный анализ этого прекрасного стихотворения, воистину хлебниковского поэтического искусства “в действии”, должен выявить это “созвучие” двух культур, русской и египетской, неоднократно отмеченное поэтом, — в поэме «Хаджи-Тархан», например. Заметим только, что это стихотворение «Ра, видящий очи свои...» — прекрасный образец “осирианского” расчленения и рассеяния лирического “Я”.
 25
25 См. один пример среди многих других в «Трубе Гуль-муллы», гл. 3 (СП I: 234).
 26
26 Это эпитет, использованный Гомером в первой строке «Одиссеи» для краткой обрисовки своего героя: „Andra moi ennepe, mousa, polytropon etc.”.
 27
27 Хлебников составил антологию этих критических замечаний в пьесе «Зангези». После лирического полёта поэта-пророка Зангези (состоящего в основном из неологизмов) толпа кричит:
Зангези! Что-нибудь земное! (выделено мной —
Ж.-К. Л.)
Довольно неба! (Цит. по:
Vélimir Xlebnikov. Zangezi et autres poèmes.
Paris: Flammarion. 1996. P. 313). Действительно, хлебниковский поэтический дискурс весьма часто примыкает к “небесному” (абстрактному) дискурсу научной космологии.
 28
28 Цит. по:
В.П. Григорьев. Грамматика идиостиля.
М. 1983. C. 146.
воспроизведено на www.ka2.ru 29
29 В. В. Хлебников, Собрание сочинений. Т. III.
München: Wilhelm Fink. 1972. P. 446–447.
 30 А. Кручёных, В. Хлебников
30 А. Кручёных, В. Хлебников. Слово как такое // Манифесты и программы русских футуристов.
München: Wilhelm Fink. 1967. P. 55.
 31
31 Тезисы к выступлению. СП V: 259.
 32
32 СП II: 274, 177.
 33
33 СС II: 287.
 34
34 СП III: 170.
 35
35 Можно было бы поговорить о концепции мира как спектакля, либретто которого было бы платоновским «Парменидом». Хлебников — современник поисков Евреиновым новой театральности (монодрама) — сочинил пролог к футуристической опере «Победа над солнцем», где раскрывает своё прочтение драматического мимесиса посредством потока неологизмов («Чернотворские вестучки», СП V: 256–257). Наконец, в письме к В. Мейерхольду он кратко, но с теми же образами переодевания, излагает свою концепцию
искусства игры (СП V: 318–319).
 36
36 СП V: 259.
 37
37 СП III: 69.
 38 Khlebnikov
38 Khlebnikov. Nouvelles du Je et du Monde.
Paris: Imprimerie Nationale. 1994. P. 431.
 39
39 Там же, с. 54.
 40 Vélimir Xlebnikov
40 Vélimir Xlebnikov. Zangezi et autres poèmes.
Paris: Flammarion. 1996. P. 183.
Воспроизведено по:
Lanne Jean-Claude. La représentation du “je” dans l’œuvre
de Velimir Xlebnikov // Revue des études slaves, tome 70, fascicule 1, 1998.
Communications de la délégation française au XIIe Congrès international des slavistes
(Cracovie, 27 août — 2 septembre 1998). P. 151–162.
Перевод В. Молотилова
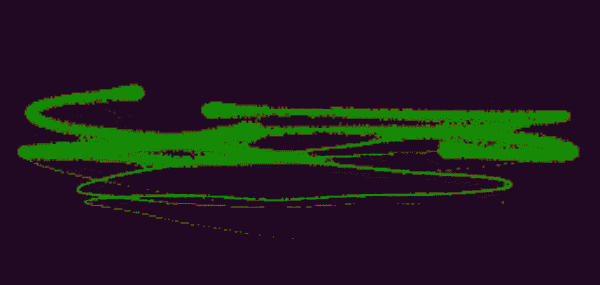
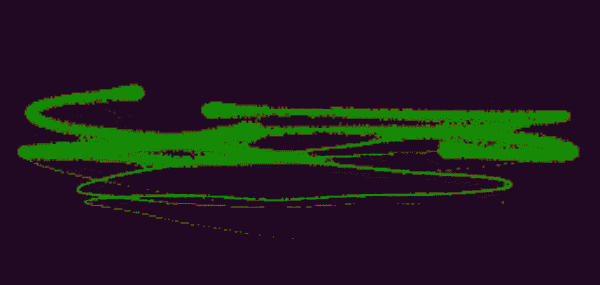
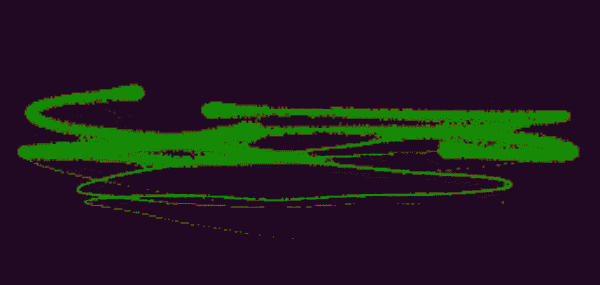
![]()
 творчестве любого писателя, будь то прозаик или поэт, его глубинное самоощущение с неизбежностью определяет избрание какого-либо жанра. Однако у самого оригинального из русских футуристов Велимира Хлебникова обычной триады (лирика, драма, эпос) в чистом виде не наблюдается. Чуть более двадцати лет тому назад в блестящей статье2
творчестве любого писателя, будь то прозаик или поэт, его глубинное самоощущение с неизбежностью определяет избрание какого-либо жанра. Однако у самого оригинального из русских футуристов Велимира Хлебникова обычной триады (лирика, драма, эпос) в чистом виде не наблюдается. Чуть более двадцати лет тому назад в блестящей статье2![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()