

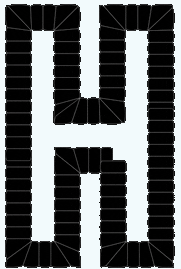 а меня возложена рискованная задача открыть сборник «Слово как таковое», посвящённый столетней годовщине русского футуризма. Знаменитый лозунг футуристов стал заглавием и моей статьи, поскольку я хотел бы кратко рассмотреть, какие последствия для стихотворчества повлекли за собой принципы, выдвинутые литературными группами, заявившими о себе в России начала XX века как об авангарде искусства. А именно речь пойдёт о литературном объединении «Гилея», более известном под названием “кубофутуристическая школа будетлян”. Эти принципы, изложенные в уставах, манифестах и теоретических статьях, сводятся в конечном счёте к простому на вид тезису — „самовитое слово” или „слово как таковое” (см. «Пощёчина общественному вкусу» [Манифесты 1967: 50–51]). Поэты-будетляне, называвшие себя „речетворцы” или „баячи”, имели своей целью не что иное, как возврат поэтической речи и литературы вообще к их внутренней сути, к чистоте поэтического слова, освобождённого от всякого побочного элемента. Один из лозунгов этой творческой группировки без обиняков гласил, что „язык должен быть прежде всего языком” [Кручёных, Хлебников 1967: 56; курсив авторов. — Ж.-К. Л.], то есть отказаться от насаждения лежащих вне его границ ценностей (идеологических, философских, нравственных и т.д.) [там же: 59]. Обновлённая поэтика основывалась на отрицании взгляда на язык как на инструмент, на нежелании рассматривать речь как простую служанку смысла, чуждого, по их мнению, сущности словесного искусства.
а меня возложена рискованная задача открыть сборник «Слово как таковое», посвящённый столетней годовщине русского футуризма. Знаменитый лозунг футуристов стал заглавием и моей статьи, поскольку я хотел бы кратко рассмотреть, какие последствия для стихотворчества повлекли за собой принципы, выдвинутые литературными группами, заявившими о себе в России начала XX века как об авангарде искусства. А именно речь пойдёт о литературном объединении «Гилея», более известном под названием “кубофутуристическая школа будетлян”. Эти принципы, изложенные в уставах, манифестах и теоретических статьях, сводятся в конечном счёте к простому на вид тезису — „самовитое слово” или „слово как таковое” (см. «Пощёчина общественному вкусу» [Манифесты 1967: 50–51]). Поэты-будетляне, называвшие себя „речетворцы” или „баячи”, имели своей целью не что иное, как возврат поэтической речи и литературы вообще к их внутренней сути, к чистоте поэтического слова, освобождённого от всякого побочного элемента. Один из лозунгов этой творческой группировки без обиняков гласил, что „язык должен быть прежде всего языком” [Кручёных, Хлебников 1967: 56; курсив авторов. — Ж.-К. Л.], то есть отказаться от насаждения лежащих вне его границ ценностей (идеологических, философских, нравственных и т.д.) [там же: 59]. Обновлённая поэтика основывалась на отрицании взгляда на язык как на инструмент, на нежелании рассматривать речь как простую служанку смысла, чуждого, по их мнению, сущности словесного искусства.Образцы, взятые из произведений представителей русского футуризма, послужат мне иллюстрацией применения на практике указанных сентенций о поэзии. Затем я постараюсь показать, какие технические приёмы использовали эти поэты (провозгласившие себя новаторами) для повышения интенсивности и действенности поэтического выражения. Нарушение традиционной архитектуры высказывания в поэзии авангарда подчиняется логике, которая почти не отличается от глубинных и поступательных тенденций развития “языка поэзии” вообще. Эти “дискурсивные случайности” обусловлены и историей западноевропейской поэзии во всей её совокупности, философской и художественной средой, благоприятной для расцвета доктрины „самовитого слова”.
Развитие поэзии французского постромантизма, на которую ссылались будетляне и в особенности их главный теоретик Бенедикт Лившиц, влекло за собой в силу некоторой внутренней необходимости изнеможение поэтического дискурса, то есть почти полное исчезновение субъекта, и вместе с тем установление безличной речи, когда инициатива как бы передаётся самим словам, которые должны изрекаться без помощи авторского голоса. Стефан Малларме довёл до совершенства эту аскетическую тенденцию поэтического дискурса. В критической и рефлективной с той поры поэзии говорит не столько поэт, сколько сама поэзия, изрекаемая беззвучным, безличным, безымянным голосом. Вследствие такого “локутивного исчезновения” поэта, высказывание становится вещью, стихотворение — предметом, секретирующим смысл независимо от какой-либо субъективности или какой-либо воли, которая была бы первопричиной речевого акта. При таком постепенном истощении высказывания, вплоть до „умалчиваемого стихотворения”, до „пробелов” [Mallarme 1984а: 366], язык распадается на части, растворяется до полного субстанциального превращения в немой письменный след, “объективный”, ограниченный самим собой, подобно вещи, и в таком качестве собственно невыразимый. Именно этот процесс постепенного рассеивания живой и звучащей поэтической речи воспроизводили русские футуристы. Но, следуя призывам к разрушению Гийома Аполлинера и Филиппо Томмазо Маринетти (уничтожение “я” в литературе, замещение субъективности материалом, “живописность” поэзии и т.д. [см.: Apollinaire 1973; Marinetti 1973]), они превзошли “словоубийственный” акт Малларме.
В начале XX века в России язык как раз восстаёт против господства разума и пытается навязать ему свои собственные законы. Язык хочет узурпировать традиционно закреплённую за мыслью функцию и считает себя вправе думать за человека. Всё больше и больше растёт зияние между, с одной стороны, динамизмом языка, стремящегося к автаркии, к полному и совершенному выражению бытия, и, с другой стороны, рассуждающей мыслью, которая продолжает верить в традиционные возможности Логоса. Антагонизм между языком и разумом приводит, таким образом, к эмансипации языка от господства разума, и этот кризис происходит в специфических условиях — философских, литературных и религиозных, наиболее выдающиеся черты которых необходимо очень кратко описать.
Прежде всего имел место кризис символизма и лингвистических концепций, носителем которых он являлся. Мы можем утверждать, что, по меньшей мере, косвенно этот кризис стимулировал интенсивное размышление о природе знака, которое должно было привести к теории „слова как такового”. В центре дискуссий и полемики между символистами, акмеистами и футуристами стояла, в сущности, проблема способности речи — и главным образом поэтической речи — выражать прямо и неопосредованно совокупность бытия. Тезис футуристов (в частности, будетлян) опирался на веру в то, что расширение границ человеческого разума (заумь) подразумевает необходимым образом увеличение экспрессивных и смысловых возможностей речи — знаменитый заумный язык. Отрицание кантовских гносеологических ограничений, отказ от платоновского „разумного постижения”, вера в возможность для человека поставить себя с помощью языка в самую сердцевину вещей,1![]()
Значимость живописной парадигмы первостепенна для поэтов авангарда — и, прежде всего, для тех, кто без колебаний признавал за собой наименование кубофутурист или называл “словесным кубизмом” свою поэтическую практику.
Действенной для поэтов оказывается методика разрушения подражательного принципа в живописи: картина изображает уже не объекты внешнего мира, а выставляет напоказ материал и живописные приёмы, “лицо явлений”. Вытесняя же объект, искусство становится абстрактным. В своих прокламациях художники слова („речетворцы”) шли еще дальше по пути живописной не-объективности:
Словесное искусство пыталось возвратить “форму высказывания” обратно к самому процессу значимой коммуникации, и футуризм в целом может справедливо быть охарактеризован как поиск “внутреннего приёма”.2![]()
Здесь своеобразный пример теоризации „самовитого слова”, работающей по модели естественных наук, а независимое поэтическое высказывание уподобляется явлениям природы.
Из многочисленных манифестов и теоретических эссе, излагающих принципы новой поэтической речи, я остановлюсь только на тех, которые с наибольшей ясностью и точностью объясняют сдвиг в правилах поэтического высказывания.
Для Лившица, наиболее опытного теоретика группы «Гилея», освобождение поэтического слова означает, прежде всего, смещение критерия ценности поэтического произведения; смещение это вытекает из разрыва между сознанием поэта и миром. Произведение, подчиняющееся единственно “индукционному влиянию” самого слова, выходит за рамки традиционных жанровых категорий: „В ней [в поэзии футуристов. — Ж.-К. Л.] нет места ни лирике, ни эпосу, ни драме” [Лившиц 1967: 76].
У Кручёных, наоборот, речь шла преимущественно о борьбе с подчинением слова “понятийному значению” для того, чтобы установить — или восстановить — другое значение, более обширное, сверхразумное или надсмысловое, более полное, поскольку оно включает в себя иррациональную составляющую, образованную из звуков означающего, из фонем:
Сверхзаумный язык, заумь, является прямым выражением „самовитого слова”, своего рода самопроизвольным выражением, осуществляющимся вне прямого контроля рассудка, разума. Заумь — это язык некоего разума, который превосходит сам себя, выходит за пределы кантовского разума, чтобы выразить единое целое человека-творца, то, что Кручёных называет „переживанием”, грубым ощущением полноты определённого мгновения.
Дробление процесса поэтического высказывания совершается за счёт систематичности языкового кода: будучи своеобразной и неповторяемой, заумная речь возникает, чтобы тут же самоупраздниться и быть забытой. Заумь — индивидуальна и лишена социальной составляющей обычного языка, она — “моментальна”, как вскрик, не поддающийся, по существу, повторному использованию в качестве знака. Будетлянский „речетворец” говорит своей публике: „прочитав — разорви!” [Кручёных, Хлебников 1967: 57; курсив авторов. — Ж.-К. Л.].4![]()
Одним словом, все теоретики „самовитой речи” — по крайней мере, те, которые являлись ещё и поэтами, как Лившиц, Хлебников, Кручёных, — начиная с вопроса о разных типах значений в поэтическом высказывании (в поэтической речи) предлагали, зачастую после поверхностных размышлений, расширение, которое парадоксальным образом осуществляется благодаря простому разрушению традиционных семантических функций.
Однако судить о русских футуристах надо не столько по их теориям о поэтическом языке, сколько по произведениям их поэзии. В псевдотеоретических рассуждениях будетлян актуально их воздействие на строй поэтического дискурса, а также те нарушения, что вызвали они в классическом поэтическом высказывании. Концепт „самовитой речи” свидетельствует об упорном желании лишить речь прозрачности, сделать из её смысла вещь, превратить её в особую независимую субстанцию, которая, подобно предмету, сводилась бы к себе самой, перестав быть знаком чего-то иного. Стало быть, следует рассмотреть, порождает ли данная материализация речи специфическое высказывание с особыми признаками, способными нацелить восприятие поэтического сообщения на форму и лишь только на форму. У средств, дестабилизирующих строй обыкновенного поэтического дискурса путём наделения смыслом каждой из его составляющих, есть своя иерархизация; между безличностью высказывания и его окончательным исчезновением выстраиваются следующие ступени: распад привычных синтаксических связей, разрушение означающих единиц (заумь у Кручёных) или чистая неология (у Хлебникова), своего рода дискурсивная “автонимия”, при которой поэтическая речь или художественное высказывание отсылает к совокупности грамматических форм языка (к примеру, нередкие парадигмы склонений у Хлебникова), и, наконец, вытеснение действительного высказывания, уступающего своё место значимости графического знака.
Теперь я представлю несколько типичных примеров, иллюстрирующих указанное поэтапное продвижение к угасанию словесного высказывания. На каждом уровне разрежения смысла проект будетлян остаётся одним и тем же: сломать всякое иконическое отношение к реальности, всякое отношение, основанное на подражании какое-либо внешней модели; и на горизонте этого по-настоящему “логоборческого” проекта открывается конец речи, простой отказ от её vox significativa.
Творчество Хлебникова в целом может служить иллюстрацией последствий самовитости поэтической речи. Относительно лирических, по всей видимости, стихотворений говорилось об “интегральном я”, которое соединяло бы в себе личное “я” лирического героя с безличным “он” мира или же “лирическое состояние мира” с “эпическим состоянием личности”. У Хлебникова на самом деле мир и личность “обоюдно-экстенсивны”, в соответствии с формулой-заголовком одного из его коротких рассказов «Юноша Я-мир». Философия абсолютного слова подразумевает холистический, целостный дискурс, в котором сливаются лирические, драматические и эпические состояния, признаваемые обычно различными и раздельными. У Хлебникова возращение слова к “вербальности” предполагает такую эстетику последнего, когда оно возводится в ранг космогонического принципа [см.: Дуганов 1976]: для Хлебникова действительно „в начале было Слово”, и Слово было Мир. Отсюда особая объективность поэзии, которая преимущественно в своей заумной форме имеет притязания на то, чтобы быть миром, а не просто говорить и означать.
Разложение узуальных синтаксических отношений представляет собой ещё один приём, нацеленный на замену миметической повествовательности принципом статической не описательной экспрессивности, которая отвлекает внимание получателя от высказывания (“субъекта” дискурса) в сторону характера процесса порождения высказывания. Такой технический метод прекрасно виден в стихотворениях из сборника Лившица «Волчье солнце», показывающих, чего может стоить чисто формальная поэзия. Однако торжествует этот метод во всей своей теоретической чистоте в триптихе „кубической прозы” «Люди в пейзаже», впервые напечатанном в сборнике «Пощёчина общественному вкусу» и затем, в 1914, перепечатанном в конце «Волчьего солнца» [см.: Лившиц 1989: 547].
В обширной теоретической статье под названием «В цитадели революционного слова» Лившиц оправдывает расшатывание синтаксиса как в своей поэзии, так и в „кубической прозе”, опираясь на постулаты „самовитого слова” [Лившиц 1919]. В своём собственном комментарии к «Людям в пейзаже» Лившиц говорил о „немой прозе”. Именно в этом заключалась тонко подмеченная поэтом-теоретиком угроза, которую нёс в себе процесс порождения высказывания, стремящийся превзойти самого себя с помощью чрезмерного подражания живописной парадигме, то есть методу художников-новаторов, которые “освободились от материала” и соединили вновь живопись с чистой живописностью. Из максимализма будетлян неизбежно следовало повышение ценности графического материала, в котором и которым оказывалась замкнута автономная речь. Речь уже шла не об изречении Горация ut pictura poesis, который футуристы проповедовали, а о новой формуле — pictura poesis. Будетляне претворяли в жизнь предчувствие Малларме о том, что литература по определению есть ограниченный набор букв, называемый письмом [Mallarmé 1984b: 850]. На смену лозунгу „слово как таковое” приходит лозунг „буква как таковая”.5![]()
Самую радикальную программу русского футуризма дал Хлебников. По утверждению Бориса Эйхенбаума, Хлебников на одном из собраний «Цеха поэтов» заявил, что „русский футуризм после отрицания смысла и звуков пришёл к выводу, что возможно стихотворение из одних знаков препинания и затем, секунду помолчав, продиктовал: ? — ! — : ...” [цит. по: Тименчик 1986: 6166![]()
Принцип абсолютной речи требует особой техники процесса высказывания. Ведь стиль должен воплощать осуществление языка. В поэтической речи футуристов равновесие между результатом и процессом высказывания нарушается в пользу формы процесса высказывания. Стиль становится сам по себе своей же целью, и у Хлебникова эта работа над процессом высказывания сродни, при всём его полемическом отношении к “Западу”, огромному труду над стилем, как, к примеру, у Флобера [см.: Баппе 1987]. Абсолютная речь (как в прозе, так и в поэзии, но эта дихотомия уже неуместна в эстетике авангарда) притягивает к себе с помощью особых средств внимание рецептора и, таким образом, разрушает наивные иллюзии или спонтанные отождествления между текстом и читателем.
Работа над языком, огромное воздействие, оказываемое во имя экспериментирования на считающиеся наиболее стабильными категории языковой системы, систематическое раскалывание повествовательного аппарата способствуют созданию оригинальной поэтики и дискурсивной техники, явная цель которой — выставить на всеобщее обозрение самовитую поэтику языка.
Возможное, благодаря продуктивному обыгрыванию аффиксов, накопление производных от одного корня (см. знаменитое «Заклятие смехом» Хлебникова: О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно! [Хлебников 1928–1933, 2: 35], буйное „словотворчество” Велимира Хлебникова, Василия Каменского, Николая Асеева, Георгия Петникова служат в такой же мере приёмами для выявления и показа своеобразного гения русского языка, его словообразующих морфологических ресурсов, его “поэтической энергии” [см.: Лившиц 1989: 334–3377![]()
Как об этом повсеместно гласили футуристические манифесты, обновлённая поэтика (“инконгруэнтность” образов, ведущая, как у Лившица, к новому trobar dus, синтаксическая бессвязность, возвышение ошибки, идущее вразрез с законами “поэтической грамматики”,8![]()
![]()
![]()
Кризис смысла, затронувший искусство России начала XX века, имеет симптоматическое значение: он стал признаком более серьёзного кризиса, потрясшего русское общество и всю его культуру. Оспаривая идеологическую, философскую и религиозную насыщенность поэтического высказывания у символистов, футуристы лишили художественное высказывание, иногда даже чересчур, его традиционных стихотворческих атрибутов, в результате чего, в силу критической регрессии, они низвели его на уровень чистой виртуальности смысла. Задав со всей грубостью “революционеров слова” вопрос: „Каким условиям должно удовлетворять высказывание в области эстетики, чтобы восприниматься как поэтическое?” — они совершили в восприятии поэтического феномена настоящий коперниканский переворот. Весьма проницательный Лившиц подчёркивал „самое ценное, что есть в новом течении, — его основу, изменение угла зрения на поэтическое произведение” [Лившиц 1967: 76]. В конечном счёте, он обнажил институционный, произвольный характер поэтичности речи, основанной на ряде условностей, с которыми согласны обоюдно и творец, и публика. Громко, со скандалом, футуристы нарушили негласный договор системы эстетики, постановили, что стиль счёта из прачечной оказывается “выше”, поэтичнее пушкинских строк из «Онегина»,11![]()
| Персональная страница Ж.-К. Ланна на ka2.ru | ||
| карта сайта | 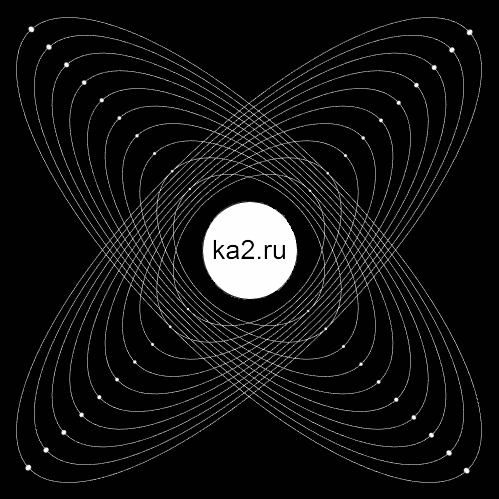 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||