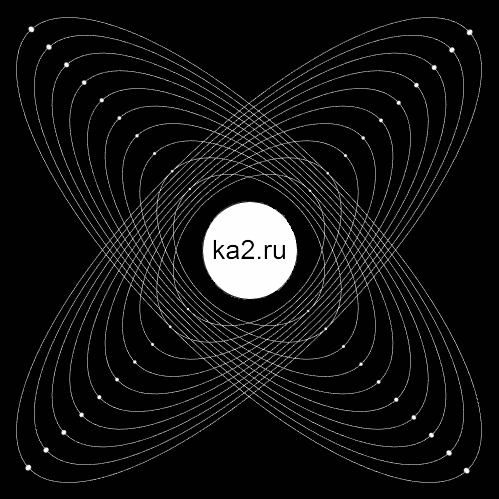Жан-Клод Ланн
О разных аспектах экфрасиса у Велимира Хлебникова
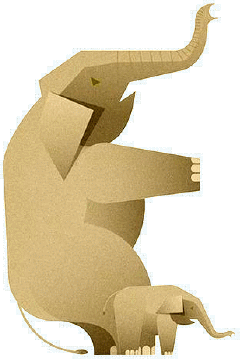
сли отталкиваться от классического определения экфрасиса как описания произведения изобразительного искусства в пределах одного из произведений словесного искусства, то можно с полным правом поставить следующие вопросы: как только произведения изобразительного искусства перестают быть изобразительными, “миметическими”, то что же тогда будет осуществлять экфрасис? Какова будет его конечная цель?
На конкретном примере художественных произведений в России в начале XX века, какие ответы дадут
будетляне на вызов “немиметического экфрасиса”, то есть экфрасиса, ориентированного на художественные творения, которые делают его “беспредметным” во всех значениях данного слова? Если
будетляне используют экфрасис, какова же будет польза от него для их собственной художественной практики?
Я постараюсь показать здесь, что при редком, сдержанном и как-то “периферийном” применении экфрасиса в их произведениях, некоторые
будетляне превратили “канонический” классический экфрасис в философское размышление о природе искусства, об отношениях искусства и жизни (реальности), и далее, при помощи постепенного углубления описательного действия — в своего рода автономное создание, которое ничего не представляет и не описывает, но на деле выдвигает на передний план и доказывает на практике принципы творчества “как такового”, как художественного, так и словесного. На основе обратного воздействия футуристический экфрасис ставит вопрос о действенности и о границах эстетической, внелитературной парадигмы для “освобождённого” словотворчества, словесного творчества.
Мы знаем всю значимость живописной модели для гилейских поэтов, “кубофутуристов” или будетлян. Она выражена, прежде всего, в теоретических текстах и манифестах (как теоретическое произведение можно рассматривать, напр., мемуары Б. Лившица «Полутораглазый стрелец»), где экфрасис является чисто идеологическим, декларативным построением, ещё находящимся вне всякой литературной обработки, вне художественного использования: это лишь поверхностная и не являющаяся составной частью произведения, первая стадия описания приёмов кубизма, описания, равносильного поэтической программе или уставу литературной школы. Как только экфрасис целиком входит в литературное произведение, он может либо повторять основные декларации манифестов, либо, что ещё более любопытно, изменять саму структуру произведения, частью которого он является, и даже нарушать и подрывать тем самым описательный и повествовательный строй произведения. Рассмотрим эти различные способы реализации экфрасиса у Велимира Хлебникова.
В коллективных прокламациях, хартиях и манифестах, под которыми Хлебников подписывался вместе со своими соратниками по будетлянству, он осмотрительно остаётся на уровне абстрактной аналогии между искусством живописи и словесным искусством. И может ли он, впрочем, поступать иначе, когда литературное описание невозможно из-за исчезновения предмета — традиционного сюжета, темы, персонажа, пейзажа, действия? Сравниваются конструктивные задачи, общие для живописи и поэзии:
Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык), этим достигается наибольшая выразительность, и этим именно отличается язык стремительной современности уничтожившей прежний застывший язык.
Современные живописцы постигли ту тайну 1) что движение даёт выпуклость (новое измерение) и что обратно выпуклость даёт движение и 2) неправильная перспектива дает новое 4-е измерение (сущность кубизма).
Современные же баячи открыли: что неправильное построение предложений (со стороны мысли и гранесловия) даёт движение и новое восприятие мира и обратно — движение и изменение психики рождают странные “бессмысленные” сочетания слов и букв.
Литературные манифесты: 82
Экфрасис здесь чисто технического порядка, он от вещи, произведённой художником-кубистом, берёт только внешние, формальные черты и приёмы, затем переносимые в словесное искусство: фактура, сдвиг, шероховатость, занозистая поверхность, и т.д. Б. Лившиц также остаётся на том же уровне отвлечённости в своих сравнениях между “сдвинутой” живописью кубистов и новой поэзией (Лившиц 1989: 48–50); к выше процитированным отрывкам “технического экфрасиса” следует добавить статью «Открытие художественной галереи», которая представляет собой некий репортаж, также глубоко технический, об открытии художественной галереи в Астрахани. Здесь экфрасис сводится к обозначению этоса футуристической живописи братьев Бурлюков и Малевича (и других авангардистских художников):
Собрание охватывает русскую живопись между передвижниками и «Миром искусства».
Может быть, в будущем рядом с Бенуа появится неукротимый отрицатель Бурлюк или прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания; а на стенах будет место лучизму Ларионова, беспредметной живописи Малевича и татлинизму Татлина.
Правда, у них часто не столько живописи, сколько дерзких взрывов всех живописных устоев; их холит та или иная взорванная художественная заповедь.
Как химик разлагает воду на кислород и водород, так и эти художники разложили живописное искусство на составные силы, то отымая у него начало краски, то начало черты. Это течение живописного анализа совсем не представлено в собрании Догадина.
Как только идеологический, декларативный, технический экфрасис “встраивается” в литературное произведение (рассказ, повесть, стихотворение), он тем самым видоизменяется, оказываясь в подчинении у художественной цели, даже если его концептуальное содержание нисколько не затронуто данным перемещением. Тем не менее, рядом с проблемой разрыва, вызванного в мире живописи применением специфических приёмов и образцовости данного метода в судьбах современной поэзии, возникает проблема нового отношения между жизнью и искусством, которое устанавливается подобной практикой. Подхватывая общее место символистской эстетики, Хлебников подчёркивает предсказывающее, приказывающее и пророчествующее значение искусства, освобождённого от всяких изобразительных обязанностей:
— в поэме «Бурлюк» (Хлебников, II–3: 290–291) вместе с овеществлением холста подчёркивается формальная, конструктивная сторона странной ломки миров живописных:
Горы полотен могучих стояли по стенам
Кругами, углами, и кольцами
Светились они: чёрный ворон блестел синим клюва углом,
Тяжко и мрачно багровые и рядом зелёные висели холсты,
Другие ходили буграми, как чёрные овцы, волнуясь
Своей поверхностью шероховатой, неровной, —
В них блестели кусочки зеркал и железа.
Краску запёкшейся крови
Кисть отлагала холмами, оспой цветною.
То была выставка приёмов и способов письма
И трудолюбия уроки.
И было всё чарами бурлючьего мёртвого глаза.
Какая сила искалечила
Твою непризнанную мощь
И дерзкой властью обеспечила
Слова: бурлюк и подлый нож
В грудь бедного искусства.
Ведь на Иоанне Грозном шов, —
Россия расширенный материк
И голос запада громадно увеличила,
Как будто бы донесся крик
Чудовища, что больше в тысячи раз.
Ты жирный великан, твой хохот прозвучал по всей России.
И стебель днепровского устья, им ты зажат был в кулаке,
Борец за право народа в искусстве титанов,
Душе России дал морские берега.
Странная ломка миров живописных
Была предтечею свободы, освобожденьем от цепей.
Так ты шагало искусство
К песне молчанья великой.
— Ломка принципов изображения в живописи и художественный синкретизм представлены в перспективе грядущего апокалипсиса, в прямой связи с художественной философией символизма («Влом вселенной»):
Когда пространство Лобачевского
Сверкнуло на знамени,
Когда стали видеть
В живом лице
Прозрачные многоугольники,
А песни распались как трупное мясо
На простейшие частицы,
И на черепе песни выступила
Смерть вещего слова,
Лишь череп умного слова, —
Вещи приблизились к краю,
А самые чуткие
Горят предвидением.
Утром многие голоса поют на крышах.
Вот оно восходит
Солнце падения народа!
И тёмными лучами
Первыми озарило
Горы и меня,
Горы и мы
Светимся зеркалом
Великого солнца смерти.
А спящие долины ещё собирают колосья.
Хлебников, II–3: 93–94
— В отрывке «Закон множеств...», в повести «Ка2» искусство уже не отличается от жизни:
Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелёно-чёрных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, всё говорило: час близок! Недаром пришли эти божества — мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами — на свидание с небесными лицами Италии. Вернее — это чёрные мотыльки уселись на белые цветы лица.
Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек, сломанный в нескольких местах, перееханный колесом. Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдёт сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простился с художником и ушёл.‹...›
Хлебников, II–4: 301–302
Волнующий общеазийский разум, который должен выйти из тупиков наречий, и связанная с ним победа глаза над слухом и трепет сил живописи, уже связавшей материк, и дружба зелёных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на мотыльков, — с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты и ногти мандарина, появляющиеся на руках обдумывающих себя. ‹...›
Сейчас меня занимал густовишнёвый, малиновый, словно перепиленный судьбой, иногда удачно заменяющей пилу, — череп Байды, этого холодного запорожца, что, усевшись по-турецки на полу, держал, как оправдательную книгу, верхнюю половину черепа (Петровский) и не исказил на нижней половине с равнодушно весёлыми глазами над самым краем мыслящего ковша. Кусочки золота на поясе, в горах засохшего масла, шашка из кусочков жести. Зеркало похороненных в холе и кусок березы были оружием холста (в то время грёзы живописи ещё скитались).
На выставке новой живописи ветер безумий заставил скитаться от мышеловки с живой мышью, прибитой к холсту на выставке, до простого пожара на ней (с запертыми зрителями).
‹Это› красочно звалось „вывесить оглоблю”.
В день открытия выставки устроитель заболевает и ложится в постель, и принимает врачей. (Множество людей искало дешевых мест в поезде бессмертных душ, стоящем под парами). ‹...›
Здесь жил живописец моего нечеловеческого времени (Лентулов). Признаюсь, я его мало любил. Он был лукав, миловиден, прост в обращении, но в нём было ‹...› ‹Его› серые голубые колокольни с мухоморами головок клонились, падали, ломались, точно в вогнутом зеркале, или перед землетрясением, или как весло рыбака за прозрачной взволнованной водой времени. Колокол, вырезанный из серебряной жести, тяжко взлетел на бок, и в него прилежно звонил тёмный египтянин в переднике, явившийся сюда прямо из могил Нила. Большой путь.
Небо было разделено золотой чертой, тёмный зелёный цвет нижней половины давал ему вид масляной стены присутственного места. Золотой узор вился по стене неба.
Хлебников, III–5: 126; 127–128; 133–134
Мечты (грёзы в терминологии поэта) переходят, перекочёвывают из действительности в живопись, потому что таинство живописи одинаково проявляется как в живой, так и в мёртвой материи:
Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мёртвых вещах, — она возможна, разумеется, на живых лицах: и были сейчас божественны её брови над синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, роскошно алым тёмным цветом пышных уст.
Хлебников здесь “активизирует”, воскрешает и реализует образ, метафору, заключённую в слове ‘живопись’ и тематизирует этот “топос”, это общее место романтической художественной литературы — смешение, “слияние” искусства и жизни, их взаимное превращение, именно то, что и составляет интригу пьесы «Маркиза Дезэс» (см. также «Портрет» Гоголя).
В фантастическое произведение чистого вымысла «Ка» введен персонаж П. Филонова, художника исторического Немезиса. Здесь ещё раз аналитическая живопись Филонова уподобляется борьбе за время, которую ведет сам поэт — Будетлянин:
Я встретил одного художника и спросил, пойдёт ли он на войну? Он ответил: „Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжёл, что и у войск за пространство”. Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишнёвые глаза и бледные скулы. Ка шёл рядом. Лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озарённые подобным лучу месяца бешенством скорби.
Хлебников, II–4: 50–51
В поэме «Жуть лесная» дается следующее описание картины Филонова, изображающей коня:
Я со стены письма Филонова
Смотрю, как конь усталый, до конца.
И много муки в письме у оного,
В глазах у конского лица.
Свирепый конь белком желтеет,
И мрак залит‹ый им› густеет,
С нечеловеческою мукой
На полотне тяжёлом грубом
Согбенный будущий наукой
Даёт привет тяжёлый губам.
Именно “этос”, нравственное воздействие и впечатление на зрителя и составляют характеристику стиля этого художника, близкого по духу Хлебникову. См., например, характеристику, данную поэтом иллюстрациям филоновской поэмы «Пропевень о поросли мировой»: Рисунок мне очень нравится пещерного стрелка, оленя, собачки, разорванные своим бешенством и точно не рождённые, и осторожно-пугливый олень.
Наконец, живопись может приблизиться к жизни, слиться с ней, расширяясь до пределов вселенной и становясь природной: “природность” искусства или “искусственность” природы — таков идеал Хлебникова, что означает не только синтез искусств, но и “синкрасис” (смешение, слияние) природы и искусства:
В праздники устраивалась “живопись пальбой”. Снарядами разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза — вспышкой синего дыма, губы — выстрелом алого дыма, волосы — серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя. ‹...›
— Ну, что же это? Что же это? — воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши. — Боже, как глупо! Боже, как глупо!
В самом деле, на Западе, северные откосы Монблана, с большого плоскогорья чёрным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше — стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали лётчики, и суровые тени в чёрных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и чёрные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с чёрной водой. Это была голова Гайяваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.
В знак единства человеческого рода Новый Свет поставил этот камень на утёсах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого Света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.
Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.
— Этой каменной живописью натянуты паруса взаимности между обоими материками, — заметил Смурд.
В конце этого длительного процесса “стечения”, слияния природы и искусства получается то, что Хлебников называет мирописью (Хлебников, II–4: 310)
В вышеупомянутых и перечисленных случаях “микро-экфрасисы”, включенные в структуру литературного вымысла, причастны к вымыслу и метафорически выражают проницаемость границ между искусством (грёзами) и действительностью («Ка», «Ка2», «Бурлюк», и т.д.). Описание футуристической авангардистской живописи посредством метафоры и “опережающего”, предвосхищающего сдвига есть описание революционного перелома мира (действительности, общества, истории), (см. «Перед войной», Хлебников II–4: 142–143).
Существует серия других, малочисленных произведений, в которых обнаруживается ссылка на художественную (или архитектурную) модель. Этот внелитературный источник, реальный или вымышленный, выведен посредством умозаключения из изобразительного качества рассказа (или стихотворения). Ссылка на художественную (или скульптурную) модель, реальную или предполагаемую, мотивирует приёмы, которые являются целиком языковыми. Образы, метафоры и сравнения словесного текста, по-видимому, выделенные из художественных особенностей модели (картины, миниатюры, статуэтки и т.д.), на самом деле являются исключительно словесными средствами: описание (экфрасис) предмета-модели есть точка отправления и предлог для развития и умножения речевых средств. Статичность модели заменяется динамичностью литературного текста, который при случае умеет показать подлинные ресурсы языка, его порождающую мощность и представляет пейзаж хлебниковской лингвистической утопии.
Возьмём, например, рассказ «Искушение грешника». Он не является экфрасисом картины Шонгауэра, Жака Калло или Брейгеля. Размножающееся словоновшество является словесным эквивалентом гибридизации, “скрещивания” живописных форм в фантастических полотнах художников. Другой неологический рассказ «Белокурая...» (Хлебников, IV: 283–284), точно приводит художественную модель (пуантилизм, искусство Крымова), по аналогии с которой понимается метод словесного изобретения, словесного ташизма или пуантилизма. Но следует подчеркнуть, что акцент ставится на эффект, произведённый на читателя данным средством лексической морфологии:
Белокурая, тихорукая, мглянорукая даль; белунья речь зеленючих дремоуст.
Милобровая, грустноглазая, любатогубая любница летит в алом
воздухе девьем.
Зеленовая, зеленючая грёза. Душатые груди некоей.
Наго-тускло-бедренный овит круг.
Крыло-веснючие уста. Оселая месяцем темь. Духмень некогда пробежавшая
отроков стоит в воздухе.
Весень, весногубый, осеннеликий милень.
Слезрукая воля девовна. Плачеустая — слово жён.
Милели милючие красивушки. Красивейко поднялся, задорный нос.
Миляльно чаровали милилом юным, милью слезатых ночами глаз.
Полноты то славийской буя весны.
Бесовитый хохот обезумевшей. Прилетели радостеперые нежнобокие птицы.
Белатые, бедяные ноги, клюв злючий, бок — заря, хохол — месяц ясный.
И немницы всклекотали чёрным ожерельем перий зорий,
зазыбили слезовами кокошниками.
Мощноногий муж. Слепая видель в глазах зелениря,
лешего с зелёной шубой от роду за плечами.
Хворючие, зворалые глубницы глаз. Страдалые
близостью смерти веки. Немоли — тополи серебрючие.
Утваровитые небом и землей избы. Немолиственное
мгляное деревцо.
Озера ликов. Жемчугобокие челноки косых узких глаз.
Первопроталины весны косицами полос.
Свежими полевыми маками нос и щека.
И весеневеющий. Крымов и грезилища грейзней и грезонь
Грезючая в грёзах и грезей грезильно грезит, грезве никнет
грезлями веет. Горюн-страшун.
Высокие, мелко черепичатые слыши. Словля никнет
Скатами слов в бездну влажную, безумвянную.
Безумянно-дранковая крыша. Обыденщино-дымные трубы.
Мельчий вечностник срублен. Срубы.
Приёмы пуэнтелистов — корнями. Безумовый ствол.
Весеновая купа. Рощи.
Стихотворение «Кавэ-кузнец» (Хлебников, II–3: 128–129), даёт другой пример двусмысленной связи, двусмысленного соединения с произведением живописи — одноименным плакатом художника М.В. Доброковского. Фантастический плакат Доброковского, представляющий мифического кузнеца Кавэ, который размахивает своим медного цвета фартуком как знаменем, является для будетлянина поводом для свободного “словесного плетения”, словесного вития. К тому же, стихотворение Хлебникова является более “говорящим”, приказывающим, нежели описательным, “экфрастичным” и скорее всего превращает в аллегорию эпизод из Шах-Намэ, посвященный бунту Кавэ против тирана Заххака:
Был сумрак сер и заспан.
Меха дышали наспех,
Над грудой серой пепла
Храпели горлом хрипло.
Как бабки повивальные
Над плачущим младенцем,
Стояли кузнецы у тела полуголого,
Краснея полотенцем.
В гнездо их наковальни —
Багровое жилище —
Клещи носили пищу, —
Расплавленное олово.
Свирепые, багряные
Клещи, зрачками оловянные
Сквозь сумрак поблистав,
Как воль других устав.
Они, как полумесяц, блестят на небеси,
Змеёй на серы вынырнув удушливого чада
Купают в красном пламени заплаканное чадо
И сквозь чертёж неясной морды
Блеснут багровыми порой очами чёрта.
Гнездо ночных движений
Железной кровью мытое,
Из чёрных теней свитое,
Склонившись к углям падшим,
Как колокольчик бьётся железных пений плачем.
И те клещи свирепые
Труда заре пою
И где верны косым очам
Проворных теней плети
Ложились по плечам,
Как тень багровой сети.
Где красный стан с рожденья бедных
Скрывал малиновый передник
Узором пестрого Востока.
А перезвоны молотков — у детских уст свисток —
Жестокие клещи,
Багровые как очи,
Ночной закал свободы и обжиг —
Так обнародовали:
Мы, труд первый и прочее и прочая.
Стихотворение «Мы воины...» (Хлебников, IV: 248), возможно, представляет собой описание картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» (1895). Но в этом стихотворении, которое, как кажется, происходит от описания единичного холста, язык освобождается из-под опёки модели и стихотворение увлекает нас в большей степени словами и рифмами-каламбурами, то есть смысловыми эффектами, семантическими фигурами (воины : во иный край; огнём : согнём; крас : спас), чем сомнительной речевой “живописностью”, сильно постановленной под сомнение резкой декларативностью формы (Мы воины, ... Мы знали): в стихотворении именно воины Ермака говорят и сами себя описывают. Поэтическое слово выдвинуто этой формой, именуемой Ich-Erzählung, где “Я” становится собирательным, коллективным.
‹Мы›, воины, во иный край уверовав,
Суровой ратью по лону вод текли.
Шеломы наши не сверкали серые,
Кольчуги тускло отражались в них.
Пищали вспыхнули огнём.
Мы знали, — верой и огнём
Рати серые согнём.
Моряной тихо веяло,
И, краше хитрых крас,
Над нами реял
Наш незлобивый тихий спас.
Я кратко упомяну два типичных экфрасиса, учитывая что один из них стал предметом замечательного исследования Вяч. В. Иванова («Меня проносят...», (Хлебников, IV: 259). Другой, так называемый экфрасис («Испаганский верблюд», Хлебников, II–3: 132) показывает, каким образом поэт глубоко изменяет описание — даже больше: подрывает сами принципы описания: описываемый предмет — верблюдообразная чернильница — является источником, исходной точкой серии сравнений и метафор, которые в большей степени зависят от идиолекта и мифопоэтики будетлянина, нежели от особенностей самой вещи, изделия персидского искусства. Под взором поэта-мыслителя “испаганский верблюд” превращается в символ, в аллегорию труда писателя и не менее таинственной передачи мысли при помощи ряда нисходящих опосредствований — слова, написанного текста и орудий письма (страницы, пера, чернил и чернильницы). Описание чернильницы, таким образом, не что иное, как метонимия процесса сообщения (коммуникации идей). Но данное скольжение в аллегорию возможно только в том случае, когда описываемый предмет по своей же функции наделен мощным символическим зарядом. Наконец, обратим отметим последнюю черту, подчёркивающую первенство литературного ряда в описании чернильницы: стихотворение входит в традицию философских стихов о таинствах литературного ремесла (Пушкин, Баратынский...). Хлебниковский экфрасис имеет следствием освобождение вещи (описываемого предмета) от её материальности, вещественности, от её первоначальной онтологической “тавтологии”, чтобы впустить её, посредством труда поэта, в бесконечное пространство смысловых сетей: мы видим здесь “отчуждающую”, переводящую и переписывающую функцию экфрасиса, который должен был бы быть скорее назван “метафрасисом”, переводом.
Есть, наконец, и последняя ступень в использовании экфрасиса великим будетлянином, когда экфрасис становится “трансфункционализированным”: то есть описание авангардной живописи (или скульптуры) уступает место оригинальному поэтическому произведению, чья структура подражает структуре данного полотна (или скульптуры). Повесть «Ка» или сверхповесть «Дети Выдры» несомненно построены как полотно А. Савинова «Купание», которое Хлебников берёт моделью для разработки большого романа, освобождения от границ времени и пространства (см. письмо Каменскому, Хлебников, IV: 354, 467–468). «Зангези» уже в самом введении предстает как применение татлинского конструктивизма в словесной сфере. Осуществляется “простой” перенос структуры от полиморфной статуи до многоплоскостной драмы:
Повесть строится из слов, как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов.
Сверхповесть или заповесть складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: како веруеши? — каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, — повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело — белого камня, плащ и одежда — голубого, глаза — чёрного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из “рассказов” есть сверхповесть.
Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.
Хлебников, II–3: 317
Живописная парадигма вызывает два способа “живописания” звуком и именем — «Бобэоби» и «О Достоевский-мо...» (Хлебников, 1–2 : 36, 79):
Бобэòби пелись губы
Вээòми пелись взоры
Пиээо пелись брови
Лиэээй — пелся облик
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь,
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
О Достоевский-мо бегущей тучи!
О Пушкиноты млеющего полдня!
Ночь смотрится, как Тютчев,
Замерное безмерным полня.
Первое стихотворение является примером “пресуществления” экфрасиса в чистую звукопись без всякой доказательной опоры, кроме системы соответствий, произвольно установленных поэтом (см. статью Ю. Тынянова и словарик Хлебникова в «Записных книжках»). Второе же стихотворение, так хорошо изученное Р. Дугановым, является образцом “ономатографии” или пейзажа, написанного при помощи собственных имён. Здесь процитирую великого хлебниковеда:
Самосознательное, самовитое слово здесь лишь подражает космосу, являющемуся и предметом изображения и принципом изображения одновременно.
Дуганов 1990: 115
К этой серии изобразительных стихотворений, которые полностью вобрали в себя и поглотили, так сказать, конструктивный принцип художника-авангардиста и художественной беспредметности, следует несомненно причислить стихотворение «Татлин» (Хлебников, IV: 170), пример развития татлинского метода при помощи одного имени художника, что является новым доказательством (если таковое требуется) словесности экфрасиса — “метафрасиса”.
Татлин, тайновидец лопастей
И винта певец суровый,
Из отряда солнцеловов.
Паутинный дол снастей
Он железною подковой
Рукой мёртвой завязал.
В тайновиденье щипцы
Смотрят, что он показал,
Онемевшие слепцы.
Так неслыханны и вещи
Жестяные кистью вещи.
Но, несомненно, именно в рассказе «Сон» Хлебников показывает читателю то, что может свершить экфрасис тогда, когда он становится изоморфным структуре рассказа, которым принимает его. Здесь изобразительная фантазия тесно соединяется с миром снов и сновидений. Надо бы детально проанализировать структуру этого своеобразного экфрасиса — возможного описания одноименного полотна М. Ларионова (см. «Утёс из будущего», Хлебников, II–4: 298), где тесно переплетаются, взаимопроникают друг в друга живопись и действительность, мечта и желание, философия и искусство, однозначность повествования и иносказательность образов. Мне кажется, что этот рассказ в форме вымысла излагает философию искусства будущего (будетлянства), внешне иррационального и абсурдного (см. напр., √–2 или живописную заумь), но в действительности основанного на высшем разуме, с которого время мало-помалу снимает покров, (см. «Свояси», Хлебников, 1–2: 8–9). С этой точки зрения упомяну лишь о смысле кубистического “коллажа” — склеивания разнородных элементов на поверхности холста так, что взаимодействуют реальность и воображаемое:
Сон
Мы были на выставке √–2; разговор коснулся аганкары человека и аганкары народа и о совпадении их. Мы стояли перед живописью: «Вестник булавок» заменял Еву, и на нём лежало яблоко; «Вестник лыж» — Адама, а третье издание — искушающую змею. Мы оживлённо и громко беседовали; но присоединился блюститель нравов и указал на недопустимость одного холста; таким, по его мнению, которому мы могли только подчиниться, была, кажется, турчанка, лежавшая на берегу моря. Только лоб и край рта был закрыт чёрной повязкой с кружевами; тень падала на рот и подбородок. Золотистые пятна чередовались с голубыми тенями этого, опутанного неводом лучей полдня, тела. Мы тотчас согласились. В руке у меня были печатные вести утра; я оторвал край надписи «Дарданеллы» и, приколов с помощью двух булавок, придал холсту достойный вид.
Теперь мусульманка лежала на берегу моря, полуупав на руки, полная золотистых теней; но обрывок бумаги с чёрным заголовком «Дарданеллы» закрывал её.
Греции присущ избыток моря, Италии — избыток земли. Возможно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень Я совпала с границами народа?
Я сел на диван в углу выставки и устало смотрел на бесконечные холсты с их чисто готтентотской красивостью. „Африканские владения не прошли даром для арийцев”. Я задремал. Мне казалось, что я лежу на море так, что колени были вдавлены в морское дно, а пятки торчали на суше. Я был велик. Та же мусульманка боролась и отталкивала кого-то руками. Галлиполи был весь покрыт маслинами и казался серебряным. Я поломал свои узкие нежные пальцы о береговые утёсы. Та же чёрная маска была у ней на лице. Синеющий дым окутывал берега. И вот «Квин Элизабэт» чёрной паутиной снастей разрезала воды и вся окуталась дымом. Взрывы пороховых погребов дополняли чёрным кружевом маску битвы, и сквозь прорези упорно блистали синие глаза турчанки. И вот 600 людей «Бувэ» пошло ко дну; ещё два взрыва. Это была борьба, и, изнеможенный, я поднялся, упал на берег и долго лежал в забытьи. Предо мной стояли испуганные глаза и закушенные от усилия губы. Гречанки хоронили убитых на Тенедосе, и их заунывные песни и жгучие глаза тёмных лиц казались мелкими и слабыми после виденного, когда 600 моряков опустили на дно плечи и руки.
Мне было жаль турчанки.
Хлебников, II–4: 74–75
Заключение
Если экфрасис как таковой не является самостоятельным жанром у Хлебникова (так же, как и у его соратников-будетлян), тем не менее, те редкие элементы экфрасиса, встречающиеся в его творчестве, обратно освещают искусство — мастерство — поэта-будетлянина. Экфрасис сильно выявляет поэтику текста, который принимает в себя описание абстрактных (беспредметных) произведений: тем самым поднимается вопрос о “синтезе искусств”, утопической цели всего авангарда. К тому же экфрасис, пусть и во фрагментарном виде, ещё глубже мотивирует некоторые приёмы будетлянского (хлебниковского) словесного искусства и выражает, так сказать, в образах, словесное мастерство автора. Экфрасис может быть прямолинейно, но точно определён как метафора поэтики, не способной высказаться собственными словами, не способной постичь самое себя при помощи одних словесных средств. Поэтому поэт широко прибегает к другим видам искусства — живописи, скульптуре или архитектуре, как к осязательным, наглядным образам абстрактных операций самовитого слова. (Мандельштам так и поступит в «Разговоре о Данте»).
Будетлянский экфрасис ставит также метафорическим образом проблему изобретения новых, не описательных литературных форм, проблему создания новых измерений в поэтическом высказывании (см. Benveniste 1976, 2 : 37). И если в литературной практике будетлянства экфрасис является лишь второстепенным, подсобным и вспомогательным элементом, он всё же является ценным указателем смысла и незаменимым показателем основной установки будетлянского творчества и будетлянской поэтической системы.
———————
ЛитератураДуганов Р. Велимир Хлебников: природа творчества.
М. 1990.
воспроизведено на www.ka2.ruЛившиц Б. Полутораглазый стрелец.
Л. 1989.
воспроизведено на www.ka2.ruЛитературные манифесты. От символизма к Октябрю.
Мюнхен (репринт изд.
М. 1929). 1969.
Хлебников В. Собрание сочинений, тт. I–IV.
Мюнхен. 1968–1972. тт. I–III: репринт изд. Собрание произведений Велимира Хлебникова,
Л. тт. 1–5, 1928–1933); т. IV: репринт изд. Неизданные произведения,
М. 1940). Римские цифры в отсылках обозначают том мюнхенского издания, арабские — том издания ленинградского.
Benveniste Е. Eléments de linguistique générale. 2 vol.
Paris. 1976.
Воспроизведено по:
Экфрасис в русской литературе.
Сборник трудов Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. М.: МИК. 2002. С. 71–86.
Благодарим Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb) за содействие web-изданию
Изображение заимствовано:
Jonathan Baldock (b. 1980 in Pembury, UK. Lives and works in London).
Multiple Points in this Crude Landscape. 2014. Primary, Nottingham (UK).


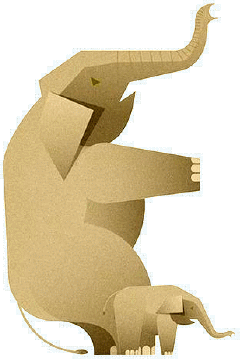 сли отталкиваться от классического определения экфрасиса как описания произведения изобразительного искусства в пределах одного из произведений словесного искусства, то можно с полным правом поставить следующие вопросы: как только произведения изобразительного искусства перестают быть изобразительными, “миметическими”, то что же тогда будет осуществлять экфрасис? Какова будет его конечная цель?
сли отталкиваться от классического определения экфрасиса как описания произведения изобразительного искусства в пределах одного из произведений словесного искусства, то можно с полным правом поставить следующие вопросы: как только произведения изобразительного искусства перестают быть изобразительными, “миметическими”, то что же тогда будет осуществлять экфрасис? Какова будет его конечная цель?