М.С. Киктев
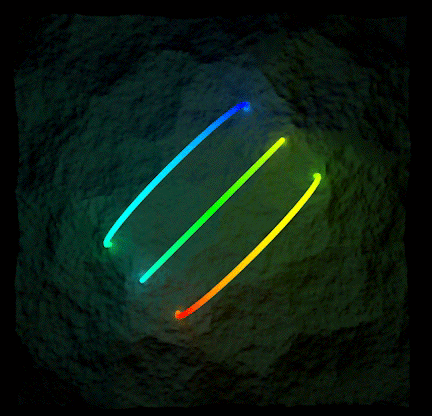
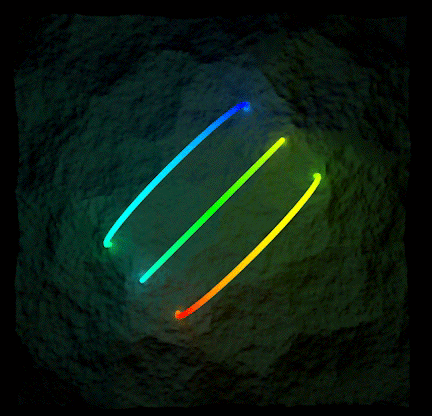
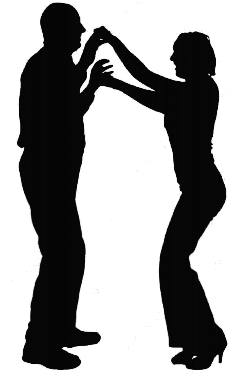 од поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи”, — писал Вл. Вл. Набоков в книге о Гоголе.1
од поэзией я понимаю тайны иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи”, — писал Вл. Вл. Набоков в книге о Гоголе.1По Хлебникову,
Во-первых, не „я понимаю”, переносящее центр тяжести на субъекта или, не без кокетства, на себя любимого, — а прямой онтологизм: сущность ‹...› — это ‹...›. Во-вторых, никаких „тайн” и никакой антитезы „рациональное” — „иррациональное”, хотя ни первое, ни второе, ни третье не отрицаются, они есть на свете, но не они актуальны как таковые, пусть в иных случаях возникает проблематика “изречения”, “немотствующего” или “ненарекаемости”. В-третьих, не “познание” („познавание”), опять выдвигающее субъекта, а сама жизнь или ви́дение, т.е. непосредственное восприятие в непосредственном контакте с предметом. В-четвёртых, „речь” ни в коем случае не средство („при помощи”), а именно самоцель, и, в-пятых, „речь” (слово) как раз и есть самое главное в поэзии, а никакие не „тайны”, не „познание” и т.д. Наконец, в-шестых, „речь” эта никак не „рациональная речь”, а именно самовитая речь (СП V: 185, 187, 1884![]()
Дело здесь не только (и не столько) в изначальном движении к “зауми”, к “за-умному”. Заумь — только отдельный частный случай, я бы даже сказал — далеко не самый характерный случай, побочное проявление, хотя и совершенно естественное порождение того, о чём идёт речь. Как ни парадоксально, но я бы даже сказал, что заумь — это не то, что именно Хлебникову в первую очередь присуще. А дело в том, что такое словесное творчество и такая словесность (т.е. словесное творчество и словесность как жизнь слова в нём самом, как самовитая речь) порождают, обуславливают, создают совершенно иную структуру словесного произведения — вот что надо уяснить, это самое главное (и минимально в двух отношениях это самым прямым и непосредственным образом проявляется и утверждается в «Ене Воейкове»).
Жизнь, она и есть жизнь, а не что-то другое: её характеризует именно непрерывное движение, течение, текучесть, протекание, переход одного в другое, в третье и т.д. А произведение, оно и есть именно произведенное, т.е. застывшее, зафиксированное, остановленное. В предисловии к НП5![]()
![]()
![]()
Если сущность — именно жизнь (а не “творчество”, например, не “познание” и не что-нибудь другое), то и следует отсюда, что сущностным, первичным, абсолютным оказывается именно это непрерывное движение, разноуровневое и разноаспектное, проявляющееся по-разному в разных формах, но всегда непрерывное и неостанавливающееся, а каждое мгновение его, момент, отдельный срез всегда относительны, условны, т.е. не завершены, не закончены. Отсюда и пресловутая незаконченность хлебниковских вещей, и то, что он готов постоянно перерабатывать, перестраивать, переписывать свои вещи.
Я не хочу сказать, что у Хлебникова нет законченных вещей — есть, да ещё какие! Но эти законченные вещи и их “законченность” — особый частный случай его творчества, а наряду с ними есть огромный массив не меньшего, мне кажется, значения вещей “незаконченных”, “набросков”, и это отнюдь не в обычном смысле слова наброски.
Я же первый Вам писал, что «Еня Воейков» — такого произведения у Хлебникова нет. Но, в то же время, «Еня Воейков» есть — как реальный, состоявшийся опыт, определённый пройденный, т.е. законченный, этап, осуществленный в текстах несомненной внутренней цельности и единства, пусть и не дающих “законченного произведения”. В отличие от этого, например, у Л.Н. Толстого замысел и наброски романа «Декабристы» — это не завершённый опыт, а только начало работы, которая повела затем к «Войне и миру».
Есть три варианта «Слова о Эль», — и ни один из них нельзя считать готовым, итоговым, даже тот, о котором мы знаем точно, что он самый поздний (“последняя прижизненная авторская воля”). Последний — не окончательный, а лишь очередное осуществление или исполнение того, что по определению предназначено к осуществлению или исполнению (“перформации” — вспомните мой астраханский доклад8![]()
Есть разворот Симфонии «Любь».9![]()
Это особый тип творчества, и надо найти адекватный ему метод его исследования и осмысления — понимания. В этом смысле, говорить о незаконченности хлебниковских вещей, сетовать на эту незаконченность — всё равно что Чехова упрекать (а ведь упрекали же!) в том, что он так и не написал романа (не смог, видите ли, написать).
В самом деле, как донести до читателя, представить читателю всю эту “незаконченность”? Тут нет, по-видимому, другого пути, кроме работ типа (жанра) Вашей аналитической публикации — вот значение того, что Вы сделали, беда в том, что Вы недопоняли это, не осознали принцип подхода к отдельному памятнику как метод работы...
Но всё это ещё только половина дела, потому что у Хлебникова речь идёт не просто о жизни, а о жизни слова, да ещё в нём самом. Если вот в этом не разобраться, то всё, что я успел уже сказать останется весьма поверхностным и голословным. Слово и словесность Хлебникова при позитивистском подходе никогда не понять, т.е. не понять и с позиций современной лингвистики, которая из позитивизма вышла, так что можно назвать её просто позитивистской теорией языка, это будет и точнее, и честнее. ‹...›
А между тем давно-давно Вл. Ив. Даль толковал слово как
Вот такое содержание и такая функция слова как того, что непосредственно осуществляет связь тела и духа, субъекта и объекта, одного человека и другого, а не просто передаёт некий смысл, обозначает — вот это и составляет суть хлебниковского слова, и это-то и недоступно с позиций позитивистской культуры, которую я ни в коем случае не буду принижать, но которая ограничена преимущественной сосредоточенностью на субъекте, его состояниях и проблемах.
„Рациональная речь”, действительно, передала свой смысл, и ладно; именно для передачи смысла, выступая как средство, она и требует законченности, законченного оформления, потому она и остаётся в пределах быта и жизненных польз, понимаемых не обязательно приземлённо, может быть, даже и очень возвышенно; для исследователя она остаётся предметом лингвистики (как слово, как язык) и не выходит за пределы этого предмета.
Самовитая речь абсолютизирует, абстрагирует слово, отвлекая его от быта и жизненных польз. Но как можно оторвать слово от быта и жизненных польз, от бытовых смыслов, что в нём, в таком случае, останется? Конечно, оно может стать предметом самоцельной (“формалистической”) словесной игры, звуковой игры, может стать, простите, бирюльками или побрякушками для украшения или усложнения той же „рациональной речи” или может стать некими дополнительными её “выразительными средствами”, т.е. так же останется, в конечном счёте, в пределах быта и жизненных польз. Нет, самовитым | вне быта и жизненных польз слово может стать только если конкретные предметные смыслы в нём как бы отодвинуты в сторону, а на первом плане остаётся воплощение и осуществление в нем самогó момента общения, связи, единения в тех трёх аспектах их, о которых я говорил только что. В самом деле, рассуждая логически (“рационально”) и совершенно объективно, что ещё в слове может быть абсолютизировано, абстрагировано, что в нём останется, какое содержание, если оно отделено от быта и жизненных польз?
В самовитой речи разные слова несут (лучше сказать — утверждают, воплощают) разные стороны, формы, уровни всеединства (сознательно употребляю соловьёвский термин), и разработка этих слов есть разработка, соответственно, разных его сторон, граней, проявлений, форм и т.д. Самовитая речь оказывается священной речью (как назвал её Хлебников в письме сестре из Баку 2 янв. 1921 г. — V том11![]()
![]()
Позвольте, поясню это конкретнее. Прочитаем ещё раз: Мысль есть ви́дение слов, — причём слов написано здесь над зачёркнутым звуков. Исходно — ви́дение звуков. Тест на внимание и наблюдательность: я знаю эту формулу уже года три, но только на днях заметил: это же оксюморонное построение! Как можно видеть... звуки? Звуки можно слышать, а видеть можно свет, очертания предметов в том или ином освещении и т.д. Что же это значит — видеть... звуки, ви́дение звуков? Вот здесь, мне кажется, и лежит самое главное.
С одной стороны, звук есть первое, чем некий внешний мне предмет может активно проявить себя и привлечь к себе внимание, заявить о себе и изъявить себя. Я слышу шелест листвы, чужие шаги, выстрел, свист пули, гудок автомобиля или визг тормозов, лай собаки и т.д. Конечно, Вы можете привлечь моё внимание и движением, жестом, но для этого я должен уже заранее видеть Вас. Звук — главное, чем привлекает внимание к себе некий новый предмет, не оказывая на меня прямого физического воздействия. Кроме того, звук, звучание, звуковые колебания как движение от одного к другому, как передача от одного к другому — очень важные вещи для Хлебникова (см. «З и его околица», 1915 г. — НП: 346–347; здесь, в частности, звук ассоциируется через З и с зрением).
С другой стороны, зрение — главное, благодаря чему мы самостоятельно ориентируемся в мире, можем зафиксировать и выделить в нём некий предмет и всецело охватить его. Я услышал что-то и обернулся на звук. Вы позвали меня, и я поворачиваюсь к Вам не для того, чтобы лучше услышать Вас (слушать как раз лучше боком), а для того, чтобы увидеть Вас. Звук — манифестация объекта, зрение — реакция субъекта, его внимание и обращённость к объекту. И именно зрение, как никакое другое из ощущений, мы так широко метафоризируем в нашем быту: мы говорим „видеть насквозь”, говорим об „умозрении” и т.д.
Итак, звуком предмет даёт о себе знать, зрением мы постигаем его. Звук — принадлежность объекта, зрение — принадлежность субъекта, ви́дение звуков — контакт между ними, и этот чудесный оксюморон снимает в зрении и в звучании их конкретную физическую природу, а оставляет и абсолютизирует (в этом смысле — абстрагирует) сам момент связи двух сторон, их со-общения и единения, причём это такой контакт, при котором каждая из сторон остаётся самою собой, ни одна не доминирует над другой: ни субъект не растворяется в объекте, ни объект не растворяется в субъекте. Объект — звучит, субъект — видит, в результате — мысль, и принадлежит она уже не объекту и не субъекту в их раздельности, а самой этой связи, которую осуществляет и в которой осуществляется.
Позвольте несколько расширить материал — не только в иллюстративных целях. Божественное Откровение есть именно, буквально откровение: открывается то, что подлежит зрению, открыто — значит, может быть увидено (закрытое, скрытое, сокрытое — то, что нельзя увидеть). Но осуществляется откровение (т.е. открывается для зрения) как изречение — как речь, которая и составляет Священное Писание (ср. у Хлебникова образ Единой книги | Читеж-града), причём исходно это именно звучащая речь, только потом люди записали её в Писании. У Хлебникова, мягко выражаясь, были предшественники.
Мне кажется, здесь становится видно, каким конкретно образом эта самовитая речь становится “священной речью”, и мне трудно сказать, метафорика это или же онтология, но даже если и метафорика, то метафорика, основополагающая для определённого типа сознания.
А теперь я постараюсь показать, в каком именно смысле эта речь оказывается самовитой речью. Перейдём от исходного ви́дения звуков к итоговому ви́дению слов. На той же странице ед. хр. 60 (л. 18), где запись Бог. Субстанцией — Самовничий, несколькими крайне неразборчивыми строками выше читаем, отдельной строкой:
Здесь, в этом окружении, имеется в виду именно лик бога, лик божий. Но четырьмя страницами ранее мы встречаем это же выражение в другом тексте (л. 15 об.). Это довольно большая, очень интересная и очень значительная запись, приведу её целиком:
Здесь едва ли не впервые у Хлебникова мы встречаем идею словесной глыбы в противопоставлении её словесному неделу, и на каждом уровне: на уровне недела — звука, на уровне отдельного слова, на уровне словосочетания или развёрнутого высказывания (словесной глыбы) — слово имеет самастый своевидный лик, подобный (или тождественный?) лику божества: самастый — принадлежащий божеству, духовной сущности, своевидный — выглядящий, выступающий в этом слове по-своему.
Вот лик — это то, что действительно можно уже видеть, лицезреть. Не вдаваясь глубже в эти достаточно сложные вопросы, я хотел бы только подчеркнуть, что личность (стоящая за ликом, обладающая ликом) и жизнь, или жизнь и личность, — это первейшие и важнейшие атрибуты (т.е. качества, качествования, свойства, проявления) божества, божественной сущности.
Перечитаем теперь на этой основе и первую формулу Хлебникова: Сущность поэзии — это жизнь слова в нём самом; в нём самом — по-видимому, значит здесь: в его собственной личности (а в чём ещё?), в личности его самого. Но эта формула имеет своё продолжение, полный текст её звучит так (звучит — а мы должны видеть):
Последнее ограничение (вне) синонимично ограничению вне быта и жизненных польз; сущность и самовизна (самовитость) сближаются до отождествления.
Почему и как слово (слова) становится (становятся) у Хлебникова божеством (божествами), — сложнейший вопрос. Я думаю, решающее значение имело здесь понимание слова как „союзного звена”, по Вл.Ив. Далю (пусть у Хлебникова этого выражения и нет), — между телом и духом, между субъектом и объектом, между земным и небесным, дольним и горним (а эта связь и составляет, как считают, сущность религии).
Дам Вам череду текстов, всё из той же ед. хр. 60, которая может кое-что прояснить.
В самом конце этой подшивки тетрадок читаем — л. 133, в самом верху страницы, отдельной строкой:
Узнаёте ви́дение звуков? Здесь Вам и тайна (вспомните Набокова!), причем тайна — взиральная, подлежащая зрению: на неё взирают. У тайны этой есть лик, и выше я забыл сказать о том, что лик, он же вид, — первоначальное значение Платонова термина “идея” (“эйдос”); в христианской традиции лик — явленная духовная сущность, созерцаемый вечный смысл. И этот лик (смысл) узывен — он зовёт, звучит. А в самом низу той же страницы, также отдельной строкой:
Бог, не знающий лика, т.е. безличный бог, — это бог пантеизма? Или же этот бог безличен в силу ненарекаемости Бозничего? Тогда здесь утверждается прямая связь между ликом и именем. Или же этот мечтёжник — чертёжник хочет вывести, построить идею Бога, так сказать, вне быта и жизненных польз, т.е. вне мифологии существующих религий, из которых в каждой у бога свой особый лик? Это одно из начал движения к законам времени? Но может быть, это бог не безличный, а „безликий”? Тогда это опять ведёт либо к пантеизму, либо к ненарекаемости. В любом случае, поиск бога, не знающего лика я не могу не связать с последующим переходом Хлебникова к числовому письму | числослову | словарю чисел | ословлению чисел: числа не имеют ликов в силу своей мгновенной переменчивости, пока, конечно, среди чисел у Хлебникова не появились свои боги. Но это — весьма спорное рассуждение.
А на л. 10 об. читаем:
Кого или что куёт и выковывает этот коваль, да ещё на молинах себе? Безбогий мир — или безбогого себя? К чему или к кому относится здесь местоимение себе? Ср. «Литургию мне» у Ф.К. Сологуба; очень близкие тексты есть и у Хлебникова раннего времени. Но ср. у позднего Хлебникова: И время Эль, как облако, повисло / Над богослужением себе.13![]()
Может быть, эти молины себе ведут к другому тексту — л. 56:
(Для мира и в себе — фразеологизмы типично кантианские). От этого текста — всего шаг до значительнейшей записи на л. 68 (срединную часть её я выделяю красным:14![]()
Может быть, “богоискательство” и растворяется в Симфониях, переходит в Симфонии, а Симфонии строятся как богослужение. Быть богом себинных глубин — это и значит, по-видимому, ословлять себинные глубины | любинные глубины | глуби и т.д., раскрывая в каждой самастый своевидный лик. Это начальное ословление и несёт, по-видимому, раскрытие (открытие) своевидностей самовизны — в отличие от последующего, позднейшего ословления чисел, движимого поиском, наоборот, некоего общего знаменателя.
Какое отношение всё это имеет к «Ене Воейкову»? А вот какое. С одной стороны, эти рассуждения проливают свет на проблему законченности — незаконченности хлебниковских вещей и, в частности, «Ени Воейкова».
А с другой стороны, хотя никакого ословления в «Ене Воейкове» как будто и нет, хотя мы встречаем в этих фрагментах, наоборот, вполне „рациональную речь”, но не кажется ли Вам, что мои рассуждения и приведённые материалы могут уточнить идею борьбы индивидуума с видом? Мне, во всяком случае, кажется, что борьба с видом и преодоление эго-морфизма есть не что иное, как преодоление своевидности и обретение через это более высокой и более широкой самовизны. Собственно говоря, эго-морфизм и своевидность — не одно ли это и то же, только с разных сторон показанное: эго-морфизм — изнутри его носителя и по отношению к нему самому, а своевидность дана нам при взгляде извне, снаружи. Это перекликается с мыслями, которые Хлебников высказывает в цитируемом Вами письме Вяч. Иванову.15![]()
Обратите внимание на эту чисто кантианскую альтернацию в предпоследнем тексте: бог для мира — и бог в себе („вещь в себе” — и “вещь для нас”). Мир бога не волит — в других категориях это было бы сформулировано: „Бог умер”16![]()
![]()
![]()
![]()
В этом ключе и осуществляется в «Ене Воейкове» ословление героя — его ословление именем — именем Ени Воейкова — ословление героя именем в русской литературе; ситуация здесь по-своему аналогичная ситуации Я буду думать, как бы не существовало других языков, кроме русского.20![]()
М. Киктев
Москва, 18 июня 1996 г.
| Персональная страница М.С. Киктева на ka2.ru | ||
| карта сайта | 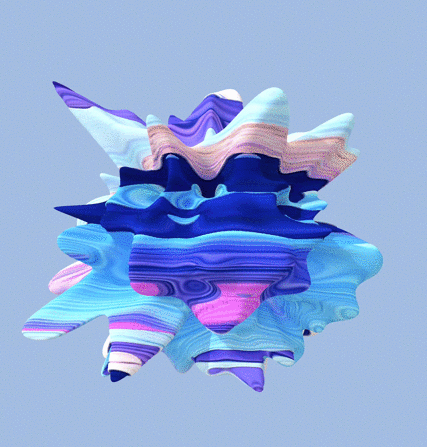 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||