

Оперенье — орлиное — становится не только крылом, но и пером-рукой (Я писал орлиным пером; шелковое, золотое, оно вилось вокруг крупного стержня); „интересен набор предметов, представляющих ценность для поэта, предметов, которыми он — бессребреник — обставляет свою жизнь. Орлиное перо служит ему орудием письма. Позже перо заменят игла дикобраза и ветка вербы, и это также отразится в творчестве Хлебникова” [3, c. 124]. В статье «Железное перо на ветке вербы» он размышлял:
За этим следует парадоксальное, как всегда у Хлебникова, признание: Я не знаю, какое созвучие дают эти три пера писателя [2, т. 5, с. 237]. Это — признание 30 апреля 1922 года. В мае-июне того же года, накануне смерти, обращаясь с горечью к современникам, он упрекнул их к незрячести: ‹...› не заметив во мне / Событий вершины, / Пера руки времен / За думой писателя [2, т. 2, с. 383]. А раньше в своем озере-памяти мемуарист видел свое отражение и понимал: Я тот [2, т. 5, с. 203]. Среди образов прошлого, явившихся на его зов и просивших бессмертия у его чернил и его дара, поэт идентифицировал главный:
Первое “я” отсылает к племени волгоруссов, которое
Здесь задан метафорический код истории калмыков, которые последними в череде кочевых азиатских народов начали свой путь в конце XVI в. и в середине XVII в. заняли Волго-Уральское междуречье. Примечательно, по В.И. Колеснику, что свое движение на запад калмыки, подобно гуннам, начали из Джунгарии и остановились там, откуда гунны начали свои знаменитые завоевания в Европе [4, с. 5]. Поэтому вслед за А.С. Пушкиным (сын степей — друг степей) поэт ХХ столетия точен в определении (чужие степи), в наречии (медленно), в словосочетаниях (общий быт и общая судьба).
„Буддийский мир, калмыцкий быт, калмыцкие мифы и предания прочно вошли в сознание Велимира Хлебникова”, — указывает С.В. Старкина [3, с. 14]. Одно из первых детских воспоминаний связано с калмыцким хурулом, с ворот которого смотрели деревянные слоны: достать монгольских кумиров мальчик не смог. В Малодербетовском улусе тогда было несколько больших и малых хурулов, среди которых — Дэду Ламин-хурул, Дунду хурул [5]. „Знаменательно, — считает С.В. Старкина, — что последнее его произведение, труд нескольких лет его жизни, назван «Доски судьбы». Доски судьбы используют при вычислении времени и в гаданиях калмыцкие и тибетские астрологи” [3, с.14]. Эти доски судьбы мальчик, вероятно, мог впервые увидеть в поездках с отцом, Владимиром Алексеевичем Хлебниковым, попечителем Малодербетовского улуса Калмыцкой степи, входившей в состав Астраханской губернии; в шелковых досках книги монголов во взрослых мечтах Велимира сами взойдут на костер из кизяка благовонного, который собирают зарей калмычки («Единая книга»). Любопытно определение кизяка как благовонного в связи с обрядом самопожертвования. В контексте фрагмента бинарная оппозиция жизнь — смерть c мифологемой их тождества отсылает к монгольскому похоронному ритуалу, когда „прежде чем положить покойника на землю в местах захоронений, ее устилали слоем сухого навоза”, и к родильному обряду (подстилка для роженицы) [6, с. 112].
Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии, — так в сверхповести «Дети Выдры» (1911–1913) Сын Выдры думал об Индии на Волге [2, т. 5, с. 246]. По мысли Хлебникова, низовье Волги — это треугольник Будды, Магомета и Христа, особое место на карте мира. Призывая заглянуть в монгольский мир, он сетовал, что русская словесность не знает ‹...› монгольских веяний [7, с. 176]. Мозг земли, — заявлял поэт, — не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым («О расширении пределов русской словесности», 1913) [7, с. 177]. По словам А. Парниса, в текстах Хлебникова последнего периода использованы различные этнографические, фольклорные и мифологические материалы, связанные с жизнью, бытом и культурой калмыков и других восточных и славянских народностей, проживавших в Нижнем Поволжье в далеком прошлом и в начале ХХ в. Они воплощены в поэме «Хаджи-Тархан» и повести «Есир», в очерке «Лебедия будущего», в сверхповестях «Война в мышеловке» и «Азы из узы», в статьях и заметках разных лет [1, c. 313].
В поэтическом воспоминании 1909 года Хлебникова-младшего — не только описание природы родного края, но и проекция калмыцких компонентов в его творчестве. Меня окружали степь, цветы, ревучие верблюды, / Круглообразные кибитки, / Моря овец, чьи лица однообразно худы, / Огнем крыла пестрящие простор удоды — / Пустыни неба гордые пожитки. / Так дни текли, за ними годы ‹...› [2, т. 1, с. 205]. Скажем, в статье «Мы и дома» (1915) Хлебников-архитектор отменял слитные улицы — трудно смотрятся: очевидно, вспомнил калмыцкие кибитки в степи, всегда стоящие просторным кругом.
Одна из хлебниковских моделей круглого дома на колесах отсылает к кочевникам: путешественник едет со своим домом, стеклянные стены которого “снимают” преграду между человеком и миром. Возможно, здесь и отзвук бесед сына с отцом, автором этнографических заметок.
Современные исследователи указывают:
В «Зверинце» (1909, 1911) поэт описывал Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг, и поэтому верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая [2, т. 5, с. 41]. Как полагает Н. Башмакова, звери выглядят как надаренные жизнью духа — верой: „Живая природа смотрится в «Зверинце» ликом веры — веры в сверхмеру проекции жизни духа, веры в пространственное преображение космических масштабов” (разрядка автора. — Р.Х.) [11, с. 170]. Вероятно, Хлебникову было известно, что священные книги монголов обычно перевозились на верблюдах, по возможности на белых. Позже, в 1921 году, он напомнил, как из Ганга священную воду / В шкурах овечьих верблюды носили, / Чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке дикарей [2, т. 2, с. 201]. Глядя на свою чернильницу-верблюда, изваянного потомком Чингисхана, Хлебников подчеркнул, что верблюд этот в пустынях белых письменного стола колючей мысли вьюк несет. Память о реинкарнации в следующем обращении к медной вещи: В переселеньи душ ты был, / Быть может, раньше нож. / Теперь неси в сердцах песчаных / Из мысли нож! [2, т. 2, с. 201]. Мифологема огня в стихотворении Хлебникова «Как стадо овец мирно дремлет…» (1921), овеществленная в спичках, лежащих в коробке-хлеву, вызывает в памяти моря овец, чьи лица однообразно худы, в ассоциативно-семантическом ряду: овца — множественность — прирученность — однообразие — худоба, т.е. покорные человеческой руке одинаковые, тонкие спички [12].
В «Войне в мышеловке» (1915 — 1919 — 1922) опосредованно звучала буддийская тема. Призывая друзей взойти на свой материк, автор не терял надежды: Я верю, я верю, что некогда „Майна!” / Воскликнет Будда или Аллах [2, т. 3, с. 182]. В буддийских постулатах первостепенна идея любви и сострадания ко всему сущему. Земного пути колесо маховое, которое должно стать подвластно длани будетлянина («Дети Выдры»), поскольку человек научится управлять судьбой, познав законы времени, пространства и поколений, напоминает и о колесе перерождений (сансара) в буддийском сознании. Маленький Виктор мог видеть на фронтоне калмыцкого хурула это деревянное колесо с ланями по обеим сторонам (будь старшим братом этой лани). В статье «Колесо рождений» (1919) Хлебников настаивал:
Влияя на свою карму добрыми поступками, человек способен прервать цепь перерождений, достигнув состояния будды.
Когда поэт пробовал забыть страну Лебедию, свое Конецарство, доверив звуки своей цеве, все равно был убежден: Мы стали лучше и небесней, / Когда доверились коням («Война в мышеловке») [2, т. 3, с. 190]. В мифопоэтике многих народов кони связаны с небом, с солнцем (Они на нас так не похожи, / Они и строже и умней | в нас испытуя слово „дей!”). Не случайно для Хлебникова в одном ряду князь и кнезь, и конь, и книга — / речей жестокое пророчество, потому что они одной судьбы, их иго / Нам незаметно, точно отчество [2, т. 3, с. 191]. Хлебников-ученый называл людей лучами, открыв луч чудес для народов и отдельной души («Время — мера мира», 1916), лучи судьбы и мира. Не отсюда ли его степные ландшафты, где курганы, как волны на волне / В чешуйчатой броне — былые богдыханы умерших табунов («Азы из узы») [2, т. 3, с. 280]. Курганы — степные могильники исчезнувших племен в низовьях Волги (курганы — племена — волны времени), на курганах ставились идолы — каменные бабы и каменные воины (былые богдыханы — монгольские повелители, всадники коней, правившие судьбами народов). Символично, что московское надгробье поэта охраняет каменная баба. В одном из стихотворений 1919 г. Хлебников размышлял: Может, я вырос чугунною бабой / На степях у неба зрачка. / Полны зверей они. / Может, письмо я, / Бледное, слабое, / На чаше других измерений [2, т. 2, с. 41]. Зрачок неба, скорее всего, это — Солнце, по Хлебникову.
Поэма «Хаджи-Тархан» (1913) демонстрирует авторское знание калмыцкой легенды о горе Богдо, повесть «Есир» (1918–1919) — осведомленность в космогоническом мифе о горе Сюмер-улу — Сумеру, легенд о Чингис-хане как культурном герое, создателе арьки [13]. Калмыцкий дискурс в повести открывается размышлением юной героини, по имени Коку, которая разожгла костер у кибитки, о мифологической горе Сюмер-улу (Сумеру), срединной горе мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц [2, т. 5, c. 192]. Молочная пища (цаган идян) у калмыков считается сакральной, сродни аршану — нектару богов, и входит в состав жертвоприношений бурханам. Поэтому доблестные предки вкушают заслуженную еду. Ср. в статье «Мы и дома»: Доски победителей уже брошены (Доски судьбы? Потому что победили? — Р.Х.), и победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц [7, c. 199].
В «Есире» дана неточная идентификация питья: Старый калмык пил бозо — черную водку калмыков [2, т. 5, c. 193], в комментариях Р.В. Дуганова и А.Е. Парниса исправлено — гуща в котле после перегонки молочной водки (боз — калм.). Хлебников-старший, описывая питание кочевников, был точнее в отношении степного спиртного.
В «Есире» воспроизведен не обряд приготовления водки, как обычно полагают, а обряд ‘цацал’ — возлияние (окропление) белой пищей (водкой) местным божествам земли, воды, огня. Этот ритуал как раз и приводит автор: Первую чашку он плеснул в огонь, вторую — в небо, третью — на порог [2, т. 5, с. 193]. Обращение героя к имени Чингис-хана (Пусть меня милует Чингис богдо-хан) связано с авторитетом этой исторической личности среди монгольских народов, а также с обрядом приготовления водки. Сведения о таком обычае Хлебников мог получить, в частности, из трудов И.А. Житецкого, который в 1883–1886 гг. путешествовал по Калмыцкой степи, был знаком с отцом поэта, помогавшим этнографу в сборе материалов о быте калмыков [1, c. 309].
Именно созерцание пламени костра вызывает у человека метафорическое видение исторической жизни, рождая мифологические мыслеобразы. Как верно замечено в комментариях А.Е. Парниса к тексту повести, Хлебников доверился Житецкому, который в своих «Очерках быта астраханских калмыков» (М., 1893) превратил богиню ламаистского пантеона Окон-Тенгри в бога огня Окин-тенгир [14, c.703]. Житецкий писал, что при обряде приготовления арьки и ее потреблении первую чашку с напитком выливали в огонь очага со словами о том, чтобы миловал огненный Окин-тенгир [15, c. 32]. В мифологии монгольских народов существует божество огня, персонификация огня, очажного пламени как в мужской, так и в женской ипостаси. У калмыков — это Галтенгри (“огонь-тенгри”), образ, создававшийся на основе представлений о духах родового и семейного очага. Для нас важно в хлебниковском контексте, что „при складывании культа Чингисхана его родовой огонь осмысливается как владыка над всеми духами очагов и затем — как огонь вообще”, так как по одной из версий первый огонь был высечен Чингисханом и раздут его женой [16, с. 269]. В примечаниях Р.В. Дуганова некоторые особенности учтены [17, с. 362].
Мифологическое сознание Хлебникова, в том числе обращенное и к проблемам межнациональных отношений, по словам Г.Г. Исаева, формировалось под воздействием многих факторов — биографических, социальных, философских, эстетических, этнических, религиозных, традиций русской и мировой культуры [18, с. 9]. В то же время нельзя согласиться с мнением этого исследователя о том, что в «Есире» „религиозные грезы разных народов даны Хлебниковым именно как грезы, не приводящие человека к истине” [18, с. 173], особенно с его анализом калмыцкого компонента, сводящего все к конфессиональным заблуждениям.
Калмыцкий обряд, в котором возлияние Небу демонстрировало благодарность за возрождение жизни на земле, огню — как символу солнца, жизнеспособности человека, очагу — как символу семьи, рода, благополучия, порогу кибитки — как границе чужого и своего, внешнего и внутреннего пространства, соединял небо, землю и человека в трехчленной модели мироздания номадов — верхний, средний и нижний миры.
Животворное начало Солнца отразилось в «Сокровенном сказании монголов» в рассказе о том, как Алан-Коа несколько раз зачала от луча: „Каждую ночь прозрачный желтый человек входил через щели порога и дверного косяка и гладил мне чрево” [20, с. 12]. Ср. калмыцкую легенду о происхождении Чингисхана от солнечного луча [21, с. 182]. Промежуточным звеном в цепочке солнце — луч — жизнь на земле является огонь, осознаваемый земным продолжением солнечной стихии, а потому наделяется свойствами обеспечения плодородия, богатства, счастья. Очаг является местопребыванием как огня, так и хозяйки очага — богини огня, покровительницы рода, которая выступала как антропоморфное существо, что характерно для многих тюркомонгольских народов [10, c. 174, 182]. В период распространения буддизма, как отмечено, божеством, выполняющим функции хозяйки очага, стала считаться Окон-тенгри — так называют монгольские народы буддийское божество Лхамо из рода докшитов. Жертвоприношение огню очага (‘гал тяях’) как сакральному центру жилища связано и с Окон-Тенгри (калм. дева неба или небесная дева). „Калмыки при поклонении хозяйке огня называют ее галын Окн тенгри (Небесная огненная девушка)”, — уточняет Э.П. Бакаева. — В калмыцких легендах Окон тенгри также связывается с праздником Цаган Сар, к началу которого богиня, как считают, освободилась из плена мангасов и возвратилась в родной край; этот же праздник считается началом периода весенних дождей и гроз [22, с. 182]. Окон-Тенгри, согласно некоторым версиям [21], похищенная демонами-мангасами и убившая совместного ребенка ради спасения людей, пожертвовала своим материнским счастьем.
Э.П. Бакаева обращает внимание на вариант легенды об Окон-Тенгри, рассказанной знатоком фольклора Н.М. Дандыровой: девушка счастливо спасается из плена с помощью жеребенка. Окон-Тенгри, таким образом, имеет не только общеизвестную иконографию гневного божества из ранга докшитов, но и образ милостивой богини, который более характерен для калмыков [22, c. 183]. Знаменательно, что при всех версиях (небесная дева, простая девушка) Окон-Тенгри — защитница человеческого рода. И если она не сама убивает собственного младенца, то помогает избавиться от него, как в инварианте писателя К. Эрендженова «О празднике Цаган Сар», по сообщению фольклориста Т.Г. Борджановой. Окон-Тенгри сражалась с сыном мангуса, а Ноган-Дара-еке (Зеленая Тара), его мать, подсказала, где находится в теле малыша душа, благодаря чему была одержана победа: отважную деву люди стали называть защитницей и воительницей — дайчи. Э.П. Бакаева ссылается на калмыцкую народную сказку с тем же сюжетом, когда Ноган Дярк (Зеленая Тара) вместе с Окон-Тенгри появляются в день Цаган Сара перед людьми. По ее мнению,
По некоторым легендам, Окон-Тенгри связана с судьбой (смертью и загробным миром). В детализированном портрете мертвеца с косой отразилась этническая особенность: раньше все мужчины брили голову, оставляя на маковке волосы, заплетенные в одну косу, а знать — в две или три косы, по свидетельству П.С. Палласа (1773 г.). У Житецкого в описании современных ему мужских калмыцких причесок встречаем следующее:
Таким образом, калмыцкий компонент в «Есире» представлен гендерными парами, в которых один элемент — историко-мифологический. Мужскую пару составляют старый калмык и Чингис-хан, женскую — дочь старика Коку и Окон-Тенгри. Они связаны между собой через рассмотренные этнокультурные компоненты, прежде всего — мифологему огня, доминантной в хлебниковском творчестве. Многое из того, что заявлено в калмыцком дискурсе повести, как нам представляется, подтверждает необходимость изучения “калмыцкой” темы в аспекте “азийской”/“евразийской” парадигмы художественного наследия Председателя Земного Шара.
| Персональная страница Риммы Ханиновой на ka2.ru | ||
| карта сайта | 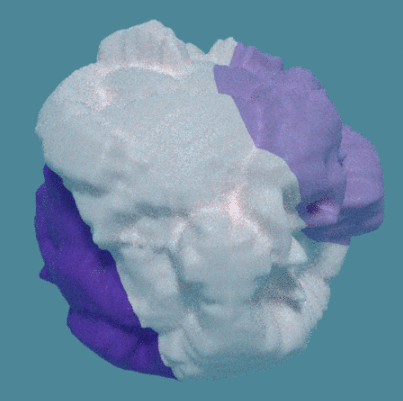 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||