

Поэт восклицал в “астраханском” тексте «Хаджи-Тархана» (1913): Как веет миром и язычеством / От этих дремлющих степей ‹...› [15, c. 246]. Поэма начинается с топонимического описания, где Волга прянула стрелою / На хохот моря молодого, / Гора Богдо своей чертою / Чернеет взору рыболова [15, c. 245]. Устами кочевника-мальчугана дана песня о происхождении этого места: Был уронен холм живой, / Уронил его святой, — / Холм, один пронзивший пажить! / А имя, что носит святой, / Давно уже краем забыто. [15, c. 245]. В комментариях к поэме пересказана одна из калмыцких легенд:
Эта легенда была известна автору произведения, скорее всего, по заметке «Калмыцкие легенды о горе Богдо и Баскунчакском озере», опубликованной в «Астраханском справочном листке» за 1883 год (№ 228).
Культу горы близок и культ курганов ‘ова’, включающий поклонение родовой местности, земле, воде, природе в целом, родовым покровителям. По словам Э.П. Бакаевой, ‘ова’ — абстрактное воплощение родовой горы — в условиях откочевки из мест исконных родовых кочевий ойратов стало более универсальным сакральным местом. Это нашло отражение в калмыцких легендах о горе Богдо, перенесенной из Западной Монголии (вариант Урала) к новому местожительству.
В легенде, переведенной писателем М. Нармаевым, также подчеркнуто:
И, когда один из ста богатырей, взявшись в свою очередь нести священную гору, не смог приподнять ее со своей стороны и не признался на все расспросы в собственной вине, случилось чудо:
Не случайно название горы переводится с калмыцкого богд — “святейший”. То есть в приведенных вариантах легенды актуализирована необходимость чистоты помыслов людей, соприкасавшихся с горой: гора в одном случае наказывает грешника-святого, в другом — грешника-богатыря, демонстрируя должную взаимосвязь между словом и делом любого человека („Весь северный склон ее красен от нечестной крови вора, а южный склон, где другой батыр трудился, остался навек незапятнанно белым ‹...›”). Вероятно, потому в умных объятьях поэта и Горы — братья! Боги — братья! [15, c. 134]. Кроме того, по буддийским канонам, пролитая кровь умершего не дает возможности перерождения (закон кармы — возмездия за прегрешения в земной жизни), а белый цвет являет святость, чистоту. Горы представлялись поэту каменными книгами, которые может читать посвященный («Ручей с холодною водой…»). В структуре астраханской поэмы типичное смешение исторического и мифологического, западного и восточного, природного и человеческого манифестирует искомое стремление к синтезу микро- и макрокосма в художественном мире Хлебникова, где восточный дискурс становится порогом, с которого открывается взгляд на даль, на мировую общину земного шара и ведется аксиологический отсчет. Сам художник определял место своего рождения и раннего проживания как треугольник Будды, Магомета и Христа.
Среди хлебниковских текстов с калмыцким компонентом особый интерес представляет повесть «Есир» (1918–1919). Структура этой повести, как отмечалось, также построена на монтаже различных восточных и европейских (славянских) мифологических традиций. Калмыцкий дискурс открывается размышлением юной героини о мифологической горе Сюмер-улу (Сумеру), срединной горе мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц [15, c. 552]. Молочная пища (цаган идян) у калмыков считается сакральной, сродни аршану — нектару богов, и входит в состав жертвоприношений бурханам. Поэтому доблестные предки вкушают заслуженную еду.
Согласно Т.С. Грицу, писателя здесь интересует подача экзотического материала (Старая Русь, Персия, Индия), возможность найти словам место на осях жизни описываемого народа [3, c. 249]. Такой осью жизни становится гора Сумеру. „Образ генетически связан с буддийской мифологией (санскр. Меру, Сумеру). Согласно ламаистской космогонии, Сумеру возникла первой в процессе космогенеза из “верхних волн” первозданного мирового океана (Великого внешнего мира) и должна последней разрушиться при конце света. Как изначальный и центральный космический объект Сумеру часто фигурирует в монгольском героическом эпосе, прежде всего — в зачинах сказаний”, — замечает С.Ю. Неклюдов [10, c. 516]. Поэтому не удивительно, что в повести калмыцкая тема открывается в духе народных сказаний с первоначала.
Подстать размышлениям дочери и размышления старого калмыка, который пил бозо — черную водку калмыков, по словам Хлебникова. На самом деле, бозо (калм. боз) — гуща, остающаяся после перегонки молочной калмыцкой водки. Водка делится на черную (‘хар ярк’) и белую (‘цаган ярк’): арька (арьк) — водка, приготовленная из кобыльего или коровьего заквашенного молока; арза (арз) — водка двойной перегонки; хорза (хорз) — водка тройной перегонки. Эпические богатыри славились возлияниями: „Диких степных кобылиц / Молока потоки лились. / Разливались озера арзы, / Радующей взоры арзы” [4, c. 43]. При этом „способность героя выпить несчетное количество чаш арзы и хорзы считается показателем его мощи; это и проверка его сил, и приобретение им новой силы через белый сакральный напиток, полученный из молока” [6, c. 348]. Н.Л. Жуковской приведен пример из эпоса «Джангар», когда Санал на пиру у Таки-Бирмис-хана выхватывал арзу, подносившуюся соседям сзади, спереди, по сторонам, и выпивал.
Упоминание о калмыцкой водке приведено Хлебниковым не случайно: старик
Старый калмык, по обычаям предков, воздает должное в данном случае “хозяину местности” — ‘газрин эзн’ (у автора нейтральное — бог степей). Он совершает старинный обряд ‘цацал’ — возлияние (окропление) белой пищей (водкой) местным божествам земли, воды, огня (единый хозяин земли и вод у монгол-ойратов Цаган Авга — Белый Старец или Делкян Цаган Овген — Всемирный Белый Старец). Последующий ритуал как раз и воспроизводит Хлебников: Первую чашку он плеснул в огонь, вторую — в небо, третью — на порог [15, c. 552]. В комментариях А.Е. Парниса к тексту повести сказано, что „Хлебников подробно описывает церемониал с произнесением заклинательных фраз во время ‘зулук эркгехе’ — калмыцкого обряда варения водки (арьки)” [7, c. 703]. Р.В. Дуганов также полагает, что „здесь описан калмыцкий обряд изготовления молочной водки” [16, c. 251]. ‘Зулук эркгехе’ же — буквально зажигание лампады в календарно-семейных обрядах, празднования Зул и поминания Цзонхавы, которого Хлебников назвал великим учителем монголов, Сократом пустынной Азии («Колесо рождений»), в тексте не говорится о варке стариком водки. Имя великого государя приводится и в связи с тем, что как культурный герой в монгольской мифологии он является изобретателем водки. Известны две калмыцкие версии об этом: первая в изложении И. Житецкого, вторая — У. Душана. В первой легенде «Чингис-хан и винокурение» говорится о том, что
Года через три-четыре Чингис-хан попал в одну богатую кибитку, хозяин которой гнал арьку, и молча сидел с ним, пока водка не приготовилась. Описание последующего ритуала во многом перекликается с хлебниковским описанием, что подтверждает источник заимствования.
Во второй версии «Почему хан разрешил изготовление арьки» именно груда хавхугов (глиняных конусообразных затычек с углублением для винокуренного котла, в которые вливали жертвенный напиток) помогла Чингис-хану, заблудившему во время охоты со свитой, определить верное местоположение, в благодарность за это он разрешил калмыкам снова готовить арьку. „С тех пор калмыки делают на хавхуге углубление, куда наливают несколько капель арьки, благодаря при этом хана словами: „Богдо хана хяярн”” [12, c. 88], то есть „На милость богдо-хана”. В бурятском же варианте о том, как была создана водка, акцентируется пагубное влияние Сатаны, надоумившего людей принимать в себя такой яд.
Хлебниковскому герою великий хан казался „беспечным богом войны, набросившим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром” [15, c. 552]. Метафора „одеяние человеческой судьбы” как нам представляется, имеет двойной смысл. Ее семантика отсылает к этническому понятию ‘заячи’, то есть “распорядителя судьбы”, который у каждого человека свой, в контексте повествования — это указание на значение личности и деятельности монгольского хана-полководца в масштабах мирового сообщества. Это подтверждается грезовидением старого калмыка, который „мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покоренные Чингизом народы, и почти вся Средняя Азия была охвачена кольцом великой облавы” [15, c. 552]. Именно созерцание пламени костра вызывает у человека метафорическое видение исторической жизни, рождая мыслеобразы. В другой семантике указанной метафоры ношение чужой одежды у монгольских народов равносильно изменению собственной жизни, поэтому непозволительно, а сознательный отказ от своего одеяния в силу разных причин должен сопровождаться соответствующими обрядами заклинания, вероятно, отсюда и определение “беспечный” по отношению к Чингис-хану.
Как верно замечено в комментариях А.Е. Парниса к тексту повести, Хлебников доверился Житецкому, который в своих «Очерках быта астраханских калмыков» (М., 1893) превратил богиню ламаистского пантеона Окн-Тенгри в бога огня Окин-тенгир. В то же время в мифологии монгольских народов существует божество огня, персонификация огня, очажного пламени как в мужской, так и в женской ипостаси. У калмыков — это Галтенгри (“огонь-тенгри”), образ, создававшийся на основе представлений о духах родового и семейного очага. Для нас важно в хлебниковском контексте, что „при складывании культа Чингисхана его родовой огонь осмысливается как владыка над всеми духами очагов и затем — как огонь вообще”, так как по одной из версий первый огонь был высечен Чингисханом и раздут его женой [9, с. 269]. В примечаниях Р.В. Дуганова некоторые особенности учтены [13, с. 362]. Согласно Х. Барану, „Хлебникову, хорошо знакомому с традициями калмыков, не чужд возвышенный, мифологизированный образ Великого Чингиза (повесть «Есир»)” [2, c. 210].
Калмыцкий обряд, в котором возлияние Небу демонстрировало благодарность за возрождение жизни на земле, огню — как символу солнца, жизнеспособности человека, очагу — как символу семьи, рода, благополучия, порогу кибитки — как границе чужого и своего, внешнего и внутреннего миров, соединял небо, землю и человека в трехчленной модели мироздания номадов.
Таким образом, жертвоприношение огню очага (‘гал тяях’) как сакральному центру жилища связано и с Окон-Тенгри (калм. дева неба). У калмыков Окон-Тенгри олицетворяет плодородие и возрождение, так как, согласно разным версиям [12], похищенная демонами-мангасами и убившая совместного ребенка ради спасения людей, она пожертвовала своим материнским счастьем. Ее возвращение на землю означает конец зимы и наступление праздника Цаган Сар (Белый Месяц) — нового года у монгольских народов. Знаменательно, что при всех вариациях (небесная дева, простая девушка) Окон-Тенгри — защитница человеческого рода. И если она не сама убивает собственного младенца, то помогает избавиться от него, как в варианте писателя К. Эрендженова. Окон-Тенгри сражалась с сыном мангуса, а Ноган-Дара-еке подсказала, где находится в теле малыша его душа, благодаря чему была одержана победа, а отважную деву люди стали называть защитницей и воительницей — дайчи (указано к.ф.н., фольклористом Т.Г. Борджановой).
Описание танца бога огня в своей живописности („красные челюсти”, „белые мертвые глаза”, „страшные белые глаза подымались к бровям головой мертвого, повешенной за косу”) недалеко от преображенного облика девы огня, которая после детоубийства превратилась в докшиту — гневное божество синего цвета с человеческими черепами. Кроме того, по некоторым легендам, она связана с судьбой (смертью и загробным миром). В детализированном портрете мертвеца с косой отразилась этническая особенность: раньше все мужчины брили голову, оставляя на маковке волосы, заплетенные в одну косу, а знать — в две или три косы, по свидетельству П.С. Палласа (1773 г.).
Интересно, что калмыцкий компонент в «Есире» представлен гендерными парами, в которых один элемент — историко-мифологический. Так, мужскую пару составляет старый калмык и Чингис-хан, женскую — дочь старика Коку и Окон-Тенгри. Они связаны между собой через этнокультурные компоненты, прежде всего — мифологему огня.
Именно Коку зажигает костер, размышляет о мировой горе Сумеру, задавая тон калмыцкому повествованию и связывая времена, предков и потомков. В медной деньге, вплетенной в ее косу, надпись древнего хана „Я был — мое имя высоко”. Локус Золотой Орды с обломками синей башни да старинным камнем с татарскими письменами напоминал о старине, вызывающей также имя Чингис-хана.
При всей этнографической подробности портрета Коку в глаза бросается некоторое несоответствие между ее статусом (девушка) и нарядом. Калмыцким девушкам полагалось иметь одну косу (замужним — две), что отвечало семейному положению. В изображении героини постоянно фигурируют то коса, то косы, в конечном итоге читаем: Ее косы, завернутые в шелковые чехлы, падали ей на грудь [15, c. 552]. Шелковые чехлы (по-калмыцки шиврлг) предохраняли косы замужних женщин, волосы которых олицетворяли витальную силу супругов. Девичья коса не одевалась в чехол, заканчиваясь вплетенной монетой, выполняющей, подобно токугам — серебряным украшениям, прикрепленным к концу шивырлыков, роль оберега. В то же время чуть ниже воспроизведен этический и эстетический идеал калмыцкой красавицы: Она помнила, что девушка должна быть чистой, как рыбья чешуя, и тихой, как степной дым ‹...› (курсив наш. — Р.Х.) [15, c. 552]. В первом сравнении (рыбья чешуя) отразился топонимический ракурс (астраханская калмычка, живущая у волжской воды), во втором — номадный (степной дым). Сравним звукопись костра, принявшего как бог пламени жертву в виде арьки: Окруженный заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти ‹...› (курсив наш. — Р.Х.) [15, c. 552]. С цветописью пламени семантически ассоциируются малиновая, шитая золотом, шапочка на девичьей голове, живые глаза, сверкавшие, как два черных месяца, умом и радостью, на лице Коку сквозь черный загар выступала степная алая кровь | лицо ее, как пламенеющий уголь, склонилось над землей, наконец, на девушке — черные шаровары (курсив наш. — Р.Х.) [15, c. 552].
В антропологической парадигме В. Хлебникова человек равен солнцу, сам он — огонь, способный разжигать и поддерживать пламя жизни на земле, если вспомнить одну из философем художника — спички судьбы [13]. В свою очередь, закольцовывая общий метафорический и мифопоэтический ряд, можно привести калмыцкую легенду «Из чего делается арька», в которой дочерью Чингис-хана дан рецепт водки. Его составляющие представлены следующим образом: „Надо смешать кровь из щек красивой девушки, пот со лба доброго молодца и слюну бешеной собаки”, тогда „как выпьешь первую чарку — защекочет, защиплет внутри, как выпьешь две — загорится тело и заструится пот со лба, а когда третью выпьешь — не сможешь усидеть на одном месте, как будто лизнул слюны бешеной собаки” [12, c. 89].
Если вернуться к хлебниковскому тексту, то получится, что старый калмык выпил не меньше трех чашек бозо. Вначале дан глагол несовершенного вида: пил бозо. Затем приведен ритуал ‘цацал’ с грезовидением героя. В конце калмыцкого повествования упоминается о том, что старый калмык выпил еще чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу [15, c. 552]. Когда к привезенному в кочевье Истоме подошел старик и коротко сказал: „Моя есир” („Мой раб”), пленник понял все страшное значение этого слова: Вихорь и огонь удара плети перевели слово (курсив наш. — Р.Х.) [15, c. 552].
Истома после долгих странствий на чужбине возвратился на родину, где нашел лишь сломанное весло, которым когда-то правил, и двинулся дальше в поисках новой “Индии духа”. Реальному путешествию астраханского рыбака и ирреальному — старого калмыка придан общий статус — обретение “оси жизни”. Здесь мировая история и множественные судьбы человечества переживаются как личное сознание и, наоборот, личное сознание переживается как мировая история [16, c. 21], в этом герои и автор нераздельны, что доказывает и калмыцкий компонент произведения. Прав Р.В. Дуганов: вспоминая место своего рождения на пересечении Запада и Востока, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти капли-станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом, Хлебников говорил о себе — другом, ‹...› но ведь это я, но в другом виде, это “второй” я — этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа [16, c. 18].
| Персональная страница Риммы Ханиновой на ka2.ru | ||
| карта сайта | 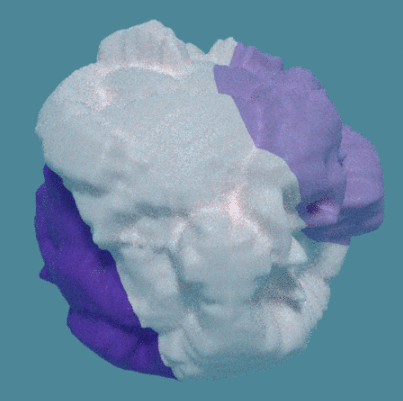 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||