

„Альчик, — поясняет словарь В.И. Даля, — арх. игорная говяжья надкопытная кость, козна, козан, бабка, костыга, шляк, лодыга, баска; латинск. Talus” [5, I, 13]. М. Фасмер, отмечая, что альчик — это „костяшка, сустав из ноги молодого рогатого скота, отличающийся от бабки”, также „игральная кость”, „донск., терск.”, выводит к заимствованиям „из тюрк., тат., крым.-тат., азерб.”, „слово известно только в русском языке и распространено на восточной части его территории”, „вероятно, сокращенное русск. чик = альчик, донск.” (курсив автора, в неоговоренных случаях — наш. — Р.Х.) [17, I, 74].
Можно согласиться с А.Е. Парнисом, что у Хлебникова игра в альчики — это калмыцкий компонент [14, 313]. Возможно, ребенком (рос в калмыцких степях до 5 лет) Виктор мог наблюдать эти игры, если не принимать в них участие; уже взрослым он посещал поселения астраханских калмыков (воспоминания Дм. Петровского). Для Хлебникова, замечено, такие поездки были “отдушиной”, возвращением в детство. Кроме того, его отец, Владимир Алексеевич, в бытность попечителем Малодербетовского улуса Калмыцкой степи, вел этнографические записи о калмыцких играх, в том числе в альчики. Наконец, Велимир был знаком с очерками И.А. Житецкого о быте астраханских калмыков, где есть упоминание об этой народной игре.
Функция альчиков в тюрко-монгольском мире разнообразна. Помимо игрового элемента, это магический атрибут при посвящении, наречении, гадании.
Легенда о рождении Темуджина — будущего Чингисхана актуализирует в «Сокровенном сказании монголов» ментальный компонент: „Явился он, сжимая в правой руке сгусток крови, величиной с альчик” [16, 24], т.е. готовым к игре в новом жизненном пространстве, определяя себе роль активного игрока с Судьбой и миром, где платой за победу станет кровь. Когда Темуджину было одиннадцать лет, он с Джамукой обменялся альчиками. При этом символично, что „тогда Джамука подарил Темуджину альчик, который ставят в круг. Темуджин подарил Джамуке альчик, который мечут. Тогда они, играя в альчики на льду Онана, стали впервые побратимами” [16, 61–62]: обряд побратимства делал их игроками на одном поле. Как-то во время кочевки Джамука задал Темуджину “загадку”, и тот обратился за помощью к своей матери. „Джамука-анда сказал: „Остановимся-ка вблизи горы! Пусть наши табунщики доберутся до наших альчиков! Остановимся-ка вблизи реки! Пусть чабаны и сакманщики доберутся до наших глоток!”. Я не смог понять его речь и ничего не ответил” [16, 63–64]. В опережающем ответе жены Темуджина, Борте-уджин, — попытка разгадки: „Говорят, что Джамука-анда часто скучает. Сейчас самое время, чтобы ему заскучать. Если подумать, то его слова можно понять так, что мы ему надоели. Давайте не будем останавливаться, ускорим движение и, оторвавшись от него, будем идти всю ночь!” [16, 64]. На первый взгляд, отказ от игрового времяпрепровождения уравнен состоянию скуки, равносильному бездействию, переходу из позиции игрока в позу наблюдателя. На самом деле, это иносказание, где гора — символ государства, табунщики — воины. Надо сказать, что альчики были собственностью (добычей) игрока, таким образом, речь идет о призыве Джамуки к созданию крепкого государства, когда табунщиками/чабанами/сакманщиками (народом) можно будет повелевать, как альчиками. Жена Темуджина предлагает мужу не делить власть с Джамукой (последняя интерпретация подсказана к.ф.н., переводчиком «Сказания…» П.А. Дарваевым).
При гадании с использованием альчика в зависимости от того, какой стороной упадет кость, можно было предсказать, скажем, исход битвы. Начальник, стоя на лошади, бросал альчик на барабан и гадал: если выпадало первое положение — победа, если второе — поражение, если третье — мир, если четвертое — мир в пользу врагов, если пятое (что редко бывало) — вечное рабство у врагов [18, 245].
В калмыцком эпосе «Джангар», в одной из глав которого моделируется социальный статус игрового соучастия, ролеопределение не зависит от социального положения принимаемого в игру — богатырь Хонгор в роли бедного мальчика. „Что ж, / Если мужчина хочет принять / Участие в пире или в игре, / То не отказывают ему, / Дружбу выказывают ему”, — говорит ханский сын [6, 72]. Игра в альчики дает возможность бедняку-победителю разбогатеть, таким образом, получить равный шанс в управлении своей Судьбой.
Хлебников в «Боге ХХ века» (1916) вслед за М. Горьким поет песнь безумству храбрых, пытающихся играть с Богом и Судьбой, чтобы влиять на историю, собственную и общечеловеческую. Но был глупец. Он захотел, / Как кость игральную, свой день / Провесть меж молний. После цел, / Сойти к друзьям. / ‹...› Он обнят дымом, как пожарище. / ‹...› Три дня висел как назидание / Он в вышине глубокой неба. / Где смельчака найти, чтоб дань его / Безумству снесть на землю, где бы? [20, I, 368]. У Мандельштама близкий образ — в стихах памяти А. Белого (1934), „великолепный стихотворный реквием и самому Андрею Белому, и ушедшей с ним эпохе, и утраченной, разрушенной культуре, — и, подспудно, самому себе” [1, I, 55]. „Как будто я повис на собственных ресницах, / И созревающий и тянущийся весь, — / Доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах / Единственное, что мы знаем днесь…” [11, I, 208]. Помимо кукольного игрового мотива в духе театра дель арте (ресницы-нити, Пьеро-игрушка, актер-манипулятор) здесь есть проекция позднего адресата поэта: повешенный поэт Ф. Вийон (вспомним «Поэты умирают в небесах…»). Безумец же Хлебникова — эманация альчика. У тюрко-монгольских народов альчики клали при рождении ребенка в колыбель, чтобы в будущем новорожденный хорошо играл в кости [7, 68], а также привязывали к ней в качестве оберега, с целью пожелания укрепления костяка [9, 94].
Характеризуя “короля времени”, О. Мандельштам увидел его особость в том, что
Так, Хлебников в стихотворении «Да, есть реченья князь и кнезь…» (1916) „превратил детскую калмыцкую игру в альчики или в овечьи бабки (‘шагалцан’ или ‘шага надылган’ по Житецкому), популярную также и среди русских детей, в “божественную” или космическую метафору: Я видел: мир, играя в альчики, / Дохнул на всех дыханьем Бога” [14, 313]. Если интерпретировать в игровом аспекте, то здесь мир (люди = человечество) уподоблен Богу (Богам), вступает в равноправные отношения с Ним, чтобы в будущем (будетляне), взяв осадой время и пространство, усвоить законы общежития в универсуме мироздания Вселенной.
Инвариант 1915–1916 гг.: Когда, поссорив руку с пальчиком, / Вы дым в себя вдохнули строго, / Казалось, мир, играя в альчики, / Прошел вблизи, как ветер бога (‹Три Веры›) [20, V, 152]. В стихотворении «Да, есть реченья князь и кнезь…» любовная игра (мужчина — женщина) мыслится как божественная игра в прямом и переносном смысле, когда женщина божественна (подобна Богу), давая новую жизнь влюбленному мужчине, а в перспективе — и новой жизни (младенцу). Мир женщины и мир мужчины — вблизи, но не рядом, потому что адресат любви не отвечает взаимностью (автобиографический затекст), отчужден (И вы курили строгим мальчиком), неясно, способен ли на любовь-предательство (Какой из двух потомков Бульбы? / Он, своевольный или старший?) [19, III, 518]. Историософский контекст игровой метафоры корреспондирует к половецкой телеге, набегам кочевников и бунту стрельцов, обыгрывая имя женщины Вера, понятие Вера как доверие, конфессиональное Вера. В этом ряду — и образ слезинок-чёток, акцентирующий молитвенный дискурс, в свою очередь, отсылающий к образу чёток-слов (И четками слова перебираю) в раннем стихотворении «Светучий глаз под бровью длинной…» ‹1907–1908› [19, III, 631]. А также образ битвы (А голос мужествен, как битва, у женщины и виновен у мужчины), когда любовная игра становится смертельной.
Сравним у Мандельштама: „Дети играют в бабки позвонками умерших животных. / Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу” («Нашедший подкову», 1923) [11, I, 147]. Согласно Л.Г. Пановой, играющие дети в поэтическом мире Мандельштама — предвестники большого трагического события в истории, параллели — «А в Угличе играют дети в бабки…» (1916) / „И в бабки нежная игра” («Грифельная ода», 1923) [13, 660]. У Хлебникова: альчики — игра — битва (мир взрослых), у Мандельштама: дети — бабки, отсюда „нежная игра” как указание на возраст игроков, контраст: мир детей — мир взрослых. „Позвонками умерших животных ‹...›” — контрастное совмещение детей и умерших животных задает идею нарушенного хода вещей, и, по мысли Л.Г. Пановой, позвонки также приближают читателя к историософскому пониманию времени Мандельштама, см. стихотворение «Век» (1922) [13, 660].
Г. Амелин и В. Мордерер сближают в параллели два стихотворения «Песнь смущенного» (1913) и «Ты же, чей разум стекал…» (1917, 1922).
Своя точка зрения на последний пример — у Р.В. Дуганова и Е.Р. Арензона: „Раздельно-единый образ стихотворения (я — ты), где мировое, бесконечное Я поэта благословляет его земное, конечное Я, стремящееся к воссоединению с бесконечным” [8, II, 505]. Среди автоинтертекстов Хлебникова, существенных для осознания идейно-эстетического смысла, В.П. Григорьев приводит пример с метафорой “в стакане черепа” в поэме «Синие оковы», близкой к известному (по стихотворению «Ты же, чей разум стекал…», 1917) сравнению черепа со стаканом, здесь не акцентированной [3, 54]. Можно интерпретировать первые строки Кто череп, рожденный отцом, / Буравчиком надменно продырявил ‹...› и как иллюстрацию пытки у кочевников, ввинчивавших альчик (калм. — шага) через висок в голову жертвы — кость в череп. См. в калмыцком народном эпосе «Джангар»: „Мучила воина, альчик вертя на виске, / Ханская знать, стараясь узнать, какова / Сила и хитрость Джангровых богатырей” [6, 90] — взлом вселенной личности. При всех редакциях стихотворения, вошедшего в поэму «Война в мышеловке», отчетлив мотив спокойствия, невозмутимости, надменности варварского действия. Ср. буравчиком надменно продырявил | буравчиком спокойно пробуравил | буравчиком спокойно продырявил [20, II, 22, 414, 420].
Гиперболизация метафоры достигнет своего апогея в странном сне в драматической поэме «Взлом вселенной» (1921). Молодой вождь — в духе планетарно-космической парадигмы искусства первой трети ХХ века — призывал к замку звезд прибить как воины свои щиты: Пробьем / Стены умного черепа вселенной, / Ворвемся бурно, как муравьи в гнилой пень, / С песней смерти к рычагам мозга [20, IV, 78]. И все это для того, чтобы с помощью напильника сделать из неба „говорящую куклу”: Ставь к правому виску. / Теперь уже не сорвется. / ‹...› Долота в дело! / ‹...› Сюда поставить буравы и сверла. / ‹...› К виску вселенной! / ‹...› Уже! Я встал на проломленный череп [20, IV, 79–80]. Герои прыгают вниз, точно веревкой обвязанные, и возвращаются через тысячи лет на Землю, спасая ее. В речи молодого вождя многозначительна отсылка: Товарищи! / Вы видите умный череп вселенной / И темные косы Млечного Пути, / Батыевой дорогой зовут их иногда [20, IV, 78]. Смысл драмы, по Р.В. Дуганову, заключается в том, что чистым усилием мысли можно воздействовать на Мировую Волю. Мыслью, персонифицированной в драме в образах Воинов, берущих приступом замок звезд — умный череп вселенной, можно выйти из себя и изменить судьбы мира [7, 139].
Любимый мотив игры наблюдаем в поэме «Синие оковы», в которой, по В.П. Григорьеву, игра пианистки вызвала у автора ассоциации с ладами народов, рояль с черной зеркальной доской отозвался намеком на «Доски судьбы» — синей доской и звездной доской неба. Игровыми компонентами становятся мотивы “погони за солнцем”, рыбной ловли и ворожбы. Однако, предостерегает исследователь, „подобными играми Друзья поэта и читатели (И мальчики!) еще недостаточно подготовлены к головокружительному предложению играть преступно в альчики, причем не больше и не меньше как этими вселенными” (курсив автора) [3, 56]. Друзья! И мальчики! / Давайте этими вселенными / Играть преступно в альчики [20, III, 375]. „Отдавая должное самоиронии поэта, но трезво оценивая свои шансы в этой Игре, адресаты обращений, конечно, пропустят мимо ушей его вопрос „Согласны?” и надежду на то, что кто-то принесет на кон собственные бабки и биток” (курсив автора) [3, 56]. Здесь один из контекстов сюжета — игра в альчики — игрушки как символ искушения. В другом контексте имеется в виду, возможно, один из видов калмыцкой игры (‘шагалцан’) — выбивание битой альчика, т.е. большой костью мелкой кости: малая вселенная (микрокосм — человек) пытается овладеть большой (ими) вселенной (ыми) (макрокосм). Обращение к разновозрастным, судя по всему, будущим участникам обусловлено тем, что в альчики играли люди разного возраста. Отсюда эмоционально-экспрессивная атмосфера азарта, риска, надежды, веры в успех, страха поражения, утраты. „Хлебников страстно желает схватить вещь в ее бытии, а не предметном представлении” [16, 103]. Как верно заметил В.Л. Скуратовский,
Несмотря на то, что „любая игра при всех ее катарсических эффектах, психологии свободы и разотчуждения — это также и жесткий набор четко определенных правил поведения” [15, 481], игра не исключает момента удачи, встречи с судьбой. Хлебниковская мифологема судьбы, рока — „поэтический псевдоним всей суммы мировой каузальности, мирового времени, именно подчиняющего себе человека, порабощающего его” [15, 482]. У Хлебникова „уникально по своему художественному напряжению ‹...› стремление овладеть судьбой, вызвать массовое и эффективное движение сопротивления “року”” [15, 482]. Игра в альчики, на наш взгляд, входит составным компонентом в эту сумму взаимоотношений.
| Персональная страница Риммы Ханиновой на ka2.ru | ||
| карта сайта | 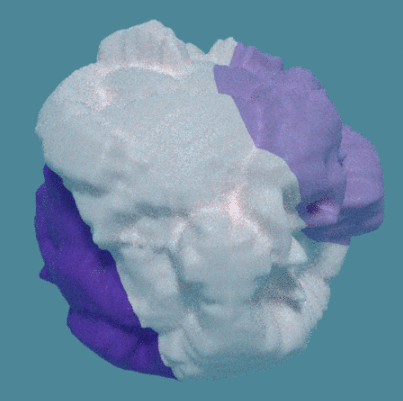 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||