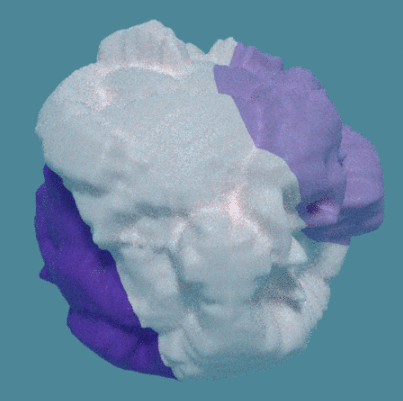Миливое Йованович
Некоторые проблемы поэтики жанров в поэзии Хлебникова,
его предшественников и его последователей
(“прощальные стихи”)
1
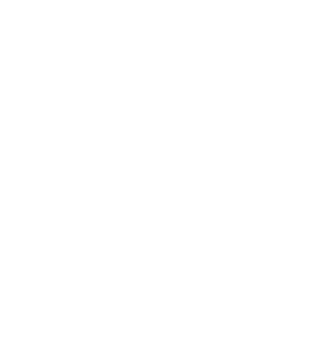
лебникова принято считать крупнейшим реформатором, нарушившим „традиционную соотнесённость жанров, вновь канонизованную символистами в начале XX века”.
1
Исходя из положения о Хлебникове — „новом зрении”, Ю. Тынянов провозгласил его единственным русским поэтом-эпиком современности, лирические, „малые вещи” которого суть только
внезапные, “бесконечные”, продолженные вдаль записки, наблюдения, которые войдут в эпос — или сами, или их родственники”.
2
Аналогичную мысль высказал Н. Степанов:
Поэзия Хлебникова в основном тяготеет к эпосу ‹...›. Хлебников обычно не раскрывает своего внутреннего мира, своих переживаний в лирических жанрах. Даже его небольшие стихотворения кажутся фрагментами какого-то незавершенного эпоса. Поэтому и в лирике Хлебникова нередко отсутствует лирический герой. Поэт стремится и охвату событий, эпох, народов, включаемых как бы во вневременное создание. Лирика Хлебникова чаще всего — это фрагменты, размышления, зарисовки природы, говорящие не столько о личности поэта, сколько о тех картинах и явлениях мира, которые отражаются в его создании.
3
Свой тезис Тынянов обосновывал двумя соображениями:
1. Хлебников создал „новую поэтическую систему”, в рамках которой произошло „огромное смещение традиций”, Слово о полку Игореве оказывалось „более современным, чем Брюсов”, а оды Ломоносова и Пушкина, то же Слово и хлебниковская Ночь перед Советами „не различались” как „традиции”;
2. его „поэтическое лицо” („инфантильное”, „детское”, „дикарское”) не поддавалось давлению биографии поэта.4
Н. Степанов следует Тынянову и здесь, ссылаясь попутно на ситуацию в древнегреческой лирике, не знавшей персонажа „себя самого” и приравнивавшей в качестве действующих лиц богов, героев, животных, растения и людей.5 На наш взглад, подобное мнение нуждается в некоторых поправках, связанных с обращенностью Хлебникова к определенным традициям русской философской лирики, а также с эволюцией его поэтического „я”, выделяющегося из эпического потока в особенности в последний период его творчества, который условно можно назвать „прощальным”.
На наш взглад, подобное мнение нуждается в некоторых поправках, связанных с обращенностью Хлебникова к определенным традициям русской философской лирики, а также с эволюцией его поэтического „я”, выделяющегося из эпического потока в особенности в последний период его творчества, который условно можно назвать „прощальным”.
2
Категория „прощальных” стихов пока что не выделена в литературоведческих работах и поэтому мало изучена, за исключением стихотворений, написанных по мотиву „памятника”. Ее фонд можно восстановить лишь с оглядкой на весь творческий путь отдельных поэтов, поскольку „прощальные” стихи не всегда относятся к самому последнему периоду жизни поэта. В творчестве Пушкина такими стихами следует считать те, которые возникли в ответ на Стихи, сочиненные ночью во время бессоницы и Пророка, т.е. на попытку разобраться в смысле метафоры жизни — „мышьей беготни” и своей поэтической миссии; это: Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит, ‹...› Вновь я посетил и, разумеется, Я памятник себе воздвиг нерукотворный. У Лермонтова, бесспорно исходившего из знания опыта и судьбы Пушкина, „прощальные” стихи создавались в ответ на „готовые” формулы Гляжу на будущность с боязнью и Думы, а также пушкинской концепции поэта-пророка (Не смейся над моей пророческой тоскою, Прощай, немытая Россия, Выхожу один я на дорогу, Пророк); Лермонтов, однако, не писал своего „памятника”, предложив читателям взамен горестные размышления о судьбе поэта-пророка перед „судом людским”: „пророческая речь”, истолкованная как „брань коварная” в стихотворении Журналист, читатель и писатель; „пророк” — „гордый глупец”, уверявший, что „бог гласит его устами”, в Пророке6 и парадоксальную мысль о настоящей жизни лишь после смерти (в Выхожу один я на дорогу). „Прощальный” характер приведенных выше стихотворений Пушкина и Лермонтова во многом был обусловлен их философским поиском „покоя” и „воли” („свободы”) в Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит и Выхожу один я на дорогу, свидетельствующим о зависимости их поэтического субъекта от внешнего мира, от его преследований и его оценки (суда). От оценки современников не удалось ускользнуть даже Некрасову, последние стихотворения которого (1876–1877 гг.) проникнуты не только мотивом „прощания”, но и „самооправдания”. У поэтов более позднего периода и иной ориентации данное противостояние постепенно исчезает (в блоковском стихотворении Пушкинскому Дому упоминание о „тайной свободе” представляет собою скорее всего дань уважения великому предшественнику и учителю в момент актуализации темы „поэт” и „толпа”), уступая дорогу широким философским обобщениям взаимосвязей человека и космоса, вследствие чего категория „прощальных” стихов либо отходит на задний план, либо трансформируется в более объективное переживание контакта с мирами иными. Так, например, Тютчев в стихотворении Две силы есть — две роковые силы,7
и парадоксальную мысль о настоящей жизни лишь после смерти (в Выхожу один я на дорогу). „Прощальный” характер приведенных выше стихотворений Пушкина и Лермонтова во многом был обусловлен их философским поиском „покоя” и „воли” („свободы”) в Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит и Выхожу один я на дорогу, свидетельствующим о зависимости их поэтического субъекта от внешнего мира, от его преследований и его оценки (суда). От оценки современников не удалось ускользнуть даже Некрасову, последние стихотворения которого (1876–1877 гг.) проникнуты не только мотивом „прощания”, но и „самооправдания”. У поэтов более позднего периода и иной ориентации данное противостояние постепенно исчезает (в блоковском стихотворении Пушкинскому Дому упоминание о „тайной свободе” представляет собою скорее всего дань уважения великому предшественнику и учителю в момент актуализации темы „поэт” и „толпа”), уступая дорогу широким философским обобщениям взаимосвязей человека и космоса, вследствие чего категория „прощальных” стихов либо отходит на задний план, либо трансформируется в более объективное переживание контакта с мирами иными. Так, например, Тютчев в стихотворении Две силы есть — две роковые силы,7 идя вслед за Пушкиным и Лермонтовым, отмечает феномен „Суда людского”, однако он у него показан как бы безличным и обобщенным, приравненным к феномену „Смерти”; собственно „прощальных” стихов у Тючева нет, как явствует, в часности, из стихотворения От жизни той, что бушевала здесь,8
идя вслед за Пушкиным и Лермонтовым, отмечает феномен „Суда людского”, однако он у него показан как бы безличным и обобщенным, приравненным к феномену „Смерти”; собственно „прощальных” стихов у Тючева нет, как явствует, в часности, из стихотворения От жизни той, что бушевала здесь,8 в котором выдвинута общая идея о „призрачном” существовании человека среди природы („И перед ней мы смутно сознаем / Себя самих — лишь грезою природы”) и „подвиге бесполезном” человечества перед „всепоглощающей и миротворной бездной”: общий характер „последних прозрений” в данном тексте подчеркивается и использоваием „мы” в роли героя стихотворения. Не знает указанной категории стихов и Фет, с юных лет ведавший тайну перехода „на лоно вечности” — „с улыбкой” (О нет, не стану звать утраченную радость);9
в котором выдвинута общая идея о „призрачном” существовании человека среди природы („И перед ней мы смутно сознаем / Себя самих — лишь грезою природы”) и „подвиге бесполезном” человечества перед „всепоглощающей и миротворной бездной”: общий характер „последних прозрений” в данном тексте подчеркивается и использоваием „мы” в роли героя стихотворения. Не знает указанной категории стихов и Фет, с юных лет ведавший тайну перехода „на лоно вечности” — „с улыбкой” (О нет, не стану звать утраченную радость);9 субъективная лирика этого поэта лишена реальных черт сношений с внешним миром, за исключением единичных стихотворений, в которых речь идет о его „защите” Музы („Заботливо храня твою свободу, / Непосвященных я к тебе не звал, / И рабскому их буйству я в угоду / Твоих речей не осквернял” — в Музе).10
субъективная лирика этого поэта лишена реальных черт сношений с внешним миром, за исключением единичных стихотворений, в которых речь идет о его „защите” Музы („Заботливо храня твою свободу, / Непосвященных я к тебе не звал, / И рабскому их буйству я в угоду / Твоих речей не осквернял” — в Музе).10 Начиная же с Баратынского, „прощальные” стихи и совсем сменяются сюжетами более или менее вольных передвижений поэтического субъекта из этого мира в страну „несрочной весны” (Запустение) и „созданной им” Леты (Князю Петру Андреевичу Вяземскому),11
Начиная же с Баратынского, „прощальные” стихи и совсем сменяются сюжетами более или менее вольных передвижений поэтического субъекта из этого мира в страну „несрочной весны” (Запустение) и „созданной им” Леты (Князю Петру Андреевичу Вяземскому),11 ведущими к утверждению „загробных” сюжетов Песен из Уголка Случевского, а также, в более позднюю эпоху, к таким стихотворениям Заболоцкого, как Прощание с друзьями.
ведущими к утверждению „загробных” сюжетов Песен из Уголка Случевского, а также, в более позднюю эпоху, к таким стихотворениям Заболоцкого, как Прощание с друзьями.
С другой стороны, „прощальные” стихи, как правило, отсутствуют также в поэзии символистов, наследовавших указанных выше поэтов, однако по принципиально иным причинам. Несмотря на то, что в процессе воссоздания сквозной истории поэтического субъекта Блока и Белого учитываются биографические реалии данных поэтов и таким образом допускается возможность наличия в их творчестве „прощальных” стихов, их по сути нет, ибо герои Блока и Белого даны в аспекте „сораспинания” с внешним миром (Россией) и не отделены от него; этим обстоятельством объясняется не только тяготение этих поэтов-символистов к эпическим полотнам, но и весьма сложная эволюция поэтического „я” Белого в антропософски понимаемое „мы” (во второй части цикла Стихи о России). В данном контексте поэзия Есенина есть не что иное, как срывание маски с лица лирического героя его учителей Блока и Белого; в итоге оказалось, что герою возвращена его истинная биография, что в ее рамках вновь стали возможными стихи „прощального” характера, и что эти стихи могли писаться даже в начальный период (Устал я жить в родном краю). В отличие от Есенина, „похождения” „мы” которого закончились в первой строфе Руси советской („нас мало уцелело”, „я вновь вернулся в край осиротелый”),12 борьба между лирическим и эпическим (и, следовательно, между „я” и „мы”) у Маяковского оставалась актуальной до конца жизни поэта, причем „мы” у него сохранялось даже в итоговых текстах по мотивам „памятника” (в Во весь голос) для обрисовски общественного плана, включая понимание самого „общего памятника”, тогда как „я” соотносилось с планом сугубо интимным (посмертный раздел „Неоконченное”), а также с планом поэтической миссии (Во весь голос).
борьба между лирическим и эпическим (и, следовательно, между „я” и „мы”) у Маяковского оставалась актуальной до конца жизни поэта, причем „мы” у него сохранялось даже в итоговых текстах по мотивам „памятника” (в Во весь голос) для обрисовски общественного плана, включая понимание самого „общего памятника”, тогда как „я” соотносилось с планом сугубо интимным (посмертный раздел „Неоконченное”), а также с планом поэтической миссии (Во весь голос).
На „прощальные” стихи Есенина и Маяковского наложена печать полемичности, вызванная превратностями эпохи; эта печать воскрешала в памяти конфликты поэзии Пушкина и Лермонтова и их судьбы. Вслед за Есениным, „самозащищающимся” в своих „прощальных” стихах, пошел Гумилев в Моих читателях, Маяковскому же, „судившему” эпоху, следовали Мандельштам и Ахматова. В силу его особой биографии, поэзия Мандельштама приобретала почти сплошной „прощальный” характер, вплоть до загодочного стихотворения — „суда” над эпохой Да, я лежу в земле, губами шевеля. У Ахматовой в данном отношении „прощальные” грани выявляются в двух временных разрезах, — к концу периода, в котором закончен Реквием, и на всем протяжении периода, в котором создавалась Поэма без героя. В этих двух поэмах Ахматова вершит суд над прошлым и настоящим России, отправляясь при этом от подтекстуальных связей с великими предшественниками Еврипидом и Шекспиром и с ее современником Булгаковым; наряду с этим поэтесса прибегает также к полемике с соответствующей русской традицией, воплощенной в творчестве Лермонтова, Некрасова и Блока. Особняком в этом ряду стоит Пастернак, „прощальные” стихи которого (стихотворения Юрия Живаго в знаменитом романе) являют собою глобальную хвалу жизни как таковой, в то время как их лирический герой приравнивается к образам Гамлета – Христа, от имени которого и совершается суд над человеческой историей.
3
В этом ряду „прощальные” стихи Хлебникова, возникшие в результате его обострившегося в последний период конфликта с миром „вы” (воплощающим людей места и пространства, которым непонятны речи поэта и их таинственные смыслы,13 т.е. носителей идеи всемирного мещанства и начал государственности), занимают особое место. Прежняя будетлянская установка на видоизмененного Заратустру и его „оптимистическую” проповедь чистых законов времени, обладающую эпическим размахом, в этих текстах постепенно оборачивается воспроизведением пессимистической ситуации лирического героя лермонтовского Пророка, пришедшего в мир под знамением пророка пушкинского; вместе с тем хлебниковский вариант вершения суда над современниками, резко отличающийся от аналогичных попыток Маяковского и Пастернака, предполагает также принципиальную полемику с „прощальными” стихами Некрасова.
т.е. носителей идеи всемирного мещанства и начал государственности), занимают особое место. Прежняя будетлянская установка на видоизмененного Заратустру и его „оптимистическую” проповедь чистых законов времени, обладающую эпическим размахом, в этих текстах постепенно оборачивается воспроизведением пессимистической ситуации лирического героя лермонтовского Пророка, пришедшего в мир под знамением пророка пушкинского; вместе с тем хлебниковский вариант вершения суда над современниками, резко отличающийся от аналогичных попыток Маяковского и Пастернака, предполагает также принципиальную полемику с „прощальными” стихами Некрасова.
В данном контексте указанным стихам предшествуют три стихотворения Хлебникова, являющиеся своеобразной оглядкой поэта на его заслуги перед Россией и человечеством (народом, людьми) — Я и Россия, Я видел юношу пророка и Я вышел юношей один. В Я и Россия проведено сопоставление между свободой, которую Россия дала тысячам тысяч, и „свободой”, которую дарил народам сам поэт (я-государство), снявший свою рубаху и вывесивший каждой скважиной своего тела ковры и кумачевые ткани (3, 304). К этому жесту крайнего альтруизма в стихотворении Я видел юношу пророка присоединяется „противо-Разинская” греза об очеловечении волны (3, 305). Идея полной самоотдачи достигает кульминации в последнем тексте из данного ряда, в котором Хлебников варьирует мотив пути и и судьбы из лермонтовского стихотворения Выхожу один я на дорогу. В отличие от лирического героя Лермонтова, преодолевающего чувство разобщенности с космосом в мысли о настоящей индивидуальной после смерти, хлебниковский герой, также „хотевший” друзей и себя, жертвует собою подобно горьковскому Данко (Горело Хлебникова поле, / И огненное я пылало в темноте), и из его „я” возникает сплоченное „мы” (кстати, не имеющее ничего общего с антропософским „мы” Белого), несущее по-новому (по отношению к пушкинским) понимаемые закон и честь (3, 306). Поэт, разумеется, при этом имел в виду собирательный, коллективный характер своих открытий и своих стихов, этим открытиям посвященных, чем ситуация Хлебникова четко определялась как общеромантическая и трагическая.
Среди собственно „прощальных” стихов Хлебникова особенно выделяются стихотворения Одинокий лицедей, Не чортиком масленичным, Что делать вам, Русские десять лет меня побивали каменьями, Еще раз, еще раз и сверхповесть Зангези. Эти стихи-„предостережения” по сути являются итогом разработки противостояния „я” – „вы” („они”) с оглядкой на альтруистическое описание „я” в названном выше „триптихе”.
В Одиноком лицедее оппозиция „я” – „толпа” рассматривается на мифологическим уровне и в контексте поэтических явлений Ахматовой и Пушкина. „Я” выступает одновременно в ролях Тезея, разматывающего моток волшебницы Ахматовой-Ариадны, и лирического субъекта пушкинского Пророка (строчка Как сонный труп влачился по пустыне контаминирует пушкинское „В пустыне мрачной я влачился” и „Как труп, в пустыне я лежал”),14 причем горестный выход относительно злосчастного странничества героя Хлебникова, выявляемый в окончательных строках (И с ужасом / Я понял, что я никем не видим: / Что нужно сеять очи, / Что должен сеятель идти! — 3, 307), отсылает как к мифологическим источникам (на этот раз к мифам о Девкалионе и Кадме),15
причем горестный выход относительно злосчастного странничества героя Хлебникова, выявляемый в окончательных строках (И с ужасом / Я понял, что я никем не видим: / Что нужно сеять очи, / Что должен сеятель идти! — 3, 307), отсылает как к мифологическим источникам (на этот раз к мифам о Девкалионе и Кадме),15 так и к некрасовскому положению о „сеятеле знанья”16
так и к некрасовскому положению о „сеятеле знанья”16 воспринимаемому полемически. С другой стороны, в сюжете этого стихотворения искусно проведена контаминация мотивов Пророков Пушкина и Лермонтова в целом. Исходная ситуация пушкинского „восставшего из гроба” и „глаголом жгущего сердца людей”17
воспринимаемому полемически. С другой стороны, в сюжете этого стихотворения искусно проведена контаминация мотивов Пророков Пушкина и Лермонтова в целом. Исходная ситуация пушкинского „восставшего из гроба” и „глаголом жгущего сердца людей”17 пророка запечатлена в строках Нет я из братского гроба ‹...› / Руку свою подымая / Сказать про опасность (3, 311). Остальная же часть сюжета развивает мотивы Лермонтова (оппозиция „злобных” и „порочных” людей и „нищего”, живущего „в пустыне” пророка, уверяющего, что „звезды слушают его” и что „бог гласит его устами”).18
пророка запечатлена в строках Нет я из братского гроба ‹...› / Руку свою подымая / Сказать про опасность (3, 311). Остальная же часть сюжета развивает мотивы Лермонтова (оппозиция „злобных” и „порочных” людей и „нищего”, живущего „в пустыне” пророка, уверяющего, что „звезды слушают его” и что „бог гласит его устами”).18 Хлебников тем не менее заканчивает стихотворение не голосом „толпы” (подобно Лермонтову), в афористическим высказыванием поэта: Я одиноким врачом / В доме сумасшедших / Нес свои песни-лекаря (3, 312), возвышающимся над эмпирическими воззрениями „толпы”. Мотив одинокого, непонятного пророка проходит красной нитью, поэтическое „я” показано воином, пророчествующим учителя и ученика, художником, творчество которого быт обокрал, Моцартом, окруженным сотней Сальери, извечным мстителем за гибель Разина в среде людей, привыкших видеть жизнь под дающими паек углами и не способных заметить гибельную символику „тройки” (старого три), преломленную через гибель поэтических творений (Вы видели, как сгоревшие страницы рукописи / Становятся сгоревшими селами? — 5, 114, 116, 117).
Хлебников тем не менее заканчивает стихотворение не голосом „толпы” (подобно Лермонтову), в афористическим высказыванием поэта: Я одиноким врачом / В доме сумасшедших / Нес свои песни-лекаря (3, 312), возвышающимся над эмпирическими воззрениями „толпы”. Мотив одинокого, непонятного пророка проходит красной нитью, поэтическое „я” показано воином, пророчествующим учителя и ученика, художником, творчество которого быт обокрал, Моцартом, окруженным сотней Сальери, извечным мстителем за гибель Разина в среде людей, привыкших видеть жизнь под дающими паек углами и не способных заметить гибельную символику „тройки” (старого три), преломленную через гибель поэтических творений (Вы видели, как сгоревшие страницы рукописи / Становятся сгоревшими селами? — 5, 114, 116, 117).
В прозаическом отрывке Издатели, желающие меня обмануть Хлебников прямо развертывает лермонтовский мотив смерти поэта, трактуя его полемически: поэт обманут „братьями”, которые собираются потом поднять вой над его гробом (5, 274). Мотив этот разработан наиболее полно и эффектно в стихотворении Еще раз, еще раз и в его варианте Русские десять лет меня побивали каменьями. Гибель поэта-пророка оборачивается возмездием тем, кто его убил, чем варьируется мысль, венчающая лермонтовскую Смерть поэта; суть возмездия также в том, что поэт-пророк неуничтожим. В варианте, исходная ситуация которого снова отсылает к лермонтовскому Пророку,19 а в полемическом разрезе и к Некрасову,20
а в полемическом разрезе и к Некрасову,20 воспроизведен весь процесс возмездия: избитый каменьями пророк „встает” как призрак из пены, изливая прямо звездный ужас на своих врагов; он — „звезда”, которой они не внимали; поэтому их настигает кара, согласно законам „Досок Судьбы” (звезда ставит гибельную „тройку” — двойку бури и кол подводного камня — врагам-„морякам”); они направляют паруса на подводные камни и сами летят разбитые всем судном могучим (5, 109, 110). Вместе с тем поэт предостерегает своих врагов („вы”) от гибельного шага, рекомендуя им бояться быть злыми к нему, неподвижному, но вечному свету путеводной звезды (5, 110). В окончательной версии ситуация „избиения каменьями” снимается за счет усиления „пророческой” интонации обращения (горе моряку, горе и вам), в котором отождествляются судьбы моряков, взявших неверный угол своей ладьи и звезды, и врагов поэта („вы”), взявших неверный угол сердца ко мне. Помимо этого, взамен отвергнутых библейских „каменьев” в стихотворении Еще раз, еще раз более четко реализована антропоморфизация образа „подводных камней” которыми и будет совершаться суд — возмездие на метафорическом уровне (И камни будут надсмехаться / Над вами, / Как вы надсмехались / Надо мной — 3, 314). Таким образом Хлебников попутно завершил разработку одного ка своих основополагающих символов — символа волны: в стихотворении Я видел юношу пророка „противо-Разин” волну очеловечил (сделав ее русалкой — 3, 305), в Еще раз, еще раз, по-разински мстя за обиды, он нагнал волну на своих врагов и ею уничтожил их. Вместе с тем им здесь закончена и история мотива звезды. Если у Лермонтова идея разобщенности человека и космоса, человека и человека поверялась знаменитой строчкой „И звезда с звездою говорит”21
воспроизведен весь процесс возмездия: избитый каменьями пророк „встает” как призрак из пены, изливая прямо звездный ужас на своих врагов; он — „звезда”, которой они не внимали; поэтому их настигает кара, согласно законам „Досок Судьбы” (звезда ставит гибельную „тройку” — двойку бури и кол подводного камня — врагам-„морякам”); они направляют паруса на подводные камни и сами летят разбитые всем судном могучим (5, 109, 110). Вместе с тем поэт предостерегает своих врагов („вы”) от гибельного шага, рекомендуя им бояться быть злыми к нему, неподвижному, но вечному свету путеводной звезды (5, 110). В окончательной версии ситуация „избиения каменьями” снимается за счет усиления „пророческой” интонации обращения (горе моряку, горе и вам), в котором отождествляются судьбы моряков, взявших неверный угол своей ладьи и звезды, и врагов поэта („вы”), взявших неверный угол сердца ко мне. Помимо этого, взамен отвергнутых библейских „каменьев” в стихотворении Еще раз, еще раз более четко реализована антропоморфизация образа „подводных камней” которыми и будет совершаться суд — возмездие на метафорическом уровне (И камни будут надсмехаться / Над вами, / Как вы надсмехались / Надо мной — 3, 314). Таким образом Хлебников попутно завершил разработку одного ка своих основополагающих символов — символа волны: в стихотворении Я видел юношу пророка „противо-Разин” волну очеловечил (сделав ее русалкой — 3, 305), в Еще раз, еще раз, по-разински мстя за обиды, он нагнал волну на своих врагов и ею уничтожил их. Вместе с тем им здесь закончена и история мотива звезды. Если у Лермонтова идея разобщенности человека и космоса, человека и человека поверялась знаменитой строчкой „И звезда с звездою говорит”21 (вызвавшей, кстати, не менее известный ответ Мандельштама: „И ни одна звезда”22
(вызвавшей, кстати, не менее известный ответ Мандельштама: „И ни одна звезда”22 ) с космическим бытием, благодаря которой „разговор со звездами” стал вполне возможным („А как звезды в ночи задрожат, / Я всю ночь им рассказывать рад”23
) с космическим бытием, благодаря которой „разговор со звездами” стал вполне возможным („А как звезды в ночи задрожат, / Я всю ночь им рассказывать рад”23 ), а у символиста Иванова и его предшественников в этом направлении (а также в ломоносовско-дантовском ключе) велись поиски „путеводной („кормчей”) звезды”, то поэт у Хлебникова сам стал звездою, приобщившись к бессмертному сонму античных героев.
), а у символиста Иванова и его предшественников в этом направлении (а также в ломоносовско-дантовском ключе) велись поиски „путеводной („кормчей”) звезды”, то поэт у Хлебникова сам стал звездою, приобщившись к бессмертному сонму античных героев.
Круг этих „прощальных” раздумий, равно как и всего поэтического творчества Хлебникова, замыкается в сверхповести — рекапитуляции Зангези, которую Ю. Тынянов, назвав ее „романтической драмой” почему-то счел возможным причислить к юношеским вещам поэта.24 Сверхповесть Хлебникова, в которой мир поэта („я”, „он”) и мир эмпирических современников („вы”, „они”) поставлены лицом к лицу в последний раз, задумана как „объективный” отчет о пути, пройденном поэтом-мыслителем, как синтез его якобы безумных речей,25
Сверхповесть Хлебникова, в которой мир поэта („я”, „он”) и мир эмпирических современников („вы”, „они”) поставлены лицом к лицу в последний раз, задумана как „объективный” отчет о пути, пройденном поэтом-мыслителем, как синтез его якобы безумных речей,25 не дошедших, к сожалению, до тех, кому они предназначались. Со своего моста-площадки26
не дошедших, к сожалению, до тех, кому они предназначались. Со своего моста-площадки26 в горах и с площади города герой Зангези обращается с проповедью к людям или лесу, повествуя об основном законе времени и Досках Судьбы, о звездном языке, о своем назначении и назначении человечества и всего космоса вплоть до богов, „обреченных” к воле; Зангези уверен в том, что его речи снимают с его слушателей оковы слов, что звездный язык объединит некогда, может быть скоро все живое и неживое, что рок можно победить вечными числами: они стучатся оттуда / Призывом на родину, число зовут к числам вернуться (3, 318, 333, 332, 324). В обращениях героя слышны разные интонации, характеризующие хлебниковские „пророчества” в прошлом и настоящем: он и воин, и победитель солнц, и безумствующий певец, разобравший часы человечества (3, 359, 358, 343, 355), однако и, вслед за героем Маяковского, такой же простой и земной, к тому же одинокий (3, 358, 343). Недаром Зангези называет себя несколько сниженно бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни и бьющейся устало в окно человека (3, 324); герою как бы заранее известен эффект его проповеди и его личный удел, поэтому его автохарактеристика: Я ведь умею шагать / Взад и вперед / По столетьям (3, 359) отдает уверенностью в собственной правоте, несмотря на временное поражение в единоборстве с современниками. Они же, современники, принимают его за лесного дурака, „чудака” и „божественно врущего” учителя, для которого люди суть лишь плевательницей для плевков его учения (3, 321, 332, 322);27
в горах и с площади города герой Зангези обращается с проповедью к людям или лесу, повествуя об основном законе времени и Досках Судьбы, о звездном языке, о своем назначении и назначении человечества и всего космоса вплоть до богов, „обреченных” к воле; Зангези уверен в том, что его речи снимают с его слушателей оковы слов, что звездный язык объединит некогда, может быть скоро все живое и неживое, что рок можно победить вечными числами: они стучатся оттуда / Призывом на родину, число зовут к числам вернуться (3, 318, 333, 332, 324). В обращениях героя слышны разные интонации, характеризующие хлебниковские „пророчества” в прошлом и настоящем: он и воин, и победитель солнц, и безумствующий певец, разобравший часы человечества (3, 359, 358, 343, 355), однако и, вслед за героем Маяковского, такой же простой и земной, к тому же одинокий (3, 358, 343). Недаром Зангези называет себя несколько сниженно бабочкой, залетевшей в комнату человеческой жизни и бьющейся устало в окно человека (3, 324); герою как бы заранее известен эффект его проповеди и его личный удел, поэтому его автохарактеристика: Я ведь умею шагать / Взад и вперед / По столетьям (3, 359) отдает уверенностью в собственной правоте, несмотря на временное поражение в единоборстве с современниками. Они же, современники, принимают его за лесного дурака, „чудака” и „божественно врущего” учителя, для которого люди суть лишь плевательницей для плевков его учения (3, 321, 332, 322);27 по их разумению, его проповеди являются не чем иным, как настоящим сырьем, его песни лишены дара, Зангези оставляет их равнодушными и они даже требуют поджечь его (3, 329, 345). Для плоского, эмпирического ума „толпы” характерно бытовое самоограничение, — им нужны не проповеди победителя над временем и роком, а что что-нибудь земное, веселенькое вроде комаринской (3, 342). Наряду с этим они считают себя мужчинами, не принимающими заячьих речей героя; им и невдомек, что их же замечание: Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой (3, 345) для Зангези-Хлебникова были источником единственного утешения, ибо животные понимали того, кого люди понимать на захотели. В концовке сверхповести Хлебниковым обыгрывается известный мотив гибели-воскресения героя; слухи о том, что Зангези зарезался бритвой — из-за уничтожения его рукописей злостными / Негодяями с большим подбородком / И шлепающей и чавкающей парой губ оказались неумной шуткой, поскольку Зангези жив (3, 368), — разумеется, в сфере, недоступной обитателям бытовой плоскости. В отличие от „прощальных” сочинений последнего периода, в Зангези не получил прямого развития мотив „возмездия”. Возможно, что на подобную концепцию возымела действие концепция „вечно возращаюего” Заратустры, а также лермонтовского Пророка, довольствовавшегося показом противоположных голосов, мировозрений, судеб одиночки и толпы.
по их разумению, его проповеди являются не чем иным, как настоящим сырьем, его песни лишены дара, Зангези оставляет их равнодушными и они даже требуют поджечь его (3, 329, 345). Для плоского, эмпирического ума „толпы” характерно бытовое самоограничение, — им нужны не проповеди победителя над временем и роком, а что что-нибудь земное, веселенькое вроде комаринской (3, 342). Наряду с этим они считают себя мужчинами, не принимающими заячьих речей героя; им и невдомек, что их же замечание: Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой (3, 345) для Зангези-Хлебникова были источником единственного утешения, ибо животные понимали того, кого люди понимать на захотели. В концовке сверхповести Хлебниковым обыгрывается известный мотив гибели-воскресения героя; слухи о том, что Зангези зарезался бритвой — из-за уничтожения его рукописей злостными / Негодяями с большим подбородком / И шлепающей и чавкающей парой губ оказались неумной шуткой, поскольку Зангези жив (3, 368), — разумеется, в сфере, недоступной обитателям бытовой плоскости. В отличие от „прощальных” сочинений последнего периода, в Зангези не получил прямого развития мотив „возмездия”. Возможно, что на подобную концепцию возымела действие концепция „вечно возращаюего” Заратустры, а также лермонтовского Пророка, довольствовавшегося показом противоположных голосов, мировозрений, судеб одиночки и толпы.
4
В творениях Хлебникова категория „прощальных” стихов приобрела законченную, совершенную форму, венчая частную утопию поэта – „звезды”, уводившую его от эпической утопии к социальной. Подобная формула не имела продолжения в русской поэзии более позднего времени, даже у ближайших последователей Хлебникова — обериутов. Обериуты переняли некоторые очертания хлебниковской утопии (в первую очередь его установку на абсурдные коммуникативные и ассоциативные связи), однако они не отвергли (за исключением Введенского) бытовой почвы, лишь метафоризуя ее; к тому же их поэтический субъект оставался довольно непроясненным, невыделенным из круга персонажей, уподобляться которым был его удел. Так, у Хармса, например, категория „прощальных” стихов, в чистом виде совершенно отсутствующая в его творчестве, просматривается в ряде стихотворений на тему „смерти героя” (Падение с моста, Конец героя, На смерть Казимира Малевича и др.), причем в последнем тексте из этого ряда Из дома вышел человек, герой которого подан объективированным (в третьем лице), горестная его судьба (уход из „дома” в „темный лес”),28 хотя и построенная по хлебниковскому образцу из Я видел юношу пророка и Зангези, подлежит обыгрыванию: Зангези не умер, а продолжал жить в иных измерениях, герой Хармса умер окончательно, и его „воскресение” возможно лишь в плане сказочного сюжета, предзначенного для читателей детского возраста.29
хотя и построенная по хлебниковскому образцу из Я видел юношу пророка и Зангези, подлежит обыгрыванию: Зангези не умер, а продолжал жить в иных измерениях, герой Хармса умер окончательно, и его „воскресение” возможно лишь в плане сказочного сюжета, предзначенного для читателей детского возраста.29 Мир „темного леса” — метафоры „смерти” в свою очередь весьма напоминает „ту страну”, лишенную „готовых форм”, из стихотворения Заболоцкого Прощание с друзьями;30
Мир „темного леса” — метафоры „смерти” в свою очередь весьма напоминает „ту страну”, лишенную „готовых форм”, из стихотворения Заболоцкого Прощание с друзьями;30 и вместе с тем ей противопоставленный круг „наверху оставленного брата”, которому „еще не место в тех краях”,31
и вместе с тем ей противопоставленный круг „наверху оставленного брата”, которому „еще не место в тех краях”,31 четко связан с миром разных героев Хармса, все еще живущих и ходящих под масками, за которыми скрывается лицо озабоченного поэта. По этой причине и творчество Заболоцкого не знает категории „прощальных” стихов (невзирая, например, на то, что в нем известна категория „последней любви”); у автора Прощание с друзьями, в отличие от его учителя Хлебникова, не было внутренней убежденности в том, что он исполняет особую миссию (недаром в его Старой сказке, косвенно отдающей „прощальными” тонами, сказано о „неясной роли” поэта „в этом мире”).32
четко связан с миром разных героев Хармса, все еще живущих и ходящих под масками, за которыми скрывается лицо озабоченного поэта. По этой причине и творчество Заболоцкого не знает категории „прощальных” стихов (невзирая, например, на то, что в нем известна категория „последней любви”); у автора Прощание с друзьями, в отличие от его учителя Хлебникова, не было внутренней убежденности в том, что он исполняет особую миссию (недаром в его Старой сказке, косвенно отдающей „прощальными” тонами, сказано о „неясной роли” поэта „в этом мире”).32 Тем более она, эта категория, не наблюдается в поэтическом творчестве других учеников Хлебникова, в частности, Мартынова, образ „Лукоморья” которого (вместе с его героем — хлебниковским „прохожим”) исчез уже в ранний период без всякого „прощания” с миром, в котором воцарился поэтический субъект совсем иного, „реалистического” типа.
Тем более она, эта категория, не наблюдается в поэтическом творчестве других учеников Хлебникова, в частности, Мартынова, образ „Лукоморья” которого (вместе с его героем — хлебниковским „прохожим”) исчез уже в ранний период без всякого „прощания” с миром, в котором воцарился поэтический субъект совсем иного, „реалистического” типа.
Единственным исключением в данном отношении представляется поэзия Введенского, попытавшегося не только уточнить обстоятельства и смысл „прощального” жеста героев Хармса,33 но и описать мир „бессмыслицы”, из которого приходится уйти хлебниковоподобным поэтам-мыслителям. Связь Введенского с Хлебниковым разнообразна, в основном сконцентрирована вокруг концепции его смешанных жанров; эти жанры, в которых пародируются „отжившие” установки и идеи, задуманы как неповторимый в русской поэзии полилог о неэмпирическом времени с преднамерено затуманенными точками зрения действующих лиц и самого автора (скрывающего свое лицо за „ремарками”) и замаскированной идеей о невозможности истинной коммуникации в мире разложившегося эпоса. В „прощальных” текстах Элегия и Где. Когда Введенским предлагается новый по отношению к Хлебникову уровень разговора о времени и пространстве „мира” и „поэта” в „последнюю минуту”, в канун итогов, как бы окончательных для всей русской поэзии. Вследствие этого данные стихи (также по хлебниковскому образцу) в высшей степени насыщены реминисценциями (от Пушкина и Лермонтова до Хармса) и автореминисценциями, являясь некоим собирательным отчетом о глобальном времени умирания, включая время апокалипсической „второй смерти” в цикле Некоторое количество разговоров.
но и описать мир „бессмыслицы”, из которого приходится уйти хлебниковоподобным поэтам-мыслителям. Связь Введенского с Хлебниковым разнообразна, в основном сконцентрирована вокруг концепции его смешанных жанров; эти жанры, в которых пародируются „отжившие” установки и идеи, задуманы как неповторимый в русской поэзии полилог о неэмпирическом времени с преднамерено затуманенными точками зрения действующих лиц и самого автора (скрывающего свое лицо за „ремарками”) и замаскированной идеей о невозможности истинной коммуникации в мире разложившегося эпоса. В „прощальных” текстах Элегия и Где. Когда Введенским предлагается новый по отношению к Хлебникову уровень разговора о времени и пространстве „мира” и „поэта” в „последнюю минуту”, в канун итогов, как бы окончательных для всей русской поэзии. Вследствие этого данные стихи (также по хлебниковскому образцу) в высшей степени насыщены реминисценциями (от Пушкина и Лермонтова до Хармса) и автореминисценциями, являясь некоим собирательным отчетом о глобальном времени умирания, включая время апокалипсической „второй смерти” в цикле Некоторое количество разговоров.
После экспериментов Введенского русской поэзии дальше идти было некуда, ибо поэт-обериут попрощался со всем и всеми от имени всех поэтов, попутно пародируя „прощальные” установки ряда предшественников. Русским поэтам после Введенского остался один только выход: вернуться к опыту Есенина, чем они и воспользовались (Рубцов). Однако это было лишь повторением известного, свидетельствуюшее о том, что история „прощальных” стихов в русском поэтическом творчестве исчерпала себя.
———————
Примечания 1 Степанов Н.
1 Степанов Н. Велимир Хлебников. Жизнь и творчество.
Москва, 1975, 261.
 2 Тынянов Ю.
2 Тынянов Ю. О Хлебникове //
Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Статьи.
Москва, 1965, 290.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 3 Степанов Н.
3 Степанов Н.. Указ. соч., 232.
 4 Тынянов Ю.
4 Тынянов Ю., Указ. соч., 295, 289, 298–299.
 5 Степанов Н.
5 Степанов Н., Указ. соч., 233.
 6 Лермонтов М.
6 Лермонтов М. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1.
Москва, 1969, 310, 344.
 7 Тютчев Ф.
7 Тютчев Ф. Лирика. 1.
Москва. 1966, 218.
 8
8 Там же, 225.
 9 Фет А.
9 Фет А. Стихотворения.
Ленинград. 1956, 16.
 10
10 Там же, 221.
 11 Баратынский Е.
11 Баратынский Е. Стихотворения и поэмы.
Петрозаводск. 1979, 127, 130.
 12 Есенин С.
12 Есенин С. Собрание сочинений. Том второй.
Москва. 1961, 168.
 13 Хлебников В.
13 Хлебников В. Собрание сочинений. Том 5.
Ленинград. 1933, 104, 103 (далее по этому изданию с указанием тома и страницы).
 14 Пушкин А.
14 Пушкин А. Собрание сочинений в шести томах. Том 1.
Москва. 1969, 257, 258.
 15
15 Имеются в виду бросания через голову Девкалионом и Пиррой „костей праматери” („камней”) для „возрождения” человеческого рода после потопа, а такхе сеяние поля зубами убитого Кадмом чудовища, из которых выросли вооруженные люди — „спарты”. Подробнее об этом в:
Ripellino A.M.: Poesie di Chlebnikov.
Torino. 1968, 247–248.
 16
16 См. Стихотворение Некрасова
Сеятелям (
Некрасов Н. Избранные произведения. Том первый.
Москва. 1966, 511).
 17 Пушкин А.
17 Пушкин А. Указ. соч., 258.
 18 Лермонтов М.
18 Лермонтов М. Указ. соч., 344. — Ср. особенно строку:
За то что напомил про звезды, а также стихи:
Не раз вы оставляли меня /
И уносили мое платье, /
Когда я переплывал проливы песни /
И хохотали, что я гол — (3, 311), перекликающиеся с лермонтовской концовкой: „Смотрите ж, дети, на него: / Как он угрюм, и худ, и бледен! / Смотрите, как он наг и беден,/ Как презирают все его!” (Там же).
 19
19 Ср. У Лермонтова: „В меня все ближние мои / Бросали бешено каменья” (
Лермонтов М.: Указ. соч., 344) с началом хлебниковского текста:
Русские десять лет меня побивали каменьями (5, 109).
 20
20 Ср. У Некрасова (в Приговоре): „Камень в сердце русское бросая,/ Так о нас весь Запад говорит” (
Некрасов Н.: Указ. соч., 514). — Подобно Некрасову, Хлебников был „поэтом Волги”, эпическим живописцем России; рядом своих эпических поэм Хлебников несомненно обязан автору
Кому на Руси жить хорошо. Тем не менее, „прощальные” стихи Некрасова стали объектом хлебниковского полемического задора, даже пародии. Всем своим поздним творчеством Хлебников отталкивается от некрасовской концепции „самооправдания” („Я настолько же чуждым народу / Умираю, как жить начинал” в „Скоро стану добычею тленья”), от смысла его обращений к Музе (противостоящих замыслу пушкинского Пророка), от его оппозиции „я” („поэт”) — „вы” („читатели”); в данной связи можно сказать, что весь Хлебников являлся полемической отповедью на некрасовское пятистишие: „Спрашивал я людей, / В жизни, в природе отчизны моей, / В книгах холодных, / В стонах народных / — Тщетно искал я ответа...” (
Некрасов Н., Указ. соч., 504, 502, 518, 548).
 21 Лермонтов М.
21 Лермонтов М. Указ. соч., 342.
 22 Мандельштам О.
22 Мандельштам О. Концерт на вокзале //
Мандельштам О. Стихотворения.
Ленинград. 1973, 125.
 23
23 Фет А., Указ. соч., 106.
 24 Тынянов Ю.
24 Тынянов Ю. Указ. соч., 288, 291.
 25 Григорьев В.
25 Григорьев В. Грамматика идиостиля. В. Хлебников.
Москва, 1983, 151.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru
 26
26 Подобный „взгляд с высоты” характерен также для Ахматовой (Поэма без героя) и Булгакова (Мастер и Маргарита), т.е. для художников, вершащих суд над эпохой.
 27
27 См. Также хроническия каламбур: Зангези, по их мнению, не
бабочка, а
баба (3, 324).
 28 Хармс Д.
28 Хармс Д. Избранное.
Wurzburg. 1974, 263.
 29
29 Там же.
 30 Заболоцкий Н.
30 Заболоцкий Н. Стихотворения и поэмы.
Москва. 1981, 258.
 31
31 Там же.
 32
32 Там же, 255.
 33
33 Для Хармса путь по дороге к смерти, а также „мир иной” нарочно затемнены, что подчеркивается наличием соответствующих апостроф в стихотворениях
Олейникову („И где твой смертный столб?”) и
На смерть Казимира Малевича („Где твой стол?”, „Где подруга твоя?”) — Хармс, Д., Указ. соч., 253, 254). Введенский по сути отгадывает эту „загадку” Хармса, рисуя попутно передвижение поэтического субъекта через мир небытия.
Воспроизведено по:
М. Йованович. Избранные труды по поэтике русской литературы.
Издательство филологического факультета в Белграде. 2004. С. 362–372.
Благодарим К. Ичин и Л.Г. Панову за содействие web-изданию.
Изображение заимствовано:
Fiona Banner (b. 1966 in Merseyside, England).
Harrier. 2010. BAe Sea Harrier aircraft, paint. 7.6×14.2×3.71 m.
Tate Britain Duveen’s Exhibition: «Fiona Banner. Harrier and Jaguar. 28 June 2010 – 3 January 2011».
http://www.flickr.com/photos/pawoodhead/5097433202/
Fiona Banner interviewed by Patricia Bickers:
Patricia Bickers: My first reaction on walking into the Duveen gallery during the installation was — apart from „Wow!” — a feeling of confusion, as though I had walked into the wrong museum, perhaps a natural history museum.
Fiona Banner: I do see these planes as part of nature. The first time I saw a Harrier I was walking in Wales, aged 7. It was a perfect pastoral scene — then bang, it came out of nowhere — and then it was gone. It was totally overwhelming, so beautiful, but such a monster. Both these models are still in active service, so there is a sense that we are implicated in them. They do not really belong to another time, though they might look like dinosaurs.
Patricia Bickers: It is ironic that, because fighters and bombers can't fly over built-up areas, they fly over the most peaceful parts of the landscape.
Fiona Banner: Air bases sited next to National Trust properties — it makes a kind of sense. There’s a sort of parallel between the idea of the rarefied art object and the military object. ‹...› So in thinking about the piece for the Duveen, there was already that relationship between the two worlds of art and the military. They both have a closed circuit of language and reference, and this very intense relationship to objects, the art object and the military object. The whole element of display, and of the trophy, seemed to cross over. As objects these planes are so potent that people behave peculiarly around them, not only because of their horrific function, and possible histories, but also because people find them exciting. They are seductive. That contradiction has been apparent throughout the process of making this work when people come into contact with them the face — off between an intellectual and an emotional — perhaps primitive — response, is evident. One is to do with language but the other is the very opposite of language. In the case of this installation, the two come together. Plants — military stuff — are displayed all the time in military museums, so there is a way in which they exist as radical sculptures already, but the presentation is always an attempt at heroising or historicising the machines. ‹...› The proportions of Tate Britain are grand and — churchlike but they are related to human scale, whereas, for instance, the Turbine Hall in Tate Modern is an industrial space, it would he like putting planes in a hangar. The neoclassical architecture works exactly because it was never designed to accommodate a piece like this, there is no mammoth loading bay here. The planes had to be broken up into small parts to be brought into the gallery. Though the planes seem to fit perfectly, and to reflect the belligerent symmetry of the space, they feel misplaced. There is a sense in which they are “exactly wrong”.
Patricia Bickers: Harrier and Jaguar, “nature red in tooth and claw”, and yet the Harrier looks strangely vulnerable — the hunter hunted.
Fiona Banner: Both planes are trophies, but in different ways. The Harrier takes its name from a bird of prey, the harrier hawk. It has feathers painted on it, the cockpit — the eye of the plane — becomes the eye of the bird, the nose come becomes the beak, and so on. The nose cone hovers inches from the floor. It is still an astonishing object, but there is a forlorn sense about it, like a trussed or captured bird. The Jaguar, an the other hand, lies upside down, supported by the wings and tail fin. It just lies there, belly up — a fallen trophy. ‹...›
«Tooth and Claw» Patrica Bickers. Art Monthly, July 2010.
www.fionabanner.com/words/toothandclaw.htm
Dave Hickley about this Installation:
At first it’s simple: predator and prey, tooth and claw — we call this hunting, unless we’re being hunted, then we’re dinner. Next it’s predators fighting predators over prey or territory — we call this war. Then there’s predators fighting predators but nobody gets killed — we call this sport, and, since everybody usually survives in sport, predators get better at it. They come to admire its skills and its instruments. At the level of sport, refinement and craft become valued attributes, since those who don’t participate, watch. We celebrate this refinement and craft with ornament. Then, finally, we celebrate refinement and ornament bereft of instrumentality. In this democratic sport, the winner is elected. We call it art.
Поначалу всё просто: хищник и жертва, клык и коготь. Охота есть охота: будет добыча — будет еда. Второй уровень: борьба хищников между собой за добычу или угодья. Мы называем это войной. Третий уровень: хищник сражается с хищником, но никто никого не убивает. Это называется спортом. Поскольку в спортивных состязаниях обычно никто не погибает, хищники начинают казаться существами высшего порядка. Их снаряжением и выучкой восхищаются. Победа спортсмена затмевает достижения любого, кто не участвует в этом деле, заметьте. Виртуозов кожаного мяча и клюшки чествуют с невероятной пышностью. Дальше — больше: состязание вообще без каких-либо орудий борьбы, причём в этом виде спорта победитель избирается. Мы называем это изобразительным искусством.
It’s a simple hierarchy of sublimation in which, theoretically, fewer and fewer people die in the process of daily life. The people who survive get better and better at what they do. The people who watch get better and better at understanding what’s being done. So, the design adorns the dagger and the design becomes a painting. The scuffle becomes a march; the march becomes a dance; the fort becomes a castle. Da Vinci develops the trigonometry of aiming cannon-fire, which he then deploys as single-point perspective in painting.
Этот простенький восходящий перечень таков, что с приближением к его вершине погибает всё меньше и меньше людей (по крайней мере, теоретически). Чем выше, тем больше остаётся тех, кто продолжает совершенствоваться в своём деле. Более наблюдательные приходят к пониманию того, куда двигаться дальше. Например, украшение кинжала насечкой оборачивается живописью. Драка превращается в ходьбу строем; ходьба строем — в пляску; крепость становится дворцом. Леонардо да Винчи занялся тригонометрией для более меткой стрельбы из пушек, а вышла одноточечная перспектива в живописи.
But war doesn’t disappear; nor does art continue to refine itself. As Wallace Stevens insisted, Death is the mother of beauty, and we can become so safe that we don’t care about beauty anymore. Conversely, we can become so fraught that we can no longer see the relevance of ornament and decoration. The physical world can disappear under the threat of both eternity and oblivion. Fortunately, we do die, and everything teeters on the edge of predatory advantage. Accruals are nested like Russian dolls and death is at the centre. Without guns, ships and new predators like Jaguars and Harriers, there would be no fine manners or Georgian architecture, and no Tate Britain.
При этом ни война никуда не исчезает, ни искусство не развивается само из себя. Уоллес Стивенс утверждал: „Смерть — мать красоты“. Уверяю вас, лучше не скажешь. Но с оговоркой: мы способны так перегрузить себя красотой, что перестанем чувствовать её относительность. А ведь мир вещественный и зримый может кануть в вечность по милости Божией. К счастью, мы умираем, и это последний предел хищнического стяжания. Собирание предметов искусства подобно русской матрёшке, где смерть — в её сердцевине. Никакой георгианской архитектуры, никакой Галереи Тейт не было бы без пушек, кораблей и новых хищников вроде «Ягуаров» и «Хэрриеров».
I started wondering what would have happened if these airplanes were installed in Tate Modern rather than Tate Britain? I realised immediately that the thought would never have presented itself. The building and the aircraft are not rhyming artifacts. In this stripped out environment, they would fit too well, and risk being yet another impudent repudiation of that industrial ethic. Tate Britain, on the other hand, invests the aircraft with the vocabulary of its design and the aircraft invest Tate Britain with the aura of worldly power it once possessed. But place the aircraft in Tate Modern and nothing would happen. The building would become overpowered; it would be a hanger, an accessory, a pragmatic umbrella to keep the rain off the machines. There would be no conflict, no fragility, no power struggle.
The function of these objects, the planes and the museums, is interesting: the fighter planes have the rather pointed attribute of being able to fly and blow the shit out of everything. The Harrier, the Jaguar and Tate Britain, are fully evolved and refined artifacts. They each have a past and a future. They each hold a position in the narrative of evolving modernity, curvilinear and streamlined to emphasise the motion of historical time. In fact, if you gave Palladio a large chunk of granite, a chisel, a hammer, and some heavy timber-rebar, he could knock out a very sleek and persuasive Jaguar in a couple of weeks, since the plane’s shape accommodates itself to his vernacular. It wouldn’t fly of course, but neither do Palladio’s angels, and the idea of flying would still be there.
The most crucial aspect of this installation, then, is the “fit” of the objects together. Tate Britain and the fighter aircraft nestle symmetrically into and around one another because the aircraft and the building are both based on the scale of human beings. They have undergone manipulations to perform their separate functions, but they are human at their core. Like the Sforza galleries displaying armory in Milan, the rooms and the weapons seem to recrieate the ghosts of warriors. The fighter planes are as small and streamlined as they can be to carry their armaments and their pilot; their shapes are extensions of the pilot. The Duveen Galleries are in the Palladian tradition. They are as large as a space can be without diminishing the scale of its occupants, which would be churchy and impolite. In this sense, both the building and the planes use the human body as a building block. As a consequence, human bodies fit rationally into the space and around the objects.
At Tate Britain the bond between weapon and ornament remains unbroken. History, form, gesture and direction are all an essential part of the building. So the instruments of grandeur and death rather ominously cuddle up to one another. They rhyme like lines in some imperial epic, and this is unnervjng. By letting them cohabit, of course, we acknowledge that it’s all about death. If we were all immortal, of course, we might make some very beautiful things, but why would we?
Dave Hickley. Mother of Beauty.
Harrier and Jaguar, Tate Duveen’s Commission Catalogue, Tate Publishing, 2010.
http://www.fionabanner.com/words/motherofbeauty.htm
Перевод мой. — В.М.
Review by Lorena Muñoz-Alonso:
Many of us may have already seen images of Fiona Banner’s Harriet and Jaguar, her recently unveiled 2010 Duveens Commission. But this is a work that truly excites and overwhelms when experienced in direct confrontation. Two fighter jets scattered in the neo-classic sculpture galleries of Tate Britain could seem like a typical ready-made statement, but the complexities that arise are far for predictable. One is immediately surprised by the beauty of the objects themselves, like giant toys in a theme park, only to remember that they are real war machines, the ones that destroy homes and schools, the ones that kill soldiers and civilians alike. ‹...›
Harrier and Jaguar are undeniably easy on the eye, whilst visiting the installation I couldn’t help but notice the free-floating enthusiasm, people smiling in awe and taking pictures, little kids playing war games. Even the way they have been placed is an extraordinarily precise choreography. The Harrier is hanging vertically from the ceiling in the South Duveens, it’s round nose/beak hovering just a few inches above the floor. Framed by the neo-classic columns, it is suspended like a post-nuclear crucifix with feathers painted on it. In the North Duveens the Jaguar lies belly up, as if it had crash-landed after a failed mission. The paint has been removed so its shiny aluminium body reflects the architectural space and the audience like a mirror („so they can’t detach themselves from it”, explains Banner). There is also the comparison between technology and nature. Since the jets are named after animals, one can also reflect on the doomed human desire to achieve god-like abilities: to create things, to destroy others and to control all of them. Fittingly, Harriet and Jaguar look estranged and defeated here, no matter how dangerous and powerful they were not so long ago.
www.thisistomorrow.info/viewArticle.aspx?artId=434


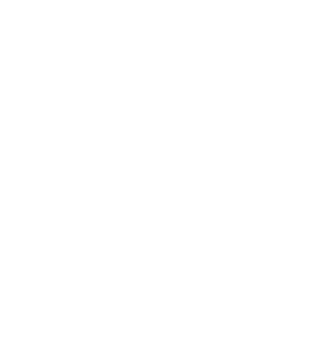 лебникова принято считать крупнейшим реформатором, нарушившим „традиционную соотнесённость жанров, вновь канонизованную символистами в начале XX века”.1
лебникова принято считать крупнейшим реформатором, нарушившим „традиционную соотнесённость жанров, вновь канонизованную символистами в начале XX века”.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()