В. Молотилов
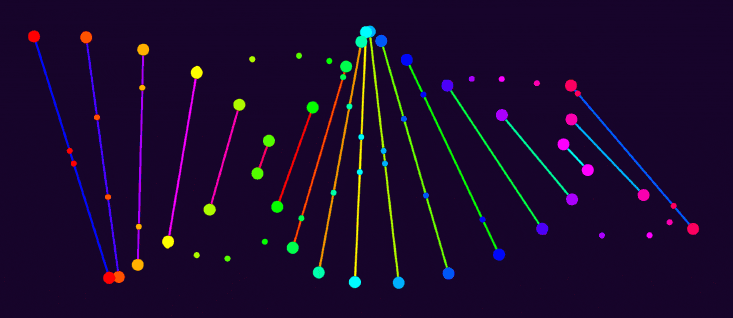
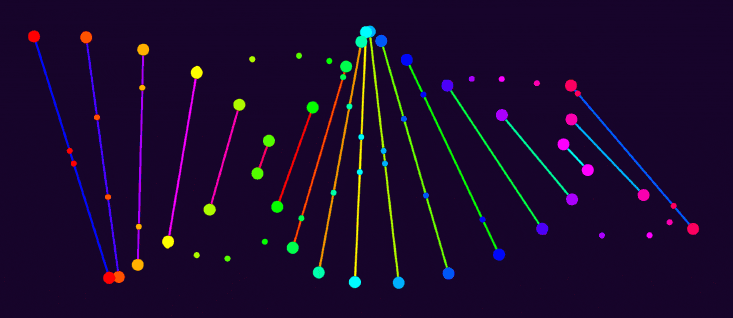
Ради соблюдения истины
мы должны отклонить даже то, что близко нашему сердцу:
нам дорого и то и другое, но наш долг —
отдать предпочтение истине
Аристотель. Никомахова этика
Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит.
Н.В. Гоголь. Мёртвые души, II
 одростковое молотилово бывает рэп–, трэш–, транс–, вуду– и викинг–.
одростковое молотилово бывает рэп–, трэш–, транс–, вуду– и викинг–.Жаль расставаться, но это последнее упоминание Ринго в моём неспешном повествовании.
Последнее, потому что давно пора постучать самому. На себя.
Самый позорный поступок в жизни, как-никак.
Заурядных барабанщиков называют ударниками, выдающихся — молотилами.
У стукачества с молотиловом точек соприкосновения не было и нет. Ни один молотила не стучал на себя. Первая попытка.
Это я дразню и нагнетаю, как Les Nabis, товарищество художников. Парижанин косяком шёл, валом валил, и у каждого — камень за пазухой. Назвался пророком — получи. Положено побить камнями, раз пророк. После закрытия выставки Les Nabis выгодно продали эти булыжники мэрии Парижа. Весь Монмартр замостили, красота.
Наглец влечёт. Кому ты нужен, сверчок запечный. Скромность — мать всех пороков, говорил химик Менделеев. Никого не оставить равнодушным, никого. Даже семижильного доброжелателя. Семижалый вражина, приди в объятья. Жалкий ты мой.
Знакомое ржание из конюшни числа: „Никого не оставить равнодушным, никого. Даже (1) семижильного (2) доброжелателя (3). Семижалый (4) вражина (5), приди в объятья. Жалкий (6) ты мой”. Цепи кованые, ворота дубовые. Господа кони, я мимоходом, но по делу. С попыткой поправки вакховых правил внятного высказывания. Обязательно запнёшься об исключение, обязательно. Вам ли не знать. Даже пословица есть: “Битюг споткнётся — рысак перекинется”. Вот обнаруженное мной исключение из правил внятного высказывания:
Одну из тайн подлинного молотилова я выдал. Едем дальше, постукивая на стыках.
Стýкалка (м.р.) и стукáчка (ж.р.) ничем не отличаются от стукача обыкновенного.
Та же высота в холке, прикус и окрас. Стукачок и стукатуха — стукачи-подростки, стукачата.
— Стукатуха это стукач-петух, сэр.
А вот крысы бывают разные. Бывают архивные хомяки, пасюки-писарчуки и уголовные серые крысы. Наглость возрастает слева направо, сноровка убывает справо налево, по списку. Так называемые корабельные крысы — подвид уголовных, добровольные заключённые.
— У каждого свои тараканы, сэр. Загляните в себя, принюхайтесь. Вот уж не архивный хомяк, сэр. Архив — да, архивный хомяк — никогда, nevermore. И уж подавно не пасюк, не Иван Антонович кувшинное рыло. Писанина — да, пасюк-писарчук — nevermore. Речь об уголовщине, о разбое в безмолвии ночном; крыса-уголовник хуже стукача-петуха, сэр. Последняя степень падения. Украл чужую пайку — молодец, на то и щука в озере. Застукали — крыса, последняя степень падения.
Поставлю-ка я близ вашей норы крысоловку, да наживлю ржавый спусковой крючок сыром рокфор, сэр. Позапашистее, вылежки лет двадцать пять. Прогрыза в углу близ. Пружина до жути туга, сэр, до жути.
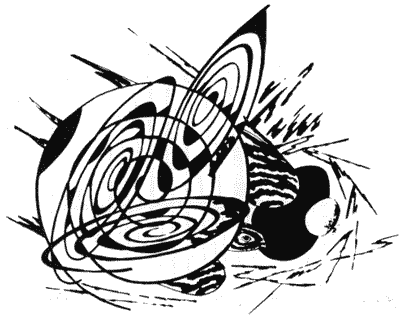 Запах. Ах, какие воспоминания. И я, именно я. Я. Он там был, мёд-пиво пил. Липов.
Запах. Ах, какие воспоминания. И я, именно я. Я. Он там был, мёд-пиво пил. Липов.Мутит и подташнивает от другого. От неуклюжева. Передать пéревертнями ёрзанье грызуна. Обнажённый приём. Слова у него начинаются на предыдущий слог, эка невидаль. Свои боевые песни геродотовы скифы только так и складывали. Подражая стрельбе из лука. Стрела стреле вдогонку. Первая поражает цель, следующие — воображение: расщепляют друг друга на лучинки. И враг в ужасе бежит.
То ли дело нечаянные находки. ‘Ёрзанье грызуна’ — вот она, благородная отрыжка после ананаса.
 Столп изобразительного искусства Британских островов. Брэнд вроде Марк Твена (Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910) в изящной словесности США, где за Марка Твена кидают на съедение аллигаторам. Марк — имя несклоняемое, потому что брэнд.
Столп изобразительного искусства Британских островов. Брэнд вроде Марк Твена (Samuel Langhorne Clemens, 1835–1910) в изящной словесности США, где за Марка Твена кидают на съедение аллигаторам. Марк — имя несклоняемое, потому что брэнд.Вас царапнул этот дефис, не так ли. Следовало написать:
Разумеется, Вакх предусмотрел и это. Сам он никогда не употреблял иностранных слов, никогда. Но потуги обставить в благочестии папу римского — тщета, суета и пагуба. Поэтому Вакх дозволил своим последователям краткие заёмные словечки, не более пяти букв:
Вакхант вскинется на слово ‘ром’, и правильно сделает. ‘Водка’ загадочно распахнутых славян, ‘сакэ’ улыбчиво-закрытых японцев, на худой конец ‘шнапс’ простодушных бошей; ‘ром’ — ни в коем случае. Смерти подобно. „Рим (Roma, лат.) должен быть разрушен”, — учил Вакх. Катоны немого глагола — вот как называл он развязных писак с их ‘депрессия’, ‘патент’ и — просто выворачивает наизнанку от омерзения — ‘прерогативы’. Ибо язык наглых римлян Вакх считал причиной всех бед своей горячо любимой родины, Ирландии. Трупный яд мёртвого языка. Но вернёмся к носителю дозволенного парламентом Великобритании дефиса.
Тысячи раз я видел подпись в правом нижнем углу его живописных полотен и графических листов. Всегда одну и ту же: М. Goodrich. И две последние цифры летоисчисления от Р.Х.
Точно такой же подписью он пользуется в частной переписке на твёрдом носителе. Двадцать пять лет назад он считался мягким. Как всё меняется, и как я сам меняюсь.
Хорошо сказано, а вот мменяюсь — никуда не годится, Mr. Behindbog.
Ваш покорный слуга обладает целым состоянием: сотнями суми-э кисти Майн Гудрича. „Милый Виам!” — начинаются все эти восхитительно-небрежные почеркушки тушью на рисовой бумаге. И какая-нибудь воздухоплавающая зверушка вроде цеппелёнка внизу, обязательно. Тушью из жжёных косточек сакуры (Prunus serrulata) на рисовой шершавой бумаге кустарной выделки (carta di riso, shikishi).
Все писульки, до последнего прости пятилетней давности, более-менее одинаковы. Всепрощение и доброта. Доброта разливанная. Удалось ли Майн Гудричу безукоризненно распрощаться со мной — тайна сия велика есть.
На ощупь — не рисовая бумага. Скоропись шариковой ручкой, а это настораживает.
Поэтому последнее прости не распечатано.
„Если в первом действии появляется дворник с метлой — в последнем он стреляет из метлы, иначе незачем ему было изображать невинность”, — учит Джордж Бернард Шоу. Запечатанное письмо не выстрелит. Хочется, но ни в коем случае. Избито, затёрто и затаскано. Распечатали, а там завещание. Всё тебе, милый. Все мои окурки в пепельнице, владей. Или кукиш масляной краской. Выкуси, крыса.
Поэтому обойдёмся без штампов и клише. Кто-то из древних изобрёл ходули. Незаменимая вещь. Преодолеть водную преграду, не замочив ног. Или пропасть в горах. Связываем ходули поясным ремнём — перекидной мост готов. Или ты — ромео, она — Джульетта. Ромео переводится ‘молодой цыган’ (от ‘ромалэ’, племенного самоназвания). Ты — пылкий ромео, она — мечтательная певунья, дочь графа Карузо. Как пробраться к певунье в спаленку? Связываем ходули поясным ремнём — лестница готова. Ждите голосистого внука, граф. Незаменимая вещь ходули.
Пристрелка из рогатки закончена, заряжаем поджигу. Поджига это самопал гасконских пацанов, очень опасный для стрелка. Почти всегда поджигу разрывает, потому что пороха многовато. И можно остаться без глаз. Поджига и есть ходули, в переносном смысле. Иносказание. А письмо не выстрелит, честное слово.
Из первой главы «Вакха» не вполне понятно, что я за птица. Это говорит о выдержке человека, не так ли. Не так. Никакой выдержки на самом деле нет, одна показуха. Галлы вспыльчивы, см. «Записки о галльской войне» Гая Юлия Цезаря.
Галльский наскок заставлял трепетать непрожёванную капусту в усах бошей, да и русских чудо-богатырей не раз вводил в столбняк. Если говорить о выдержке, тут англичан не переплюнуть. „Учиться, учиться и ещё раз учиться у Чемберлена железной выдержке”, — заповедал нам Шарль де Голль. Золотые слова. Де Голли — близкая родня де Буагильберам. Поздравляю, наконец-то вы догадались, как меня зовут.
Жить отцу Александра оставалось год с небольшим, потому что нельзя верить учителям, если хочешь подмять под себя вселенную. Они же не подмяли, с какой стати верить.
„Мне на плечи кидается (1) век-волкодав (2,3), но не волк (4) я по крови (5) своей”, — сказал один русский, который ушёл в Сибирь (Siberia) за медью, на которой собирался издать Вакха. Образцовое по внятности высказывание: иК — еК — лК — лК — Кр.
Ученик Аристотеля Александр сомкнул челюсти и перекусил шейные позвонки Филиппа, отца своего.
Русский рудокоп сгинул в Сибири. Александр возвратился, пространством и временем полный. Молодой, молчаливый, закованный в мёд. Согласно Вакху, мёд неразрывно связан с медью. Через шейные позвонки родителей, надо полагать.
Когда мы впервые пересеклись, Майн Гудрич уже достиг вершин благополучия, то есть был завален заказами. Отчасти этому способствовала посмертная слава его родителей. Незначительно, исчезающе мало способствовала. Вполне можно пренебречь.
Свидетельствую без пристрастия, лицеприятия и предвзятости: Майн Гудрич вырос как дерево, а не вскарабкался повиликой. Повилика это вьюнок без листьев и корней, с присосками. Стебель обвивает, удушая. Присоски это именно присоски, для питания. Рты. Тянут соки. Злостный сорняк.
Впрочем, карабкаться можно по-разному. Если по плечам отца на макушку матери, причём оба они художники, — прибудет окоёма всем троим. Незначительно, исчезающе мало похоже на ходьбу по головам. Вполне можно пренебречь хрустом шейных позвонков: своя ноша не тянет.
Но нельзя приваживать ночных мотыльков на белоснежное бельё семейных преданий. Налетят подёнки, бражники, сядет бабочка мёртвая голова и прожорливая моль.
Развязные писаки взяли привычку сравнивать судьбы Мориса Утрилло (Maurice Utrillo, 1883–1955) и Майн Гудрича, отнюдь не в пользу последнего. Морис, дескать, выпивал чуть не с пелёнок, а Гудрич-младший выпил свою мать, как паучок муху. Хуже повилики, злостного сорняка.
 Морис Утрилло действительно вырос без материнской ласки, у бабушки. Что говорить, Сюзанна Валадон (Suzanne Valadon, 1865–1938) — никудышная мать.
Морис Утрилло действительно вырос без материнской ласки, у бабушки. Что говорить, Сюзанна Валадон (Suzanne Valadon, 1865–1938) — никудышная мать. Нечто подобное Сюзанна однажды принесла на суд Дега. Мэтр долго, томительно долго, невообразимо долго перебирал её работы. Отложит, потом опять возьмёт. Глянет на просвет, с обратной стороны листа. Суровое испытание, кто понимает.
Нечто подобное Сюзанна однажды принесла на суд Дега. Мэтр долго, томительно долго, невообразимо долго перебирал её работы. Отложит, потом опять возьмёт. Глянет на просвет, с обратной стороны листа. Суровое испытание, кто понимает. Сюзанна принуждённо улыбнулась и обмякла. Ей не было и двадцати, персик. Тулуз-Лотрек закончил вторую дюжину зарисовок. Обольщение пожилой шлюхой библейского старца. Сусанна и старец. Старец не поддаётся: ох страшна.
Сюзанна принуждённо улыбнулась и обмякла. Ей не было и двадцати, персик. Тулуз-Лотрек закончил вторую дюжину зарисовок. Обольщение пожилой шлюхой библейского старца. Сусанна и старец. Старец не поддаётся: ох страшна. Сюзанна ещё в цирке Фернандо научилась очеловечивать домашних животных. Сорвёшься с проволоки — телесное пропитание.
Сюзанна ещё в цирке Фернандо научилась очеловечивать домашних животных. Сорвёшься с проволоки — телесное пропитание.Дега не выносил чужого, будь оно и Леонардо. А пастель Сюзанны купил. И повесил в своей холостяцкой спальне. И преподал несколько уроков. И Сюзанна обставила саму Берту Моризо (Berthe Morisot, 1841–1895): in 1894 she became the first woman to be admitted to the Société Nationale des Beaux-Arts.
В 1894 году Морису было 11 лет, а пил он с семи.
Лучше бы Дега оставил в спальне Сюзанну, а её произведение поселил через стенку. Наверное, эти двое не бросили бы его на старости лет, двое преданных учеников. Но Дега прислушался к наброскам хитреца Тулуз-Лотрека, и остался слепнуть в одиночестве.
Сюзанна поневоле вернулась в спальню коротышки Анри — доучиваться, подглядывая. На предложение дружка сочетаться с ним законным браком она ответила жарким поцелуем. Зачем это, прелесть моя. Нам и так хорошо, милый.
Почитатели художника-уродца никогда не простят ей этого. А поклонники Эрика Сати (Erik Satie, 1866–1925) — благословляют. Единственной женщиной Эрика была Сюзанна. Он предложил ей руку и сердце в первую же ночь. Подумаю, сказала Сюзанна. И бросила его через полгода. Эрик Сати оказался однолюбом, поэтому так расцвело музыкальное искусство нашей родины. Свою неутолённую страсть он излил в звуках.
 Сюзанна позировала Ренуару для его «Танца в Буживале» на сносях. Морис Утрилло незримо присутствовал в живописи Франции за полгода до своего появления на свет, да что толку.
Сюзанна позировала Ренуару для его «Танца в Буживале» на сносях. Морис Утрилло незримо присутствовал в живописи Франции за полгода до своего появления на свет, да что толку.Собеседник случайно оказался не только сведущим, но и проницательным человеком: Сюзанна знала счёт деньгам. Расходы на художественные принадлежности не идут ни в какое сравнение с оплатой лечения, совершенно бесполезного. И учителей нанимать нет нужды, сами с усами.
Сказано — сделано. Сюзанна положила на стол червивое яблоко и сунула Морису огрызок карандаша. Нарисуй, обормот. Огрызок упал на пол: похмельное дрожание конечностей, тремор. Тогда Сюзанна усадила Мориса к себе на колени, вложила карандаш в его руку и принялась водить этим сооружением по бумаге.
Вскоре урок пришлось прервать: бумага размокла. Это плакал Морис. От счастья. Он впервые сидел на коленях у мамы.
Сейчас я вытру свои сопли: читать такое невыносимо. Ну и ходули валяются на «Хлебникова поле». Берегите ноги, путники.
Сюзанна четыре года передавала сыну знания, добытые на неведомых госпоже Моризо дорожках, — это совершенная правда, то есть штамп и клише.
Двадцати пяти лет отроду Морис выставил свою первую самостоятельную работу.
К тридцати у него с руками отрывали виды Монмартра и Нотр-Дам де Пари.
В сорок семь — наградили орденом Почетного легиона.
Солнце встаёт на востоке, Темза впадает в Северное море, Морис Утрилло — самый подделываемый художник в мире. Истины, не требующие доказательств. Но незыблемая — только третья, про подделки. О мнимой неизменности восходов солнца мы поговорим в произведении «Красотка», а Темзы, того и гляди, не станет вовсе. Поглотит пучина морская Британские острова — и незачем будет ей течь. Потепление, сэр. А Морис Утрилло так и останется самым подделываемым художником, что бы ни произошло с погодой.
 Каковы последствия изобличения подделки? Последний по счёту владелец теряет всё, а предыдущие потирают руки: вовремя избавились. Это последствия изобличения лже-Гогена или Пикассо, сработанного ловкачом Охмурильо-де-Лохильо. С доказанной подделкой Мориса Утрилло всё может оказаться с точностью до наоборот. Гордый обладатель дерёт нос и цену, а предыдущие простачки беснуются с досады. Но это если доказано, что подделка 1) с ведома самого Мориса Утрилло; 2) и даже подпись его собственноручная; 3) а злоумышленника зовут Сюзанна Валадон. Совсем как у любимого эфиопами Пушкина: тройка, семёрка, туз, который дама пик Сюзанна. Такая доказанная подделка стоит бешеных денег.
Каковы последствия изобличения подделки? Последний по счёту владелец теряет всё, а предыдущие потирают руки: вовремя избавились. Это последствия изобличения лже-Гогена или Пикассо, сработанного ловкачом Охмурильо-де-Лохильо. С доказанной подделкой Мориса Утрилло всё может оказаться с точностью до наоборот. Гордый обладатель дерёт нос и цену, а предыдущие простачки беснуются с досады. Но это если доказано, что подделка 1) с ведома самого Мориса Утрилло; 2) и даже подпись его собственноручная; 3) а злоумышленника зовут Сюзанна Валадон. Совсем как у любимого эфиопами Пушкина: тройка, семёрка, туз, который дама пик Сюзанна. Такая доказанная подделка стоит бешеных денег.А просто подделка не стоит ломаного гроша.
 Но я перескочил через лошадь в пылу битвы за истину. Ещё Майн Гудричу нужно родиться и вырасти.
Но я перескочил через лошадь в пылу битвы за истину. Ещё Майн Гудричу нужно родиться и вырасти.Учитель бросил кисть и убежал.
Почему? Потому что нет страшнее приговора художнику.
„Мазня“, — и ухом не поведёт. „Замученные краски“, — глазом не моргнёт. А скажите „пестрит“, если на самом деле цветовые пятна не уравновешены, — сникнет, как будто воздух из него выпустили. Или в ужасе бежит, как второй деворин учитель: девочке восемь лет, а всё понимает.
Больше учителей рисования не нанимали. Вакх, тогда ещё Витус, был старше Деворы на пять с половиной лет. Огромная разница, когда тебе восемь. Вакх уже и тогда, хотя ещё не достиг просветления в Восточном Тиморе, мог озадачить любого своими высказываниями. Он вполне разделял устремления сестры. Мазок должен быть отдельностью мироздания. Каждый — сам по себе, со своим уставом. Создаём народ из этих одиночек. Моисею было легче: один язык, общие рабские привычки, безлюдье пустыни.
И чтобы не единодушие, а свобода высказывания. Передружить, перезнакомить, переженить мазки. Если базар, склока, гам — пестрит. Не ошибка, но преступление. Перед Искусством.
И девочка стала учиться сама у себя. Вернейший способ, кстати. Единственно правильный, но при одном условии: если ты — природа, вместе с нею. Иначе будешь вариться в собственном соку, и выйдет студень.
Как уже сказано, в Деворе с младых ногтей не было и следа переимчивости, попугайства. Развязные писаки выставляют её подражалкой Сезанна. Ложь. Девочка и не подозревала, что Сезанн точно так же выверял каждый мазок, а не раскрашивал. Не уверен — оставь пробел, меловую белизну грунта.
Поль Сезанн работал мазками-отдельностями, без подмалёвка.
Деворе почти никогда не удавалось довести сочетание мазков на большом полотне до конца: она ведь не подкинула сына бабушке, как Сюзанна Валадон, а вырастила его сама. Опять я забегаю вперед. Но раз уж забежал, два слова о старших возрастах-притеснителях.
 Вы уже знаете об ирландском подходе к семейной жизни: поздние браки, многодетность. Из трех сыновей и двух дочерей у стариков Грейндилеров уцелела только Девора. Последыш, балованное дитя. Еще как балованное. Захотела в Париж — уже там, на Капри — пожалуйста, Флоренция — нет вопросов. Впрочем, ни Витус, ни его даровитый брат Александр в нашу Сорбонну не рвались. И Китти не рвалась. Китти рвалась рвать зубы дублинцам. Был такой царь у русских, Peter The Greate, помните? Он ещё купил у оманских пиратов Авраама, прадеда Пушкина, благодаря чему российская изящная словесность — авраамическая, а не всякого Якова.
Вы уже знаете об ирландском подходе к семейной жизни: поздние браки, многодетность. Из трех сыновей и двух дочерей у стариков Грейндилеров уцелела только Девора. Последыш, балованное дитя. Еще как балованное. Захотела в Париж — уже там, на Капри — пожалуйста, Флоренция — нет вопросов. Впрочем, ни Витус, ни его даровитый брат Александр в нашу Сорбонну не рвались. И Китти не рвалась. Китти рвалась рвать зубы дублинцам. Был такой царь у русских, Peter The Greate, помните? Он ещё купил у оманских пиратов Авраама, прадеда Пушкина, благодаря чему российская изящная словесность — авраамическая, а не всякого Якова.Пришло время, и старики остались одни. Девора — в Лондоне, замужем за нищим Гудричем, и сыну четыре годика. Всё на ней. Но старики чахнут без ласки и ухода, беспомощные и гордые. И едет Саймон Питер в Дублин, и перевозит стариков к себе в логово. И живут они в тесноте, да не в обиде. И бабушка учит французскому языку внука: Деворе некогда. Снуёт с кошёлками туда-сюда, варит-парит, стирка-уборка. Самоубийство художника, в общем.
Опять французский язык. Я и говорю, что как только Девора достигла совершеннолетия, она тотчас упорхнула в Париж. Выбирайте слова, любезный. Не упорхнула, а отбыла. У Деворы была осанка, поступь и произношение королевы, никакого щебета с подскоком. Королева следовала походкой от бедра, т.е. не семеня каблучками, на занятия в академию Витти иной раз мимо Мориса Утрилло, который писал виды Монмартра, злоупотребляя белилами.
Их было трое, юных ирландок, которые приехали перенимать опыт местных новаторов. Палома Пиджинс брала уроки ваяния у Огюста Родена, Девора Грейндилер и Элли Квиксоу посещали академию Витти.
Не следует путать частные учебные заведения с государственными. Академия Витти напоминает Академию художеств ровно в той же мере, как академия Зауми Сержа Вулфа — Академию наук.
То есть у Витти и Вулфа можно кое-чего поднабраться, у академиков на окладе — нет.
Чем знаменит художник Витти? Ничем. Оборотистая женщина, и всё. Мадам Витти, владелица хорошо освещенного помещения, где можно рассадить десяток-другой учеников и поставить модель.
К приезду Деворы здесь преподавал Кес Ван Донген, бельгиец. Этот Ван Донген трудился на благо мадам Витти, а не государства, заметьте. Мадам отстёгивала ему толику от вносимой учениками платы, и ни во что не вмешивалась. Никаких надзирателей из управы благочиния изящных искусств, этих мертвяков с оловянными глазами.
 Ван Донген сразу сказал Деворе, что учиться ей здесь нечему: слишком самобытна. Ирландцы при таком раскладе говорят: учёного учить — только портить. Поступок Ван Донгена опровергает досужие домыслы о принадлежности белгов германскому племени; белги — несомненные кельты, родня ирландцам и галлам. Окажись на месте Ван Донгена какой-нибудь Дюрер, он тут же взял бы Девору в оборот и вытравил из неё всю самобытность. И получилась бы две тысячи двести вторая Анжелика Кауфман. Вот произведение Ван Донгена, в знак моей к нему родственной приязни.
Ван Донген сразу сказал Деворе, что учиться ей здесь нечему: слишком самобытна. Ирландцы при таком раскладе говорят: учёного учить — только портить. Поступок Ван Донгена опровергает досужие домыслы о принадлежности белгов германскому племени; белги — несомненные кельты, родня ирландцам и галлам. Окажись на месте Ван Донгена какой-нибудь Дюрер, он тут же взял бы Девору в оборот и вытравил из неё всю самобытность. И получилась бы две тысячи двести вторая Анжелика Кауфман. Вот произведение Ван Донгена, в знак моей к нему родственной приязни.Учёба Деворы у Ван Донгена состояла в самостоятельной работе по заданиям. Не век же сидеть молодёжи на родительской шее. Да и не каждый папаша владеет лавочкой, поместьем или заводиком. Жизнь есть жизнь, вдруг придётся добывать телесное пропитание кистью. Люди на открытках состояние делают, не говоря про наклейки для спичечных коробков. Задания известные: поставит Ван Донген китаянку в тюрбане — изображай со всей достоверностью, нравится тебе лиловый на жёлтом или нет.
Добиваться достоверности, чтобы потрафить будущим заказчикам, у Деворы и в мыслях не было. И вообще, колыбель изобразительного искусства Европы значительно южнее Парижа, не говоря о Барбизоне. Bella Italia, вот именно. Деворе, видимо, хотелось приникнуть к основам, испить из истока.
Развязные писаки, будь они неладны, поднимают вой: зачем, дескать, не поехала в Испанию. Пещера Альтамира давным-давно открыта, ещё в прошлом веке; вот где подлинный исток, родник и кладезь современной живописи. Даже Пикассо не побывал в Альтамире, Сальвадо Дали не удосужился. Испанцы, называется. Вот и весь сказ этим саврасам без узды, умникам вспять.
Виллы на острове Капри стоили тогда поразительно дёшево: теплынь круглый год, никакой нужды в печном отоплении, чрезвычайно удорожающем недвижимость. Девора сгоряча едва не купила одну такую виллу. Если бы не война, Грейндилерам было бы где погреться на солнышке, и Вакх наверняка занежился и заленился бы на Капри: море он обожал. И мировая его слава приказала бы долго жить. Хорошо, что мать отговорила Девору от покупки.
А тут и море вдруг показало свой звериный оскал: подводные лодки бошей десятками топили у Гибралтара корабли англичан. Легко представить тревогу родителей, когда дочь пробиралось обочь Европы в Дублин. Но Майн Гудрич, если верить народу манси, уже избрал свою будущую мать, и Девора возвратилась на родину. О воззрениях манси мы поговорим особо, чуть позже.
Возратилась, можно сказать, несолоно хлебавши. Франция — холостой выстрел, Италия — пустые хлопоты. Зато утвердилась в искусстве полностью и окончательно, ничем не собьёшь.
В Дублине всегда было полным-полно забавников, не один Джеймс Джойс. Проказничали напропалую: предложения руки, сердца и состояния, зачастую нетрезвого, сыпались на Девору чуть не каждый день. Разумеется, парижские портнихи знают своё дело, а флорентийские башмачники — своё, да ещё как. Не говоря о причёске и внутреннем содержании предмета вожделения.
Во Флоренции у Деворы был роман с Франческо. Не новелла из «Декамерона», а именно роман. Диккенсовский. Ирландская строгость нравов, итальянская робость: Франческо пыхтел под пятой своей необъятной матушки. Прогулки среди цветущих ирисов. Касались ирисы колен, не выше. К тому же, Франческо ушёл воевать. Бедный мальчик: то Италия зá бошей, то против. В 1918 году обер-лейтенант Карл Дёниц, будущий гросс-адмирал, топил всех подряд — и томми, и макаронников.
В Дублине сложилась нездоровая для Деворы обстановка. Только раскроет этюдник — дублинские хлыщи и прощелыги тут как тут. У неё в голове сочетание цветовых пятен, у местных фатов — бракосочетание.
Некоторые держались поодаль, но были ещё назойливей, ещё настырней. Например, один молодой человек по имени Ира (ирландцы сплошь и рядом называли своих сыновей в честь Ирландской Республиканской Армии) решил, что Девора создана именно для него. И молчком, в сторонке стал добивался взаимности изо всех сил: делал стойку на руках на подножке трамвая, когда тот грохотал мимо дома Грейдилеров, переплывал Лиффи, как только Девора под руку с Китти появлялась на набережной, и выйдя из воды, крестился двухпудовой гирей.
Другой молодой человек, Бэззи, действовал куда тоньше: Девора была не чужда изящной словесности. Особенно хорошо ей писалось во Флоренции, подле робкого вздыхателя Франческо. Бэззи кропал стишки, которые ловко пристраивал в «Дублинский листок», и поэтому слыл весьма сведущим по части расстановки запятых. Буквы Девора сочетала вполне обычным способом, не как мазки на холсте, но путалась в знаках препинания. Вакх, кстати, питал неодолимое отвращение к двоеточиям и прочей лабуде.
Грамотей Бэззи имел успех у Деворы: сохранилось две поэмы в духе Уильяма Батлера Йейтса, написанные ими сообща. Запятые расставлены на ять, можете мне поверить.
Пролаза Бэззи гнался за двумя зайцами, как потом выяснилось. Более того, зайчиха была нужна ему постольку-поскольку. Бэззи спал и видел себя собеседником Вакха, а не мужем Деворы. Твёрдо установлено, что упёртые любители пива совершенно равнодушны к особам противоположного пола, а мужчины привлекают их исключительно как собеседники. Хуже геев, честное слово.
Щелкопёр Бэззи был на диво упёртым любителем, почище бошей.
Фридрих Ницше презирал и высмеивал своих земляков за их пристрастие к пиву, и правильно делал: печальный опыт половины XX столетия тому порукой. Рассядутся по лавкам, и давай стучать кружками в такт “Deutschland, Deutschland Über Alles!” Ладно, если мероприятие заканчивается безобидным “Drang nah Osten!”, а не призывами спихнуть в Атлантику галлов и прочих португальцев.
Я считаю, Ницше прав: все беды бошей — от ячменя и шишек хмеля. Иммануил Кант в рот не брал эту гадость — золото человек. Якоб Бёме на дух не переносил — прелесть что такое, хотя и сапожник. Феликс Мендельсон, Роберт Шуман, Франц Шуберт — золотые самородки размером с кулак, Бах и Бетховен — с лошадиную голову. Потому что презирали пенное пойло.
Даже макаронник Сальери, хотя и подделывался под боша изо всех сил, пил только вино, поэтому и посовестился отравить Моцарта, и тот умер своей смертью, от водянки. Русский писатель Пушкин, не раз упомянутый нами ввиду его заслуг перед изящной словесностью, отличался нерусской дотошностью. Он где-то раскопал, что Моцарт действительно бражничал с завистливым Сальери в винном погребке. Однако домыслы Пушкина о подсыпанном в бокал стрихнине лишены надёжного основания. Терзаний подсыпать или не подсыпать у Сальери было предостаточно, а вот одурения от пива — ни в одном глазу. И он подавил преступный помысел и удержал руку, исполнительницу его. В дальнейшем Сальери покаялся, но ему не простили омерзительного намерения.
Девора до сей поры общалась только с приличными людьми. Рыбаки с Капри, не говоря о флорентийских обывателях, употребляли сброженный сок лозы, и ничего более. Разноязыкий сброд на Монмартре дружно потягивал пробуждающий творческое воображение абсент. Ван Донген если и дорывался до пива, то разве что на побывке, в Бельгии. Поэтому выхлоп из пасти Бэззи Девора по наивности принимала за ядрёный мужской дух.
Для чего Бэззи добивался благорасположения Вакха? Чтобы обирать его, воруя свежие мысли. Делается так. Они с Деворой на пару слагают сонет, и отдают его на суд Вакха. Ваши замечания, мэтр. Поправьте своей рукой, вот перо.
Вакх берёт рукопись, и полетели клочки по закоулочкам. Первым делом зачёркивает никудышное название. Даёт своё. Например, было «Осень» — стало «Осиянь». Совсем другое дело, не так ли.
Потом награждает всю лабуду между заголовком, подписью и датой крестом Св. Андрея Первозванного. То есть перечёркивает крест-накрест. И пишет на полях нечто небывалое. Подпись при этом остаётся прежней.
Вы уже догадались, что это за подпись. Вот именно, “Вакка”.
На полях появляются, например, невесть кто такие Цинтекуатль, Маа-Эма и несколько более известный Шанг-ти, седой бородач, спотыкающийся в своей бороде. Как зайцы, над ушами у него висят два снежных клока седины.
Потом Бэззи своей пивной отрыжкой убивает зайцев над ушами Шанг-ти, и произведение с подписью “Вакка” появляется в «Дублинском листке».
И такие проделки сходили с рук этому пройдохе, потому что Вакх, как известно, брезговал т.н. жёлтой прессой, в руки не брал. Иначе он прекратил бы всякое общение с Бэззи, которого с трудом переносил из-за слишком одухотворенного оволосения головы.
Нет худа без добра, на что-то нужны и Авессаломы: дублинские петушки мало-помалу сходили с круга, отпадали, рассеивались в пространстве, потому что Девору якобы застолбил проныра Бэззи. С другой стороны, Бэззи торчал у Грейндилеров с утра и до вечера, это здорово раздражало Вакха. Родительский кров он посещал крайне редко, а тут ни дня покоя от лабуды, да и зверь какой не переполз бы с бэззиных кудрей.
И Вакх укатил на север, в Ольстер. Там, среди скал и болот, он и нашёл своё последнее пристанище. Предпоследнее, как утверждают горячие головы. Ниже мы попытаемся вникнуть в подробности этого события со всем тщанием.
Многие ирландцы укоряют Вакха за неуместный уход с поверхности земли: зачем он сделал это в Ольстере? И с этим невозможно спорить: Северная Ирландия до сей поры стонет под иноземным игом из-за того, что бренные останки Вакха погребли на погосте отщепенцев-англикан, а не подле добрых католиков, его единоверцев.
Общеизвестно, что Вакх крещён девяти месяцев отроду по установленному Св. Петром обряду, и на ехидные вопросы относительно его вероисповедания отвечал без колебания: католик. Богоборчество говорит об отваге мыслителя, оно допустимо в определённых пределах. Иаков тоже боролся с Ангелом, и тот ему ногу вывихнул. Ногу, а не мозги, как Фридриху Ницше. Отец наш небесный благ и человеколюбив, но не посягай, сказано тебе.
Вакх погиб, как известно, из-за преступного небрежения англичанами состоянием его здоровья. До призыва на военную службу это был железный человек. Чьи-либо проявления изнеженности вызывали у него недоумение, мягко говоря. Закаляйся как сталь, а не кисни, мозгляк. В молодости Вакх был здоров до неуязвимости, потому что потрясающе силён духом. Mens sana in corpore sano, утверждали древние римляне, наглый народ. Вакх являл собой доказательство противного: животворит именно дух, тело вторично.
Однако за год с небольшим армейской муштры Вакх из богатыря превратился в развалину: выпали все коренные зубы, опухли и обездвижились коленные суставы, а удовольствие мочеиспускания, воспетое Джеймсом Джойсом в «Улиссе», превратилось в пытку. А тут ещё малярия, подхваченная в Месопотамии. И всё это из-за душевного надлома: казарма — могила духа.
В Ольстер уволенного с военной службы Вакха зазвал его недавний знакомец, тогда ещё просто Саймон Гудрич: Питером его прозвал Вакх, в письмах к сестре Деворе; далеко не сразу и не вдруг она обрадовала этим Гудрича. Лет восемь назад, когда на заседании парламента Великобритании было предложено почтить заслуги прославленного художника (спохватились!) легитимацией (таков язык пасюков-писарчуков) его составного имени, едва не дошло до рукопашной: подмораживатели (the Conservatives) были за, разнуздыватели (the Liberales) — против. Shame to Whigs!
Итак, Ольстер. Деревушка с нелепым названием Санта Ло (Santa Law). Поселение местных англикан, оплот ползучего отторжения Ирландии от ирландцев. Здесь пережидало Первую мировую (наглого мамонта, по Вакху) семейство Гудрича, и загостилось под предлогом послевоенной разрухи.
На самом деле причина была в другом: жена Гудрича Нэдда завела себе дружка из местных. Вот тебе и хвалёная чистота нравов англикан, которой прельстился молодой папаша, выбирая безопасное местечко. Узнав о преступлении Нэдды, Гудрич немедленно порвал с изменницей; произошло это уже после гибели Вакха, которая всколыхнула всю Ирландию.
Веками сгнетаемая ненависть к поработителям вырвалась-таки наружу: Вакха, нашего Вакха уморили проклятые англичане! Народ восстал, и Лондон счёл за лучшее предоставить Ирландии независимость. Всё равно, мол, треть населения уже перебралась за океан. Уедут остальные — голыми руками возьмём землицу назад.
Но за Ольстер англичане готовы были драться до последнего томми. Для отвода глаз был придуман предлог: бóльшая часть его жителей исповедовала Христа несколько иначе, нежели коренные дублинцы, например.
Есть одна-единственная секта, духовный глава которой — коронованная особа: это англикане. Отсюда их рабская покорность королеве. Между прочим, примерно то же самое завёл Гай Юлий Цезарь, когда уничтожил народоправие в Древнем Риме. Наглец беспримерный был этот Цезарь. Сначала провозгласил себя единственным посредником в делах веры, а потом потребовал себе божественных почестей. По мне, так уж лучше католичество. Даже с его папессой Иоанной. Да и враки, поди, про папессу. Бош Мартин Лютер прилгнул приглянувшейся монахине, когда уговаривал её под венец. И уговорил-таки, паскудник.
Но Джон Буль, как прозвал англичан кардинал Ришелье, оставил за собой Ольстер вовсе не из-за колонистов-англикан. Их можно было и в Шотландию перекинуть — там парни в юбках ещё зададут пришельцам с юга перцу, дайте срок. Дело в том, что на Британских островах очень редко рождаются подлинно великие люди, не то что у нас на материке. Из великанов на память приходит один Шекспир. Резерфорд? Датчанин Бор и русский Ландау — парни покруче, не говоря об Эйнштейне и Гейзенберге. Супруги Кюри, разумеется, вне всякого сравнения. Полинное торжество материкового сознания. Куда там Фарадею или Максвеллу.
Окинешь взором Великобританию — Вильям Шекспир да Робин Гуд, вот и всё. Маловато.
Поэтому осенью 1922 года лорд Керзон посоветовал оставить могилу Вакха в Ольстере за короной, не отдавать самостийникам из Дублина. Нельзя отказать Керзону в прозорливости: спустя полвека прах Вакха под гром орудийных залпов был упокоен в Лондоне, близ могилы Карла Маркса. О причинах такого соседства будет отдельный разговор, не сейчас.
Карл Маркс никуда не денется, чего нельзя сказать о Санта Ло, где Саймон Питер Гудрич только что похоронил Вакха, не подумав о последствиях. Выморочная деревня, вот-вот обезлюдеет вконец.
 Горячие головы объявили недостаточно, по их мнению, ценимого у себя на родине в Англии художника новым Леонардо. Это настораживает, не правда ли. Попробуем разобраться, в чём тут дело.
Горячие головы объявили недостаточно, по их мнению, ценимого у себя на родине в Англии художника новым Леонардо. Это настораживает, не правда ли. Попробуем разобраться, в чём тут дело.Так вот, Саймон Питер смолоду объявил войну этому похабству под вывеской небывалых исканий. На войне как на войне: в пылу битвы за честь предмета изображения можно непристойно прикипеть к нему душой, впасть в рабскую зависимость. Похабник издевается, а ты сотворил себе кумир. Первое, конечно, хуже рабской зависимости. На воробьиный скок.
У ливерпульских невест по вызову есть песенка “Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу”. Главари бесчисленных направленьиц, школок и секточек хотели вовсю, из штанов выпрыгивали. Вакх высмеивал нехотяев; хотюки куда гаже, считал Саймон Питер.
По праву рождения он принадлежал к высшей касте правящего сословия Великобритании, потомственным полковникам. Тогда высоко ценилась эта порода, потому что военную косточку торгашей и художественно-промышленной братии отрицал еще Клавдий Гален; Андреас Везалий и Уильям Гарвей не возражали своему великому предшественнику. Открытие деления ядра урана положило конец безоглядному следованию осанистых баронетов по натоптанной каблуками отцов, дедов, прадедов и пращуров полковничьей дорожке.
Ни один предок Саймона Гудрича не умер в собственной постели, ни один. Гудричи гибли в сражениях с конницей Саладина, присоединили к британской короне добрую треть полуострова Индостан, толику нынешней Канады и т.д. Но среди военачальников Вильгельма III Оранского, лютого врага католиков, почему-то не оказалось ни единого Гудрича; это и предопределило ход событий 1922-го и последующих лет после Р.Х., повествование о коих напоминает прилив-отлив из-за моего волнения и душевной сумятицы.
Саймон был обречён тянуть армейскую лямку: его отдали в кадетский корпус желторотым юнцом, чуть не с колыбели. Заперли натаскивать. Долго ли, коротко — вдруг выяснилось, что мальчик вовсе не горит желанием стать королевским сапёром, как того требовали взрослые. Созидать — пожалуйста, с большим удовольствием. Разрушать — слуга покорный.
Будущих сапёров обучали плотницкому, столярному, бондарному, слесарному и кузнечному делу, плетению фашин (от нем. Faschine, а не ит. fascismo) ремеслу землекопа и каменотёса, дуговой сварке Славянова-Бенардоса, черчению, архитектуре и владению логарифмической линейкой. По всем этим предметам Саймон Гудрич отлично успевал, но как только пошли занятия по минно-подрывному делу — неудовлетворительные оценки посыпались на его вихрастую голову.
У других кадетов дела обстояли как раз наоборот: двойки по начертательной геометрии, высший балл по установке фугасов на дорогах и минным растяжкам. Подросткам нравятся эти забавы.
Тех, кому не нравятся, безжалостно отчисляют, хлюпиков. Если бы не заслуги, заручки и слёзные мольбы отца, мальчика вчистую списали бы за непригодностью. Военное ведомство решило не доводить полковника Гудрича до кондрашки, и перевело его отпрыска в кавалерийское художественное училище.
Почему крошечная Англия так широко раскинула свои тенёта по обоим полушариям и веками тянула соки из порабощённых народов? Потому что к каждому батальону вооружённых сил Её Величества конца XVII – начала ХХ в. был придан художник-баталист. Не штафирка, а военнослужащий. Никаких ротных капелланов не нужно, потому что британскому вояке хочется на полотно. Пищит, да лезет. Умереть, как ни крути, рано или поздно всё равно придётся. Погибнешь героем — опытная рука увековечит в соответствующей подвигу обстановке. Никаких высасываний из пальца. Этюды головы в трёх ракурсах написаны загодя и утверждены командованием на предмет безусловного сходства. Сурово сжатый рот и насупленные брови поощряются, зверское выражение глаз — нет. Основательный народ англичане. На что наш Наполеон головастый, а упустил из виду нежелание вояк исчезать бесследно. Впрочем, оно и к лучшему.
И на флоте у англичан были штатные живописцы, а как же.
Чем подкупало Саймона Гудрича пребывание в подразделении майора Оуэнкэша, так это разумностью времяпрепровождения. Всё было подчинено единой цели, никаких шараханий от заступа к циркулю, от кайла к начертательной геометрии.
Лошади ему тоже были по душе. Но майор требовал изображать их в красках, что Саймон считал излишним. Недавний отличник по черчению признавал только карандаш, уголь и сангину. Смахивает на отговорку лентяя: что мешает наложить краски, чтобы завершить работу признанным всеми способом?
Майор Оуэнкэш не подозревал, что у военных маринистов его подопечный тоже не прижился бы: набросав углём сражение при Фолклендских островах, Саймон Гудрич со спокойной совестью отправился бы в слесарку, собирать диковину почище корабля-угря: сухопутное средство передвижения конь о четырёх ногах. Нечто вроде известного гимнастического снаряда, только на пружинах.
Дело в том, что изображая атаку королевских кирасир при Ватерлоо, мальчик опечалился беззащитностью лошадей против пуль и осколков. Заковать в латы коней никто не удосужился, так не лучше ли пересадить бронированных всадников на неказистое, но менее уязвимое средство передвижения? C мощными пружинами вместо ног? Детский конёк-качалка остаётся на месте, как ни старайся подать его вперёд; четыре независимые пружины наверняка заставят его скакать, наверняка.
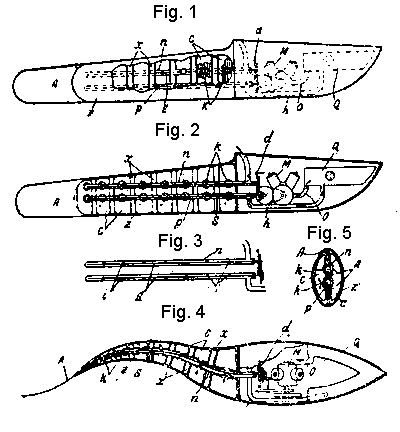 Напрасно вы думаете, что я прилгнул для красного словца. Вот собственноручно выполненный Саймоном (уже Саймоном Питером) чертёж судна-рыбы. Имеется акт ходовых испытаний, заверенный подписями пяти членов Королевского Общества изобретателей им. Генри Кавендиша. Привожу его по выписке, сделанной мною без ведома правообладателя. Это признание ненавязчиво отсылает вас к первой главке повествования, с её пасюками-писарчуками и т.п. юмором висельника. То ли ещё будет.
Напрасно вы думаете, что я прилгнул для красного словца. Вот собственноручно выполненный Саймоном (уже Саймоном Питером) чертёж судна-рыбы. Имеется акт ходовых испытаний, заверенный подписями пяти членов Королевского Общества изобретателей им. Генри Кавендиша. Привожу его по выписке, сделанной мною без ведома правообладателя. Это признание ненавязчиво отсылает вас к первой главке повествования, с её пасюками-писарчуками и т.п. юмором висельника. То ли ещё будет.Моё неспешное повествование закономерным образом откатывается вспять, во времена первой молодости Саймона Питера Гудрича (заключение кавендишского Общества получено им в мае 1938 года).
Первую мировую он встретил во всеоружии навыков и умений, кои применил для литографий «Газовая атака», «Палата обожжённых», «Четвероногие слепцы» и др. Не удивительно, что военное ведомство без сожаления рассталось с молодым баталистом, сокращая численность вооружённых сил после окончания боевых действий на материке.
Как только Саймон Гудрич снял военную форму, он познакомился с Вакхом, который ещё донашивал свою шинель за неимением лучшего. Вакх сразу распознал в молодом человеке изобретателя, родную душу.
Вакхово деление человечества на изобретателей и приобретателей известно всем, стало быть, и последним. Приобретатели никогда не бывают подлинными творцами, но желают прослыть людьми творческой складки. Творческий подход к торговле возможен? Конечно. Объегорил покупателя необыкновенным способом — творческий подход.
И слово творчество стало затёртым и замусоленным. А ведь изобретатель и творец — одно и то же, не так ли. Открывают уже существующее (дверь, например), изобретают — небывалое.
Уже упомянутый писатель из Танзании Mkuzu Mlulu предложил выход из положения: изобретатели должны прекратить называть свою работу творчеством, и говорить, что занимаются фердипюксом.
Ни один барыга не не назовёт свои делишки фердипюксом, ни один. Потому что слово уж больно противное.
С поправкой Mkuzu Mlulu, человечество делится на творческих людей и фердипюксеров, вот как. Вы чьих будете, любезный читатель? Творческий работник, небось?
Итак, Вакх с первого взгляда распознал в Саймоне изобретателя, а уж потом и Питера.
Вакх неспроста одарил Саймона Питера Гудрича роскошью общения с собой. Он предвидел, что тот поделится ею с нами, потомками. И не ошибся, как всегда.
Его молодой приятель оказался выдающимся представителем ничтожного меньшинства, называемого благодарными людьми. Насладился роскошью общения — раздели её с ближними.
Отношения были непростыми, потому что слишком неравноправными. Саймон Питер был должен и обязан, Вакх — порой снисходил, мирволил в добрую минуту. Он с порога заявил, что доверие его завоевать непросто. Как ни старался Саймон Питер, добиться вожделенного доверия он сумел только после санталовской развязки. Потому что стал апостолом, понёс по городам и весям слово учителя. Сначала, кстати, по весям: деревенские парни, которые вызвались помочь предать бренные останки земле Ольстера, со всем вниманием выслушали его получасое изложение мысли Вакха об отличие островного сознания от материкового, и лишь после этого опустили гроб в могилу.
Обыкновенно выставляют Саймона Питера наперсником и душеприказчиком Вакха. Ничего подобного. Никаких поручений относительно рукописей, которые запорошили Санта Ло в считанные дни, последний не давал. Он вообще не собирался умирать, хотя ведал отмеренный ему срок жизни. Знал, но сомневался в своей правоте, видимо.
Уже сказано, что здоровье Вакха было подорвано армейской муштрой и подхваченной в Месопотамии малярией. Приступ следовал за приступом, больной таял на глазах. О своей борьбе за существование он написал страшненькую пьесу «Шекспир под стеклянной чечевицей», где малярийный плазмодий вызывает на бой эритроцит писателя, то есть самого Вакха. Мёртвый язык наглых римлян с презрением отброшен, разумеется. Плазмодий стал пружиной чахотки, эритроцит — красным шариком. Жутко читать, а каково чувствовать себя полем этой битвы?
Битвы, проигранной вчистую, как и следовало ожидать: Люди моей задачи умирают в 37 лет; мне уже 37.
Вакх из последних сил боролся за жизнь, а Саймон Питер беззаветно прислуживал ему. Никакой благодарности, одни упрёки. Вы завезли меня в это гиблое место и ответите за это. Последнее, что разобрал Саймон Питер в шелесте губ уходящего, был вопрос: не оранжист ли он. „Нет, разумеется“, — последовал стремительный ответ.
Оранжистами, если кто не знает, называют почитателей Вильгельма III Оранского, лютого врага католиков. Саймон Питер, как мне кажется, не понял намёка. Я лично считаю, что Вакх понадеялся на сообразительность своего спутника, и напрасно.
Трудно сказать, почему вслед за вопросом не последовал приказ, последняя воля: ни в коем случае не хоронить на погосте англикан, а увести тело на юг, в родной Дублин.
И Ольстер стал бы частью Ирландии, а не последней колонией Англии: во имя чего Лондону терять в гражданской войне, которой нет конца и края, своих томми? святыня покоится не здесь.
Когда душа Вакха отлетела на птице кецаль, Саймон Питер принялся обивать пороги местного духовенства, испрашивая дозволения на погребение тела внутри кладбищенской ограды.
„Боже упаси, католика! Только через мой труп“, — рявкнул поп. Взятка, разумеется, способствовала умягчению пастыря санталовских англикан, и разрешение было-таки дано.
Место самое незавидное, надо сказать.
В сыром углу, где хоронили бобылей и старых девушек — пустопорожний люд. Бездетность хороша при жизни, если в одиночку поклоняешься зелёному змию, например. После жизни она выливается в то, что в могилу могут подселить такого же бобыля: заступиться некому, не рождены плакальщицы по тебе и заступники за оградку твою. Равнодушный заступ ударит о крышку копеечного гроба, потом еще удар — въехал сосед. Но старые девушки, по слухам, не возражают.
Вакха так и похоронили, гроб на гроб, очень мелко. Едва присыпали.
Поэтому могильный холмик дважды провалился да так зарос бурьяном, что полвека спустя, когда останки Вакха было решено перенести в Лондон, ничего не нашли. Как сквозь землю провалился. Всё перекопали — ни единой косточки на глубине шести футов между елью и сосной, как указал Саймон Питер в своих записках.
Горячие головы и решили: вознёсся в теле, как Илия-пророк. Бог им судья, восторженным людям.
Так вот, жена Саймона Питера всячески оттягивала возвращение семьи в Лондон, потому что изменяла мужу с парнем из Санта Ло. Двое детей, Лайза и Рассел, заметьте.
Огрубление действительности, на мой взгляд. Существа с наружными признаками женского пола в местах заключения, например, состоят из дам и коблов; в т.н. розовых парах, поразительно устойчивых, порой ни за что не угадаешь главу семьи; науке известны глубоко несчастные создания, пол коих то и дело меняется на противоположный — люди-маятники.
Лично я пришёл к выводу, что прекрасный пол неслиянно разделяется на 1) будущих матерей; 2) мамаш; 3) пустоцвет.
По моим наблюдениям, пустоцвет составляет ничтожное меньшинство, хотя в эту пересортицу входят невесты напрокат и бескорыстные потаскухи. Пустоцвет ярок и запашист, поэтому так бросается в глаза. Будущие матери могут и не произвести на свет никакого потомства; важно, что они хотят этого. Встречаются и неплодные мамаши, поневоле изливающие нерастраченную ласку на домашних животных, сослуживцев, племянников или пребойкого бутуза-мужа.
Речь пойдёт об измене; вот мои предварительные соображения на сей счёт.
Измена ещё ни о чём не говорит. Изменяют набожные, благочестивые постницы: силён, ох силён враг рода человеческого. Мамаши нарушают супружескую верность из чистого любопытства: а вдруг родимый и вправду лучше всех? Будущие матери блудят, чтобы перейти в разряд мамаш, если спутник жизни подкачал. Но чаще всего женщины изменяют от отчаяния. Муж просто подонок, да некуда податься.
И вот Саймон Питер с Вакхом приехали в Санта Ло. Весна-красна. Травка зеленеет. Солнышко блестит. Корова пасётся на лужайке. Во время зимне-стойлового содержания Нэдда то и дело бегала на сеновал. Хватит кормов бурёнке, или прикупить загодя, пока цена божеская? Помогал ей по животноводству тот самый парень, которому она летом на спину из ковшика слила.
Это санталовский парни, которые вызвались помочь на похоронах, открыли Гудричу глаза: Нэдда гуляет от тебя. Выбей дурь сучке, и обойдётся. Обойдусь без Нэдды, решил Саймон Питер, и оставил её навсегда. И что вы думаете, та немедленно перебралась в Лондон, и давай проситься обратно в жёны. Она была наиблагородных кровей, кстати, из рода Вильгельма Завоевателя. Осада длилась не год и не два. Нэдда, видимо, чистосердечно раскаялась, да что толку. Самостоятельно дожила свой долгий век, без попутчиков. Прекрасная мать. Рассел стал художником, как отец.
Саймон Питер увёз в Лондон из Санта Ло множество рукописей Вакха и его личные вещи. Стальное пёрышко, примотанное суровой ниткой к ветке вербы. Перо, нитка и веточка — вот и все личные вещи.
Пришлось искать законных наследников этого имущества, потому что не был, как сказано, Гудрич ни наперсником покойного, ни его душеприказчиком. Ночевал на дерюжке в предбаннике, но ведь прав на чужую собственность это не прибавляет.
И Саймон Питер разыскал-таки в Дублине родных Вакха. Из пяти детей у Грейндилеров уцелели только девочки, Девора и Китти. Девочки держались молодцом, трудились. Китти здорово навострилась лечить зубы, отбоя от желающих не было. Поэтому родители с лёгкой душой отпустили Девору в Лондон, забрать вещи сына. Девора приехала, и осталась у Саймона Питера навсегда, потому что Майн Гудрич выбрал себе в отцы именно его.
В главке «Сюзанна» я писал, что матерей не выбирают. Если вы не манси, то наверняка удивитесь противоположному воззрению.
Разумеется, сестра Девора не стала исключением: однажды она приснилась Вакху в образе лосося. Наутро в Дублин ушло письмо, где кратко излагалось будущее Деворы: „Мне снилась женщина-лосось в волнах ночного водопада“.
Как известно, через водопады к нерестилищу прорываются девственники и девственницы-лососи. Здесь они превращаются в мужчин и женщин, а потом погибают. Измочаленные трупики поток смывает назад, во всепоглощающую бездну.
Таким образом, Вакх предсказал сестре следующее:
Поэтому Девора смолоду знала наверняка, что станет матерью, и не спешила. Спешат неуверенные, и торопливость их приносит горький плод.
Всеобщая послеродовая гибель — удел дальневосточных лососей; атлантический (благородный) лосось вовсе не обязан умереть на брачном ложе. Сёмга может нереститься до пяти раз. Может, но не хочет дважды войти в одну и ту же реку.
Пророчество Вакха для сёмги начисто лишено мрачных красок. Вот как оно звучит:
Женщин-угрей у Вакха пока не обнаружено, равно и женщин-мурен или женщин-миног (любимый образ Mkuzu Mlulu, кстати). Вакх знает женщину-лосося и русалку, вот и всё. Способна идти против течения — лосось, не способна — русалка, жертва обстоятельств.
На жертву обстоятельств Девора не похожа ни в малейшей степени, даже в степени ¼ из минус-единицы. Вы отпустили бы свою дочь одну в Париж? И Девору родители всячески отговаривали, но добилась-таки своего. Потому что лосось, а не гуппи в банке.
А Саймон Питер кто? Постоянно против течения, по перекатам, через водопады.
Очевидцы приписали ему ершистость. Это недоразумение, мягко говоря. Никаких шипов и колючек, оружия слабаков. Железная воля, упорство в достижении поставленной цели. Форель разбивает лёд, сказал один русский. Форель тоже лосось, не так ли. Скат, обладатель ядовитого шипа, никогда не взломает собой лёд.
Видите, как всё сошлось, чтобы Майн Гудрич появился на свет в 1925 году, как сказано в Encyclopaedia Britannica.
Вакх появился в Санта Ло в мае 1922-го, чтобы уйти с поверхности земли; в мае 1925-го родился Майн Гудрич. Три года, 31. Закономерное противособытие, вот именно.
Нерождённая душа Майн Гудрича отнюдь не была привередой: немногословный силач Ира, окажись он резчиком по дереву или ваятелем, вполне мог добиться её благосклонности. Но Майн Гудрич захотел стать художником давным-давно, ещё в бытность свою и Деворы на Монмартре. Возможно, повлияли этюды Мориса Утрилло, которые они мимоходом оглядывали, спеша в академию Витти.
Кстати, Саймон Питер ничуть не уступал Ире как атлет. Военная косточка, что ни говори. Ставится венский стул. У венского стула высокая гнутая спинка, таких нынче не делают. И Саймон Питер перемахивает через спинку венского стула с места, без разбега. Такие штуки он проделывал до глубокой старости.
Девора приехала в Лондон, имея некоторое представление об отце своего будущего ребёнка. Сохранилась переписка 1922–1924 гг., на удивление сухая. Кто бы мог подумать, что она увенчается непотопляемой семьёй. Как это кто. Подумал и решил, по воззрениям русских северян манси, будущий Майн Гудрич.
 И Майн Гудрич появился на свет, чтобы ему показали, где раки зимуют. Но сначала он узнал, что такое отёк паутинной оболочки мозга, а его родители — до кишок пробирает страх или до мозга костей.
И Майн Гудрич появился на свет, чтобы ему показали, где раки зимуют. Но сначала он узнал, что такое отёк паутинной оболочки мозга, а его родители — до кишок пробирает страх или до мозга костей. В конце концов он перестал этому удивляться, и, как честный человек, изображать себя разрешал только с рогами на голове. Потому что у ирландцев, хотя они живут на острове, подсознание материковое. У англичан сознание, подсознание, поведение, заведения — всё островное, всё.
В конце концов он перестал этому удивляться, и, как честный человек, изображать себя разрешал только с рогами на голове. Потому что у ирландцев, хотя они живут на острове, подсознание материковое. У англичан сознание, подсознание, поведение, заведения — всё островное, всё.Про свистульки Саймона Питера надоумила Девора. У него здорово получались гнутые из бумаги самолётики, так называемые ворóнки, но Гудрич поверил материнскому чутью.
Один русский описал подобный случай: дети глядят сверху вниз на взрослого, который пытается завоевать их доверие изготовлением именно свистулек-зверушек.
Свистульки-зверушки ничего общего не имеют с манком на рябчика. Манок применяется для обмана с целью убийства; свистулька-зверушка помогает решению несопоставимой по сложности задачи.
Задача вот какая: у ребёнка отёк паутинной оболочки мозга так заламывает голову, что затылок вминается в позвоночник, а глаза становятся белыми — зрачки развернуло вверх, под лобик. Он уже знает, где раки зимуют, хватит, довольно!
И тут раздаётся свист с горы: скоро головка не будет болеть, потерпи ещё немножко, милый. Взрослый человек — он же гора в сравнение с ребёнком. Поговорим о свисте в горах.
Представьте себе, что вы Адам. В Библейском Эдеме. Теперь прислушайтесь. Правильно, птичий свист. Свист и щебет. И никаких болезней.
Или проследуйте за Чарльзом Дарвиным в первобытную толщу вод, если не верите Моисею. Толща вод совершенно точно была, а потом кое-где высохла, оставив залежи солей плодородия.
Чарльз Дарвин не спорит с Ветхим Заветом, а всего лишь предполагает, что некоторое время вся биота (разрешённое Вакхом слово) была сосредоточена в водной среде, где отдельные представители этого сообщества постепенно обрели способность общаться посредством обмена звуками.
Что первично, слух или речь? Слух, разумеется. Рыбы воспринимают звук боковой линией, например. Очень долго, если верить Дарвину, все всё слышали, но помалкивали. Трещали чешуёй, бряцали панцирями, царапали шипами о кораллы — и только.
Но по-настоящему говорить научились первые обладатели лёгочного дыхания, киты. Киты свистят, а не пищат, то есть издают звуки гораздо более высокой частоты, чем пискарь в минуту откровенности. Свист китов исполнен смысла, это самый настоящий голос. Норвежцы издали справочник, где каждому набору излучаемых китами частот соответствует определённая речевая единица. Китята-сосунки излучают всегда один и тот же набор, дважды две частоты, который норвежцы переводят как ‘мама’.
Когда часть первобытных вод отступила, киты, коими тогда кишели тёплые моря, приступили к освоению новой среды обитания. Первобытная суша отличалась от моря незначительно. Какой-то банный пар и непрерывные ливни: разрежённая вода, а не суша. В дальнейшем голосовые связки бывших китов огрубели, частота их сокращений понизилась, и мы имеем то, что имеем: речь. Но вначале был голос, потому что вытурившие на сушу маленьких китов кашалоты, нарвалы и финвалы как свистели при Дарвине, так и поныне свистят. Память о прародине и предках кое-где ещё жива. “Мы все киты, и я и ты!” — поют в Патагонии на местном празднике, Дне омовения дыхала.
Патагонцы знают, что голос китов излечивает все болезни. Но поговорим сначала о простой охоте, не подводной.
Теперь о подводной охоте.
Жак-Ив Кусто погружался с аквалангом близ стада китов. Совершенно как в доме с канарейками, говорит.
Кусто был по-галльски приметлив (ирландцам это свойственно чрезвычайно, что не вызывает удивления: даже язык свой они называют гэльским) и обратил внимание на лечебное действие голоса китов. После первого же погружения он забыл о люмбаго, биче ныряльщиков; ещё погружение — ишиаса как ни бывало. И пошло-поехало: полезли новые зубы, срывая мосты с ветхих корешков, распались камни в печени, хрусталикам вернулась детская прозрачность и т.п.
Так кто же прав — Дарвин с его толщей вод или Моисей с Эдемом?
 На самом деле это секта еретиков: Моисея негры признают, Иисуса Христа почитают, но поклоняются по-настоящему только саксофонисту Джону Колтрейну (John Coltrane). Община так и называется: Церковь Джона Колтрейна. Негры считают его более благодатным, чем Иисус: Спаситель исцелял прикосновением руки, Джон — игрой на тенор-саксофоне. Добро бы игрой вживую, тут можно предположить взаимовлияние слушателей (возьмитесь за руки, шире круг, кружитесь быстрее, неистовей; и точно в центр хоровода ударит молния, хотя на небе ни облачка), но Джон продолжает исцелять и после своего ухода с поверхности земли, в записи.
На самом деле это секта еретиков: Моисея негры признают, Иисуса Христа почитают, но поклоняются по-настоящему только саксофонисту Джону Колтрейну (John Coltrane). Община так и называется: Церковь Джона Колтрейна. Негры считают его более благодатным, чем Иисус: Спаситель исцелял прикосновением руки, Джон — игрой на тенор-саксофоне. Добро бы игрой вживую, тут можно предположить взаимовлияние слушателей (возьмитесь за руки, шире круг, кружитесь быстрее, неистовей; и точно в центр хоровода ударит молния, хотя на небе ни облачка), но Джон продолжает исцелять и после своего ухода с поверхности земли, в записи.Теория происхождения видов Чарльза Дарвина верна до точки для рукотворного мира, мира вещей. Они действительно борются за существование не на жизнь, а на смерть; никакой взаимопомощи. Достаточно сравнить тот же саксофон с дудочкой пастуха, свирелью. Свирель днём с огнём не сыскать, а многосложный, замысловато выгнутый, облепленный рычагами и задвижками хобот достанет вас везде и всюду.
Итак, Саймон Питер исцелил сына, улестив его отлетающую с оглядкой душу свистульками-зверушками. И больше ничем? А лечение запахами?
Тюбики невозможно выдавить до последней капли, чуть-чуть краски всегда остаётся. И восхитительный густой запах льняного масла, в котором растёрта сиена или охра, волнами заполнял жилище Гудричей-Грейндилеров по время плавки и литья.
Но почему Майн Гудрич решил покинуть родителей так скоропалительно, в нежном возрасте? С досады, вот почему. В отместку. Он ведь хотел стать художником, а его обманули. Мама никаким искусством не занимается, знай стирает распашонки, греет молоко в бутылочках, пичкает манной кашей, баюкает, когда совсем не хочется спать, а потом уносит подышать бензиновой гарью на балкон. У отца по углам завалы незавершёнки, а сам бегает как угорелый разглагольствовать перед сборищем недотёп. Научить искусству нельзя, сам же говорит. Обманщики. Надули — я вас наказываю, ухожу.
И вдруг — дивный, знакомый с самого нерожденства, ядрёный дух живописи. Не то что горелое копыто беглого молока. Два слова о запахе живописи.
Если у вас дома нет картин маслом, обоняйте их в музее, когда вас никто не видит. Нюхать надо с изнанки. Чтобы лак не бликовал, картины развешивают с небольшим наклоном, в боковую щель и суйте нос. Приятно пахнет? Ещё бы, масло же льняное. Современную живопись обонять небезопасно: кадмий, хром, стронций.
Каждая капля осветлённого масла драгоценна. Растерев с ним белила, можно не беспокоиться насчёт изменения их цвета со временем, что разрушит равновесие цветовых пятен. Этой драгоценностью малые голландцы писали только самые ответственные места — глаза, например.
Браться за воспоминания о дорогом тебе человеке можно, когда осветлённого масла наберётся хотя бы на мазок. Попробуем наскрести.
Зайдите проверить, померкли эти слова или нет. Лет через 23+23.
Тьма порой облекается плотью по закраинам: это престарелая Софья Толстая всплеснула руками за окнами полустанка Астапово. Или Елена Булгакова мечет из комода бельё в поисках забытой заначки для ссыльных Мандельштамов. Или всколыхнётся вековой мрак в глубине своей, пузырём вспухнет — это Ксантиппа воспитывает Сократа: безнравственно совокупляться с отроками, нечестивец. И хлобысть ему лохонь помоев на голову. Живой человек эта Ксантиппа, живой до изумления.
И всё же Александр Грибоедов хорош сам по себе, безотносительно достоинств Нины Чавчавадзе; Илья Репин ничуть не проигрывает без Нордман-Северовой, неукротимой постницы. Смерть Саскии ван Эйленбюрх (Saskia van Uylenburg) едва не внушила Рембрандту мысль о её незаменимости, но служанки умеют хорошо стлать постель — и уже до Саскии никому дела нет: для умиления сердечного нам достаточно попугаев-неразлучников Мережковских.
На виду разве что Наталия Пушкина (1812–1863) и Елена Рерих (1879–1955) — за безмерный, несказанный, ни с чем не сообразный вред, нанесённый мужьям. Пушкина погубила игралище страстей супруга, его плоть; Рерих — душу, отвратив тибетского пустосвята от Господа нашего, Иисуса Христа.
Пусть жёны мыслителей и художников и впредь таятся в непроницаемой тени: „Добрая слава на печи лежит, худая далече бежит”, — ворковал скворушка российской словесности Есенин Айседоре Дункан (Isadora Duncan), кобылице прерий.
Пусть пребывают в совершенной безвестности, да будет. Кроме Айрэн Гудрич. Без неё, как говорят русские великодержавники, народ неполный.
 Долголетие и удивительная работоспособность мужа — неоценимая заслуга этой (не поминайте лихом наивный расклад мой на будущих матерей, мамаш и пустоцвет) женщины; подробностями я завалю вас чуть позже. Смею предположить, Девора Грейндилер вполне одобрила бы окончательный выбор сына: Айрэн — вторая жена Майн Гудрича.
Долголетие и удивительная работоспособность мужа — неоценимая заслуга этой (не поминайте лихом наивный расклад мой на будущих матерей, мамаш и пустоцвет) женщины; подробностями я завалю вас чуть позже. Смею предположить, Девора Грейндилер вполне одобрила бы окончательный выбор сына: Айрэн — вторая жена Майн Гудрича.Провалы в работе разведчика неизбежны, особенно в молодые годы, с их ячеством и зазнайством. Мне было 27, фанфаронства хоть отбавляй, чего уж там.
Должен заметить, что в Лондоне я кувыркался на авось: не просыхал до заплесневения мой предшественник, и его пришлось отозвать (из огня грошового виски да в полымя копеечного коньяка). Обжегшись на молоке, дуют водку: руководство сочло нецелесообразным длительное внедрение агента RAT (Rapid Attracting) в слои населения, злоупотребляющего крепкими напитками, и просчиталось. Недооценили ребят из SIS (Secret Intelligence Service). Такова легенда (‘туфта’, на слэнге КГБ), преподнесённая министру, дабы не выносить сор из избы, как говорят русские (‘изба’ это сруб из древесины хвойных пород; ‘сор’ отнюдь не мусор, а сокращённое ‘сорóм’ → ‘срам’ после перегласовки; см. стыд и срам; не см. срамнóе место).
На самом же деле Майн Гудрич в два счёта раскусил меня, и вовремя принял надлежащие меры личной безопасности. О них я расскажу чуть позже. Собственно, ради этого я и взялся за перо.
Хвалиться нечем, но Сержа Бобкова он раскусил гораздо быстрее. Это не мои домыслы, а слова самого Майн Гудрича; перепроверить их не составило труда.
Возможно, я преувеличиваю его проницательность, преуменьшая бдительность Айрэн.
Ни Сержа, ни Вашего покорного слугу не выдворили из Англии после провала. Более того, Майн Гудрич продолжал поддерживать доверительные отношения с каждым из нас в отдельности, не допуская лишь пересечения в пространстве его жилища.
Не знаю как чекист Бобков, а я с величайшим удовольствием позволял Майн Гудричу использовать меня, как тому заблагорассудится. Кому — тому? Внимание, здание оцеплено. Сдавайтесь! Сдаюсь.
Я плохой человек, и ничуть не стыжусь этого. Благородством в разведке и не пахнет, чистые руки сохранить никому не удаётся. Лицемерие и лицедейство — главное, чему нас учат с первых шагов. Но государство без тайных служб обречено: первые лица будут постоянно попадать впросак и падать на ровном месте от незримых подножек стран-соперниц. Dixi.
Сначала беглый очерк места действия.
Майн Гудрич обитал в двух шагах от Кингс Кросс, в слободке художников. Слободка состояла из двух небольших, по меркам Лондона, домов-кирпичей. Оба кирпича были поставлены на попа, но по-разному: правый, если смотреть с привокзальной площади, — на длинного попа, левый — на короткого. Тот, что на длинного попа, был ещё и надломлен посередине, а отломки соединены под тупым углом, вроде австралийского бумеранга. В кирпиче-бумеранге Майн Гудрич трудился, а в кирпиче-свечке — отдыхал.
Его полноценный отдых обеспечивали жена Айрэн и кошка Киссинджер (см. снимок с Мэри), полноценный труд — миссис Уистлер, владелица кирпича-бумеранга.
 Миссис Уистлер сдавала верхний этаж своего дома художникам, исключительно под студии. Только именитым и благополучным художникам. Этаж был разделён перегородками на двадцать пар смежных помещений, полных воздуха и света. Ночевать там запрещалось под страхом изгнания. Желающих арендовать студию в кирпиче-бумеранге было пруд-пруди, поэтому балкон по всей длине дома был свободен от сохнущих подштаников, и ни одной кастрюли с луковым супом, не говоря о помойных вёдрах, на нём выставлено не было.
Миссис Уистлер сдавала верхний этаж своего дома художникам, исключительно под студии. Только именитым и благополучным художникам. Этаж был разделён перегородками на двадцать пар смежных помещений, полных воздуха и света. Ночевать там запрещалось под страхом изгнания. Желающих арендовать студию в кирпиче-бумеранге было пруд-пруди, поэтому балкон по всей длине дома был свободен от сохнущих подштаников, и ни одной кастрюли с луковым супом, не говоря о помойных вёдрах, на нём выставлено не было.Южная стена верхнего этажа дома миссис Уистлер была глухая, ни одного окна. И вовсе не из-за вида на Кингс Кросс. Вид открывался что надо, садись и пиши. Писал же Клод Моне (Claude Monet) лондонские вокзалы. Сначала, правда, он увлёкся мостами через Темзу: сиреневый туман, лазоревая дымка. Но прадед миссис Уистлер, Джеймс Уистлер (James Abbot McNeil Whistler), писал эти самые мосты ничуть не хуже. И особого настроения, чего так добивался Моне, он достигал наипростейшими средствами, не пестря. Никакой лазоревой дымки над Темзой сроду не бывало, и выставка-продажа Моне в Лондоне с треском провалилась.
Сначала, правда, он увлёкся мостами через Темзу: сиреневый туман, лазоревая дымка. Но прадед миссис Уистлер, Джеймс Уистлер (James Abbot McNeil Whistler), писал эти самые мосты ничуть не хуже. И особого настроения, чего так добивался Моне, он достигал наипростейшими средствами, не пестря. Никакой лазоревой дымки над Темзой сроду не бывало, и выставка-продажа Моне в Лондоне с треском провалилась.
Англичан никогда не привлекал обман, даже и красивый. Именно дым отечества (smoke’n’fog) им сладок и приятен. Поэтому виды Темзы кисти Уистлера скупал на корню не кто-нибудь, а сам лорд-казначей. А вы думали, откуда денежки у миссис Уистлер. Её прадед написал книгу о своём единоборстве с Клодом Моне, «Изящное искусство создавать себе врагов». Всем советую прочесть. Умный человек. Пишет, например, что надо затратить втрое больше усилий на то, чтобы скрыть следы своего труда. Здорово сказано. Жаль, что не впервые. Именно такого прилежания требовал Жозеф Фуше (Joseph Fouche, 1758–1820) от своих осведомителей.
 Чтобы скрыть горечь поражения в поединке с Уистлером, Клод Моне переключился на лондонские вокзалы. Паровоз выпускает клубы дыма, да ещё и стравливает пар. „Вы правды хотите — их есть у меня”, — приговаривал Клод Моне на ломаном английском, отвинчивая колпачок за колпачком с тюбиков свинцовых белил и жжёной кости. Вот почему все до единого “Мосты” Моне оказались в Лувре, а все до единого “Вокзалы” — в Букингемском дворце. Не надо врать кистью, и успех придёт.
Чтобы скрыть горечь поражения в поединке с Уистлером, Клод Моне переключился на лондонские вокзалы. Паровоз выпускает клубы дыма, да ещё и стравливает пар. „Вы правды хотите — их есть у меня”, — приговаривал Клод Моне на ломаном английском, отвинчивая колпачок за колпачком с тюбиков свинцовых белил и жжёной кости. Вот почему все до единого “Мосты” Моне оказались в Лувре, а все до единого “Вокзалы” — в Букингемском дворце. Не надо врать кистью, и успех придёт.Вот почему только самые именитые, самые успешные художники Лондона могли потянуть аренду студии на северной стороне дома миссис Уистлер. Вот почему они досконально соблюдали договор аренды, особенно его пункт о нежилом статусе помещения. А ваш покорный слуга ночевал там без малого полгода. Третье окно справа.
Вид из него вам ещё надоест, заглянем-ка в дом отдыха Майн Гудрича.
Нет ничего приятнее, чем рассказывать о дружбе. Говорят, женщины на неё не способны. Ложь. Это самки не способны, подлинные женщины дружат до самопожертвования.
Семьи художников никогда не бывают многодетными. Никого или один мальчик. Девочек не рожают: матери сполна испили чашу сию, внутренне противятся.
Поначалу я принял Айрэн за свою соотечественницу: она пребойко щебетала по-французски. Иссиня-черные волосы и смуглая кожа — приметы арлезианок, но все они расплываются к сорока до безобразия; Айрэн в свои не скажу сколько была в безупречной форме.
Cлучаев узнать подробности судьбы Айрэн у меня было сколько угодно, но я не воспользовался ими ни разу. Кто научил её французскому языку, как она оказалась в Лондоне, — Бог весть. Айрэн была волшебница, и творила своё волшебство на моих глазах, — прочее неважно.
Во-первых, она волшебно готовила. Сварить овсянку тоже надо уметь, не говоря о пудинге. Но волшебства тут не больше, чем у наших виноделов. Вековой навык и трезвый образ жизни, не более того. Айрэн волшебно готовила осьминогов. Наверное, другие блюда были не хуже, судить не берусь. Не пробовал. Хватило горшочка её варева, чтобы расхотелось пробовать. То есть вообще расхотелось, до убытия в Париж. Только в Сен-Лазар я почувствовал приятный, ненавязчивый голод. Голодок. Вот каких осьминогов умела готовить Айрэн.
Напрочь пропала нужда в пище. В телесном пропитании.
Не помню, чтобы до возвращения из Лондона домой я ощутил малейший позыв пожевать. Пить — да, лёгкая жажда, ничуть не больше обычной. После селёдки, например. Есть не хотелось совершенно.
И это была жизнь, воистину волшебная.
Оказывается, человек спит от усталости.
Говорю не об утомлении, вовсе нет. Я исходил Большой Лондон вдоль и поперёк, участвовал в гонках на вёсельных шлюпках по Темзе, трижды взобрался на Биг Бен, — сна не было ни в одном глазу. Подчас ноги делались ватными, руки тряслись, но спать не хотелось ничуть. Какое-то повальное бодрствование.
Отсюда вывод: человек засыпает от усталости переваривать пищу.
 Остальное время — создаёт или обдумывает произведения своего искусства. Поэтому слава его гремит, и нет в Британской империи знака отличия, которым не удостоила бы Её Величество сэра Майн Гудрича. О заморских наградах речь впереди.
Остальное время — создаёт или обдумывает произведения своего искусства. Поэтому слава его гремит, и нет в Британской империи знака отличия, которым не удостоила бы Её Величество сэра Майн Гудрича. О заморских наградах речь впереди.И не было случая, чтобы тот ослушался, уверяю вас. Если Айрэн молча отходила от мужа, езда в незнаемое продолжалась.