





Название «Тиран без Тэ» (т.е. Иран) получает логическое и символическое объяснениение в примечаниях к «Творениям»: приводится топоним «Тиран» (ок. г. Испагана); отмечено, что Тэ в „звездном языке” означает остановку движения и уничтожение луча жизни (686). С этой точки зрения «Тиран без Тэ» не просто ‘Иран’, а Иран обретающий движение и отодвигающий все, что мешает ему, уничтожает луч жизни. Другими словами, преодоление неподвижности — вот условная символика заголовка «Тиран без Тэ», восходящая к суждению Хлебникова из заметки 1916 года «Перечень. Азбука ума», из которой взяты приведенные в примечаниях цитаты.
Несмотря на то, что составители как бы ссылаются на последнюю волю автора (перебеленный вариант относится к 1922 г.), высказывания Хлебникова о звуке “Т”, относящиеся к 1916 и 1919 гг. (статья «Художники мира»), вряд ли могут быть спроецированы на содержание поэмы: здесь нет момента движения Ирана из неподвижности в иное состояние, нет того пафоса, который пронизывал стихотворение «Видите, персы — вот я иду...». Прочтение же «Тиран без Тэ» как ‘Иран’ вполне вероятно, но гораздо менее соответствует содержанию, чем заголовок «Труба Гуль-муллы», ставший уже по сути традиционным. По этим причинам, цитируя наиболее точный и полный текст по «Творениям», но памятуя, что это тоже не последняя прижизненная, а лишь контаминированная из различных вариантов редакция, мы позволим себе использовать в нашей работе прежнее, привычное название поэмы, тем более что оно, на наш взгляд, не только абсолютно соответствует ее содержанию и смыслу, но и являет собой тот внутренний код, который всегда несут в себе хлебниковские символические заголовки. В данном случае этот код связан с центральной фигурой поэмы — пророком Хлебниковым, спустившимся с гор к народу Ирана, чтобы принести ему весть о новой вере. Образ пророческой трубы, возвещающей о приходе “мессии”, и образ Гуль-муллы (как именовали поэта в Иране), заключающие в себе немыслимо высокую символику Неба, сошедшего на Землю, чтобы прийти к людям в облике носителя веры — муллы, связанного с Природой (Гуль-мулла — священник цветов), — уже в самом заголовке эти образы несут огромную информацию — в духе Хлебникова. Напомним также, что во всех архивных и опубликованных текстах, как и в исследованиях о Хлебникове, включая и относящиеся к последнему времени (т.е. после выхода в свет «Творений»),1![]()
Автобиографическая основа произведения несомненна и отмечена всеми исследователями. Она подтверждена уже известными нам конкретными фактами гилянского путешествия Хлебникова, сообщенными Р. Абихом (1,319–323).2![]()
| «Курск» гулко шел к вам. Кружевом нежным и шелковым, Море кружева пеною соткано (350). | ‹...› Лучшие шелка, раскинутые перед ногами Магомета Севера, на Севере за кормой «Курска» переходили в сумрачное тускло-синее серебро, где крутилось, зеленея, прозрачное стекло волн ‹...› (5, 320). |
| У старого волка морского Книга Лежала Крапоткина «Завоевание хлеба» (350). | Книга Крапоткина «Хлеб и воля» была моим спутником во время плавания. (5, 320). |
| «Наш» — прохрипели вороны моря. (349). | Черные морские вороны с горбатыми шеями черной цепью подымались с моря (5, 320). |
| Белые очи богов по небу плыли ‹...› Снежные мысли, Белые речки, Снежные думы Каменного мозга, Синего лба, Круч кремневласых неясные очи ‹...› (351). | Покрытые снежным серебром вершины гор походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божьих глаз, на строгие глаза величавой думы. Синее чудо Персии стояло над морем, напоминая об очах судьбы другого мира (5, 319). |
| Весна морю дает Ожерелье из мертвых сомов — Трупами устлан весь берег (354). | Берег Ирана устлан тухлыми судаками и сомами (5, 321). |
Таких совпадений и перекличек множество. Уже зачин (Ок! Ок! Это горный пророк!) — парафраз одного из писем к сестре: Персам я сказал, что я русский пророк (5, 321). В статьях, эссе, заметках и набросках автобиографического характера, относящихся к 1921–1922 гг., разбросаны мозаичные “осколки” текста «Трубы Гуль-муллы», ее образные ряды, отдельные лексические блоки, так или иначе напоминающие о конкретных фактах или ситуациях иранского бытия Хлебникова, отраженных в его эпическом опыте. Это могут быть целые куски текста или их смысловое ядро, “перенесенное” в иной национальный мир; точные формулировки и лексемы; вкрапления мемуарного характера, использованные и в поэме, и в заметке того же времени, — примеров можно привести множество.
Так, весь образно-лексический ряд 5-й главки поэмы мы находим в прозаическом опыте «Разин напротив. Две Троицы»; цитированный нами выше отрывок поэмы о снежных вершинах Ирана и глядящих оттуда божьих очах здесь обретает иную почву, но сохраняет тот же содержательный и художественный абрис хлебниковского воспоминания о его видении на борту «Курска», когда он глядел на горы и небо Ирана: ‹...› На белоснежных вершинах Урала, где в окладе снежной парчи вещие и тихие смотрят глаза на весь мир, темные глаза облаков; и полный ужаса воздух несся оттуда, а глаза богов сияли сверху в лучах серебряных ресниц серебряным видением. 3![]()
Другой, менее широкий, но столь же явно “биографически” точный пример. В наброске «Железное перо вербы» (1922) фраза Первая статья писалась иглой дикобраза лесов Гиляна4![]()
Подобных примеров и перекличек, повторим, можно привести несметное количество. Не будем касаться тех из них, которые объяснены в примечаниях Р. Абиха к поэме. Отметим лишь, что вся биографическая канва хлебниковского иранского “сидения” и перипетии его взаимоотношений с людьми Востока, как и коллизии, связанные с отъездом из Ирана, — все это воспроизведено с той степенью достоверности, которая не оставляет сомнений в том, что, несмотря на надетую “героем” на себя маску пророка, особенно в 1-й главке поэмы, читатель не сомневается: перед ним — названный по имени (Это пророки сбежались с гор // Встречать чадо Хлебникова) и сохраняющий свой конкретный внутренний мир и внешний облик автор произведения — сам поэт. Те трансформации, которые претерпевает его образ, — лишь грань художественного замысла, о сути которого будет рассказано ниже. Пока же отметим, что “биографизм” — свойство большинства произведений о восточных странствиях художника, начиная с пушкинского «Путешествия в Арзрум» и кончая хотя бы стихотворением участника того же Гилянского похода Эдуарда Багрицкого «Голуби», написанного по следам событий 1922 г. Процитируем ту его часть, где говорится о сходных с сюжетом «Трубы Гуль-муллы» событиях, для сравнения не столько строя произведений, абсолютно разномасштабных, сколько их внешней ситуативной канвы, восходящей к одним и тем же историческим коллизиям:
Конечно, в стихотворении о голубях это — лишь краткий абрис событий одного года биографии, и замысел поэта абсолютно не совпадает с художественными задачами Хлебникова, но, как и у него, пребывание в Иране, гилянский поход требуют стихотворного воспроизведения — пусть контурно, в летящих, мимолетных строках, в наспех зарифмованных топонимах и внешних признаках Востока... Но слишком долго рвались русские поэты в далекую Персию, чтобы пребывание в ней не оставило следа в их поэзии. След Хлебникова оказался наиболее глубоким. И, вероятно, не одни только биографические впечатления тому причиной.
К моменту, когда созрел замысел поэмы «Труба Гуль-муллы» (работа над ней — накопление не только реального, но и образного “материала” — относится еще к иранскому периоду, а закончена она была уже в 1922 г. в Пятигорске), Иран уже прочно жил в художественном сознании Хлебникова не просто как локально-пространственное понятие — часть Востока, но как концентрированное выражение его эпического мировосприятия: как воплощение некоего особого мира, где могут пересечься мечты и реальность, мифологические представления и самые свежие факты современности, где свершаются пророчества и пророки трансформируются в обыкновенных людей, где лично пережитое и прочувствованное, “вкрапливаясь” в пережитое и прочувствованное людьми иного национального мира, образует вместе некое новое качество, заставляющее раздумывать о категории жанра, которая могла бы обозначить границы и структуру произведения. “Биографическое” в «Трубе Гуль-муллы» важно, “я” Хлебникова обнаруживается в каждой главке, но не лирическое “я”, а субъектная ипостась летописца событий, близкого к “внутреннему” образу эпического повествования. Именно поэтому Н. Степанов назвал поэму „своеобразным поэтическим дневником”,6![]()
![]()
Таким „созданным вновь” представляется и образ главного героя поэмы, собирающий и концентрирующий в себе черты и “мифологического” Гушедар-маха из стихотворения «Видите персы — вот я иду...»; и “учителя” из главы «О Азия! Себя тобою мучу...» («Азы из Узы»); и поэта-пророка, спустившегося с гор с белым пером лебедя в руке, чтобы запечатлеть неведомый мир Ирана и предсказать ему будущее, — таинственного Гуль-муллы; и оборванного урус дервиша, разделяющего выброшенный морем “обед” с бродячим псом... И хотя кажется, вполне искренним (и находящим соответствие в образе главного героя поэмы) зачин одного из черновых набросков 1921 года (Что воспою я? // Что мне воспеть, кроме жизни моей...8![]()
Образ “Я-субъекта” в поэме принадлежит, на наш взгляд, более эпосу, чем лирике.
Если мифология, по словам Маркса, есть „природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазией”,9![]()
Фольклорно-мифологическая струя поэмы, остро звучащая в экспозиционной части, необходима Хлебникову потому, что эволюция “автобиографического” образа Гуль-муллы, по замыслу художника, есть прежде всего эволюция восприятия героя самим народом Ирана и его взаимоотношений с ним. Идея произведения состоит в том, чтобы передать не просто движение урус дервиша по восточной стране, а некое сдвижение душ человека “старого” Востока, словно возникшего из древнемифологической глуби времени, и человека нового мира, не ведомого здесь никому. Прежде чем простые люди Ирана поняли, что явившийся к ним с горных высей Адам веры Севера, видимо, в армейском шлеме с красной звездой на лбу (Саул тебе // За твою звезду)10![]()
Этот облик весь словно выстроен из “блоков” восточного мифа, героического эпоса и богатырской сказки — здесь нет случайных, т.е. не сцепленных с миром народнопоэтического мышления деталей и образов. Как и в мифах народов Востока, как и в «Гургули», «Манасе», «Алпамыше», «Джангаре», «Гэсэре», герой выступает в облике, отражающем „земное перевоплощение мифического божества, связанного с древним культом сил природы и прежде всего солнца”.11![]()
Национально-мифологическое перевоплощение русского поэта в древневосточного пророка, несущего в себе и черты эпического внеземного богатырства, удивительно органично. Синкретизм героя, нерасчлененность его мира с миром первозданных сил, представление о том, что он сам — Природа (воспринимаемая и как синоним Бога), ее душа, ее мощь, ее беспредельность (Я — покорение неба — // Моря и моря // Синеют без меры. // Алые сады — моя кровь, // Белые горы — крылья), заставляют вспомнить не только сходные художественные структуры поэмы «Азы из Узы», но и слова Энгельса о закономерном развитии мифологического процесса в стадии, когда обожествление сил, лежащих вне человека, переносится на самого человека: „Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил”.12![]()
Хлебников в этой части «Трубы Гуль-муллы» обращается именно к тем слоям восточной мифологии и героического эпоса, в которых отразились определенные “общественные атрибуты” народной фантастики, связанные с конкретной национальной средой и с проблемой восприятия и воплощения репрезента неведомых исторических сил. Отсюда — божественно-дикое темное око, стога полночей звездных, в глазах его огонь солнечный и т.п. Но — как и древний иранец (и как любой среднеазиатский гургулихон, бахши или акын) — Хлебников черпает многообразные пласты впечатлений и образов прежде всего в зримом и живом мире окружающего его (их) бытия. Поэтому “надмирность” черт “пророка”, безудержная гиперболичность повторяющихся ассоциаций, их вселенский размах и мощь — стилистика “небесного” ряда — сопрягается (как и в мифе, и в героическом эпосе Востока) с ассоциативными рядами “земного”, национально-определенного происхождения: сопоставлениями с элементами народного быта, уподоблениями, “заимствованными” из кругозора и словаря простого иранца-дехканина или мира азиатской природы. Волосы пророка — как водопад, они толщиной с конский хвост, напоминают черное сено или пшеницы стога, у него смуглый рот, грудь золотая, как желудь, в овчине суровой голые руки, ноги босые; горный пастух его бы сочел за своего.
Важно отметить, что Хлебников не заимствует все это из восточной мифологии или фольклора, а строит свой образ по подобию народнопоэтических представлений, воссоздавая через точно уловленный и оригинально воплощенный тип мифологически-фольклорной образности сам тип национально-народного художественного видения. Но не менее важно, что и “героико-богатырская”, и “земная” струя доминантного образа поэмы типологически сопряжены именно с теми пластами восточного дастанно-мифологического наследия, которые отражают идеалы человеческого родства, связи с родной землей, общего тяготения к Природе, как идее свободного бытия, т.е. помогают художнику в особой, изначально восходящей к народному духу форме выразить смысл и тенденции современных социально-исторических процессов, как понимал их тогда Хлебников. Такому пониманию в огромной, можно сказать, определяющей мере способствовали не только сами ситуации и обстоятельства “гилянского” периода биографии Хлебникова, но и важные его искания предшествующего времени, касавшиеся глубин национального духа народов Востока, их религиозно-освободительных движений и попыток изменить существующий порядок вещей в сферах, относившихся и к “человеческому”, и к “небесному” мирам.
Речь идет в первую очередь о влечении Хлебникова к учению Мирза Баба, о котором он неоднократно писал в различных произведениях до- и послеоктябрьского периода и к идеям которого приник особенно глубоко в бакинскую пору своего восточного житья. Уже из Ирана (в самом первом своем письме к В.В. Хлебниковой) он писал: Уезжая из Баку, я занялся учением Мирза Баба, персидского пророка, и о нем буду читать здесь для персов и русских: «Мирза Баб и Иисус» (5, 320). Судя по тому, насколько часто до этого времени упоминались в его статьях и стихах Баб, Гурриэт эль-Айн, воспроизводились их идеи и образы, разделялась скорбь по поводу их мученической смерти, “слово и дело” Мирза Баба было знакомо Хлебникову и ранее; по-видимому, в Баку он вновь вернулся к важнейшим проблемам бабизма: поискам справедливости и истины, не скованных никакими догмами официальной религии и восходящих лишь к Богу и совести. В черновиках пооктябрьской поры исследователь обнаруживает неоднократное упоминание имени Баба в ряду иных имен великих борцов за свободу духа; в одном случае это соотнесение судеб Баба, Христа и Мохаммеда,13![]()
![]()
![]()
![]()
В пользу предположения о знании Хлебниковым «Беяна» свидетельствует тонкое наблюдение М.С. Киктева, сопоставившего количество глав этой “главной книги” Баба и поэмы «Труба Гуль-муллы».
Приведем вначале отрывок из уже цитированной «Истории мусульманства» А. Крымского:
Именно этот факт и кладет в основу своих рассуждений М.С. Киктев, произведя числовую коррелляцию архитектоники «Трубы Гуль-муллы» и «Беяна»:
Вслед за А. Крымским исследователь напоминает о “сакральном значении” числа 19 в учении бабидов „как выражения Единосущия”, рассматривая его также как „одно из опорных чисел в собственных числовых изысканиях Хлебникова”, „независимо от бабизма”.19![]()
Все это убедительно проясняет глубину не только духовных, но и структурно-художественных связей поэмы Хлебникова и запечатленных в «Беяне» проповедей Баба. Идеи добра и справедливости, объединяющие Хлебникова и его восточного “учителя”, раскрываются не только через сопоставление единого числа, положенного в основу архитектонического каркаса поэмы и «Беяна», но главным образом через утверждаемую всей композицией поэмы мысль о человечности как сути освобождения духа. Идея свободы воли заложена в самом движении сюжета (путешествие по Ирану, причем не связывающее героя никакими “предначертанными” планами) и в выборе главного действующего лица — своеобразного странствующего рыцаря, урус-дервиша, чье “паломничество” не имеет конечной обязательной цели, ибо Мекка — в нем самом, пророке и провидце, уже обретшем Бога. Свобода и есть единственное божество, которому “поклоняется” герой, призывая к этому всех окружающих. Но она не абстрактна, Путь ее — не к Небу, а к Земле, к душе человеческой. Отсюда и общее движение всей сюжетно-композиционной структуры от Неба к Земле, “сверху вниз”: от “пророка” — к сыну человеческому, брату горного пастуха и дикого буйвола, а потом — к и вовсе земному, голодному русскому поэту, не от мира сего, с миром пришедшему к людям Ирана, к необычному, но вместе с тем обыкновенному “дервишу”, напоминающему им (своей неустроенностью и святостью, близостью одновременно к “высокому” и “низкому” мирам) азиатского “дивана” — синоним русского юродивого, блаженного. То, что он человек иной нации, для мальчишек и кардашей, дехкан и рыбаков Ирана не имеет никакого значения; на наших глазах происходит счастливое узнавание в нем, “чужом” — “своего”, ибо един человек. Но и он в своем свободном движении-путешествий узнает их — людей “чужой” страны — как ближних своих, делящихся куском и добрым взглядом, готовых помочь бескорыстно и охотно:
Люди Ирана и природа Ирана — эти основные опорные образы поэмы претерпевают ту же трансформацию, что и главный герой, ту же эволюцию по линии “сверху вниз”. Все, что в начале произведения воспринимается как абстрактно-усложненное, многопланово-символическое, — в конце постепенно теряет свои легендарно-величественные, мифологически-высокие очертания и уступает место образам обыденного реалистического плана.
Окружающие автора фигуры, в которых поначалу трудно угадать воинов революции, ибо они предельно мифологизированы, а их гимн (4-я главка) напоминает древнее песнопение (Мы, обветренные Каспием, // Великаны алокожие, // За свободу в этот час поем, // Славя волю и безбожие), — эти великаны превращаются в процессе знакомства героя с поднявшимися на борьбу людьми в простых, суровых и добрых кардашей (На корточках дюжина воинов. // Курят, молчат, размышляют ‹...› Что-то думают. За плечами винтовки ‹...› // „Пойдем”. Повели. Накормили, дали курить голодному рту. // И чудо — утром вернули ружье. Отпустили. // Ломоть сыра давал мне кардаш, // Жалко смотря на меня ) По сравнению с лексикой и стилистикой зачина здесь бросаются в глаза резкие изменения всей речевой и стиховой структуры: заземление лексико-синтаксического строя; движение образа не через разветвленную высокую металогию, а через строгие опорные конструкции глагольной системы, раскрывающие характер народа непосредственно в молчаливой и не требующей уподоблений и метафор простоте действия. Исчезают возвышенные фигуры небожителей (Это пророки сбежалися с гор ‹...›): “пророки” превращаются в людей, “Магометы” — в обыкновенных Али-Магометов (— Садись, Гуль-мулла ‹...› Черной воды? // Нет — посмотрел Али-Магомет, засмеялся ‹...›).
Та же линия заземления проходит и сквозь образы природы. Почти космические метафоры неба, гор, моря, окружающих пророка и выражающих его собственное величие (Я — покорение неба — // Моря и моря // Синеют без меры. // Алые сады — моя кровь, // Белые горы — крылья), становятся обычным небом (Звезды смотрят в душу с звездного неба), привычным морем — ласковыми или бурными волнами, кормильцами героя (Морем предложен обед // Рыбы уснувшей; Сегодня я в гостях у моря, // Скатерть широка песчаная и т.п.), простыми зелеными садами (По саду ханы бродят беспечно в белье // Или копают заступом мирный огород капусты), обыкновенными горными вершинами и ущельями (‹...› В горном ущелье // Над водопадом гремучим // В белом белье ходят ханы // Тянуть лососей).
“Заземление” высокого, Путь от Неба к Земле в определенной степени повторяет движение доминантных идей в учении Баба, выступавшего против официальной иерархии духовных и социальных ценностей бытия и требовавшего от “истинной” религии уважения и защиты прав простого народа. Эту миссию, по Бабу, можно было исполнить, спустившись с высот небесного ареопага на политую потом и кровью людей землю, установив на ней подлинную справедливость и равенство всех — как “верхов” и “низов”, так и мужчин и женщин.
Очевидно, во многом из этих бескомпромиссных требований Баба проистекает и стремление Хлебникова художественно утвердить историческую необходимость движения “сверху” “вниз” — к простому народу и извечной простоте Природы, с ее неизменными законами свободы всего живого и неживого мира, не зависящей от чьей бы то ни было воли, являющей образец для подражания человеческому социуму.
Конечно, подобное движение идей и чувств в поэме диктовалось не просто следованием поэта проповедям Баба: оно прежде всего соответствовало социальным устремлениям современной эпохи. Но при всем понимании опосредствованного характера влияния бабизма на Хлебникова и огромного значения его собственных реальных впечатлений, связанных с иранским походом, мы все же должны отметить явный примат “бабистского” толкования социальных проблем над “революционным”, восходящим к современности. И проявляется это в первую очередь в отношении Хлебникова к одному из главных вопросов времени — к вопросу о способах установления социальной справедливости.
Прежде чем говорить о них, отметим, что, постигая различные стороны иранского бытия начала 20-х годов, Хлебников не раз воссоздает впечатляющие картины и образы, затрагивающие социальный спектр проблем восточного мира. Иногда это делается мимоходом, например, в сцене, где возникает “проходной” персонаж — сын иранского “хана” (весьма, кстати, простого, сажающего капусту или удящего рыбу) с замашками своеобразного восточного Обломова: А рядом пятку чесали сыну его: // Он хохотал, // Стараясь ногою попасть слугам в лицо (349). Более остро тема социального неравенства звучит в эпизодах и целых главках, где возникают женские образы. Иногда это также мимолетная картинка, внутренний эмоциональный строй которой покоится на двух-трех металогических фигурах, достаточно выразительных, чтобы тонко передать авторское отношение к проблеме:
Порой тема обретает более развернутую характеристику. Так, в девятой главке Хлебников создает сложный и весьма острый метафорический ряд, воспроизводящий образ восточной женщины именно в том ключе, какой был обусловлен не только личными наблюдениями, ио и содержанием многих бабистских инвектив, касавшихся положения иранской женщины-узницы. Баб первый из “пророков” потребовал ее освобождения из темницы, в которую она была заперта законами шариата, освященными Кораном, но отвергавшимися «Беяном».
Внешний рисунок хлебниковского образа идет, естественно, от точного художнического взгляда (уподобление женщины в белой накидке и черном покрывале темной бутылке вина с белой головкой; вообще черно-белый цветовой ряд — доминанта всей темы в поэме) ; но внутреннее его содержание явно навеяно грозными воззваниями Баба и его сподвижницы Гурриэт эль-Айн:
Несмотря на “высокую” концовку, очевидно соотносящую этот трагический ряд (решетка, темница, смерть) не просто с традиционной образностью восточной и русской ориентальной классики, касавшейся женской темы, но и с идеями “пророка” — автора монолога и наследника Баба, в воссозданной сцене (так же, впрочем, как и в иных частях поэмы, где возникает тема социального неравенства) нет той исступленной эмоциональности, какая, в духе времени, должна была бы наполнять подобные эпизоды. И вообще в поэме о “гилянском” походе, о революции в Иране нет ни одного призыва к уничтожению виновников социальной несправедливости, не звучит ни одного выстрела.
Сравнительно спокойную тональность немногих “социально” заостренных главок поэмы можно объяснить тем, что Хлебников, избрав для себя как главную ипостась героя лик и душу пророка и восходя при этом к справедливым требованиям эпохи (свобода, равенство, братство), по-видимому, опирался и на более широкий круг идей, связанных с осуществлением концепции освобождения духа. «Беян» Баба, где проповедь ненасилия играла существенную, если не главную, роль (при всей резкости инвектив автора “нового Корана”), естественно, “не вписывался” в суровую действительность революции и расстрельную практику ее вождей и масс. Однако именно гуманистические идеи Баба (поддержанные введенными в поэму именами Заратуштры и Толстого (355) и доминируют в «Трубе Гуль-муллы», где образцом для личности, рвущейся к свободе, вновь, как и в некоторых прежних произведениях Хлебникова, выступает не “человек с ружьем”, а вечная и гармоничная Природа, связь с которой герой-пророк подчеркивает уже в экспозиционной главе поэмы: „Наш”, — сказали цветы, ‹...› „Наш”, — запели дубовые рощи ‹...› „Наш”, — говорили ночей облака, // „Наш”, — прохрипели вороны моря ‹...›
В поэме Хлебников всячески подчеркивает свою приверженность к ненасильственным путям установления социальной справедливости на Востоке (имея в виду, естественно, не только Восток). Образы оружия даны в его тексте с “обезоруживающей” наивностью и инфантильностью, вполне соответствующим характеру главного героя. Здесь и молчащие, нестреляющие винтовки кардашей, и возвращенное “дервишу” ружье, и ненужные горы винтовок в усадьбе сажающего капусту хана, и по сути бесполезное, превращенное в изголовье оружие самого героя, возникающее рядом то с рукописями, то с колосьями — символами духа и земного бытия:
Образ ненужного, мертвого оружия возникает на фоне образов живой природы — и сиюминутных, тленных (лиса, колосья), и вечных, бессмертных (звезды, небо) — равно как и в соотнесении с эмблемами вечного духа (рукописи, былина, связанная с ней тема народного богатырства). Вместе с тем автор не спешит уподобить себя подлинному Илье Муромцу, с неизменным копьем в руках. Не случайно тема богатырства “продолжена” образом Разина, с которым также сцеплены в поэме Хлебникова важные идеи социального “кодекса” бабизма, относящиеся к тому же вопросу о способах достижения справедливости в человеческом мире. Хлебников открыто противопоставляет себя Разину — вначале в излюбленной форме палиндрома, неоднократно использованной прежде (Разин — Низар[ь]), а затем в тонкой антитезе, где разинскому кровавому “делу” противостоит хлебниковское пророческое слово:
“Напротив”, “навыворот”, “наоборот”; ключ к этой системе открытых антитез, конечно же, не в палиндромном прочтении имени “волжанина” Разина и уроженца Нижней Волги (низаря) Хлебникова. Ключ — в стихе Он грабил и жег, а я слова божок. Разин — символ пути к справедливости через насилие, Хлебников — через пророческое Слово. Его герой предстает в образе Спасителя (вспомним вновь поставленные рядом имена и Баба, и Христа) — спасителя мира, а не только девы-Азии (вспомним «Азы из Узы»), которую Разин в воде утопил, а хлебниковский пророк наоборот спасет. Основанием для убеждения героя в справедливости своей миссии и возможности ее осуществления служит не частное, а общее представление о мире — отсюда введение в главу темы звездной охоты образа звездного скакуна, причастного не к клочку земли, не к России или Азии, но ко всей вселенной; отсюда же включение главных фигур этой части повествования во временную историческую вертикаль. Образ Времени как истинного судьи, вершащего свой приговор не по чьему-то велению или принуждению, а в соответствии с логикой самой истории — один из главных здесь: после приведенного отрывка, кончающегося утверждением Спасу!, следует важная для осмысления концепции Хлебникова формула:
Попытка противопоставить “разинщине” бабизм, революционному насилию — мудрость божественного Слова и бессмертного деяния осуществлена в поэме и на стыке 5- и 6-й главок, где возникают фигуры Гурриэт эль-Айн (Тахирэ) и Разина.
Сподвижница Баба появляется на фоне могучих и трагических в своей фатальности образов не просто природы (горы, снежные вершины, облака), но скрытых в них мифопоэтических фигур высших сил, предопределяющих ход событий:
Только после этой мифопоэтической “преамбулы”, где через структуру “частных” уподоблений раскрывается система общих представлений о том, что судьба земная, человеческая решается на весах Неба, где Природа вновь выступает в роли высшего судьи, чьи законы не пишутся, а существуют как объективная реальность, — только после этого возникает трагическая фигура Тахирэ:
Опуская нас с неба на землю, трансформируя в снежные горы на этот раз не очертания каменного мозга Природы или Бога, а тело казненной Гурриэт эль-Айн, Хлебников обращает мифологию в историю, ища в ней примеры судеб тех, кто пытался изменить ход событий — каждый по-своему. Тахирэ, кажется, избрала ту же судьбу, что Разин: не случайно его образ возникает сразу же после цитированной сцены:
То же море, что вскормило Разина, омывает берега Ирана, где боролась и погибла Гурриэт эль-Айн. Те же горы нависают над современником, тот же ветер пыток овевает его. И так же, как Тахирэ, был казнен ее русский предшественник — борец за справедливость. Но у Хлебникова она избирает свой осознанный путь к смерти: Тахирэ сама // Затянула на себе концы веревок ‹...› Приводя этот исторический вымысел, Хлебников вновь подчеркивает с его помощью, что путь к человеческому счастью лежит не через кровь, а через слово Добра и укора (Спросив палачей, повернув голову: „Больше ничего?”) .
Вещее Слово сильнее и пыток, и казней, и хотя запах Разина явно ощутим над Ираном и Россией, а ветер пыток обвевает героя, он среди снежных гор, в которых ему видится мертвое тело Гурриэт эль-Айн, чувствует себя ее “наследником” — новым “Пророком” XX-века — если не Богом, то божком Слова. Именно поэтому кровавый “Гилянский поход” оборачивается столь мирным и добрым странствием героя по Ирану. В отличие от многих своих спутников, он пришел сюда посланником не вооруженной борьбы, а весны, Природы, человечества. Очевидно, поэтому дети пекут улыбки больших глаз // В жаровнях темных ресниц (353), и кормят “дервиша” люди с винтовками, и из улицы темной раздается возглас: „Русски не знаем, // Зидарастуй, табарича” (352). Это пришедшее из нового времени „Здравствуй, товарищ” вполне согласуется с пересекающимися в художественном сознании поэта национальными образами мира, восходящими к временам, когда кровь Спасителя должна была стать предостережением всем, кто хочет поднять “Знамя пророка” любого цвета под старым лозунгом: „Цель оправдывает средства”. Таким добрым предостережением звучит и выразительный фрагмент 12-й главы поэмы, где образы Природы, взятые в сложной цветовой гамме, символически выражают отношение поэта к национальному и общечеловеческому в аспекте, проблемы Добра и Зла, неизбежно возникающему в ходе революции. Этого слова — “революция” — нет ни здесь, ни вообще во всем тексте поэмы; но оно разлито в самом воздухе произведения и постоянно присутствует во всех главах и раздумьях, сценах и эпизодах, аналогиях и антитезах, ибо «Труба Гуль-муллы» — поэма о путях истории к человеческому счастью, о выборе этих путей на пересечении множества тропинок Запада и Востока. Об этом — и цитируемый отрывок 12-й главы:
Кажется, что речь идет о расцветающих садах Ирана, когда в зеленой листве алеет весенний цвет яблонь, урюка, вишни... Но это — лишь внешний рисунок образа, идущий от реальных впечатлений Хлебникова иранской весной 1921 года. Внутренний мир фрагмента куда масштабнее: в сложной системе метафор, протяженных в мифологическом и историческом времени, он поднимает тему крови и знамени, смерти и спасения, различия (через символику разноцветья) человеческих вер и единства человеческих устремлений к свободе, воплощенной в самой Природе: в желании дерева быть знаменем, в невозможности отделить “кровь” неженки-розы от цвета листьев, малиновый лес от зеленого, багровый закат — от золотых чернил весны...
Образ Троицы, включенный в эту разноцветную картинку восточной весны и соседствующий с “зеленым знаменем” ислама, здесь многозначен и очень важен в контексте поэмы. Троица у Хлебникова — это и образ конкретного времени протекания его странствий по Ирану (он вспомнит об этом в отрывке «Разин напротив. Две Троицы»20![]()
![]()
По сути вся цитированная выше, пронизанная переплетением красного и зеленого образная структура говорит нам о невозможности разделить важнейшие духовно-исторические явления — революцию и веру. Алое и зеленое знамена у Хлебникова, очевидно, одинаково выразительно свидетельствуют о могуществе духа человеческого независимо от расы или вероисповедания. На знамени русской революции Хлебников, думается, мог различить пятна крови мученика Христа (вспомним в этом плане и блоковского Христа впереди двенадцати!) — пятна кровавые Троицы; но ведь и “зеленое знамя” ислама поднимал такой же мученик за веру — Баб, о близости которого Христу, как мы помним, Хлебников собирался читать лекции русским и персам...
При всей кажущейся запутанности пересечений “сюжетов” и образов этой важной главы поэмы, она, на наш взгляд, в неожиданно глубоком, хотя и не привязанном к лозунгам эпохи внутреннем звучании (абсолютно “внеклассовом”) передавала мир Хлебникова периода «Трубы Гуль-муллы» концептуально выверенно. Поэма была продолжением и развитием идей сверхповести «Азы из Узы», «Ладомира», «Ночи в окопе», «Саяна», стихотворений “иранского цикла”, — произведений о единстве человечества под разными национальными знаменами, но с общим для всех пониманием Добра и справедливости, свободы и счастья.
Фактичестки в поэме Хлебников создал свой, особенный, христианско-бабидский образ революции: без насилия, смерти, разрушения чьей-либо веры с единственным “оружием” в устах — Словом “пророков”, зовущим к социальному и национальному равенству, к учёбе у мудрой Природы. Можно сколько угодно говорить о наивности и внеисторичности этих идеалов Хлебникова — он оставался верен им, и весь строй его последней поэмы утверждал их каждым словом и звуком, системой сложных метафорических структур и специфическим цветовым письмом.
В июле 1921 г. Хлебников возвращается из Гиляна в Баку, где напряженно работает над отдельными стихами “Иранского цикла” и поэмой «Труба Гуль-муллы». Все это требует особой восточной ауры и обстановки, так что пребывание в Баку частично может быть объяснено и желанием продлить свою жизнь на благословенном Востоке, ставшем частицей биографии и материалом творчества.
Вместе с тем Хлебников со временем начинает ощущать не только дороговизну и тяжесть большого города, о чем он пожалуется в письме, цитируемом ниже, но, очевидно, и известное несоответствие суматошного городского Востока той прелести иранского лета, тому органичному ощущению себя в мире восточной природы и человека, которое возникло в Гиляне и сделалось сердцевиной творчества. Поэту, видимо, стало не хватать этих могучих гор и глубоких ущелий, зеленых вод и алых садов, несуетных душ человеческих, столь близких ему в его иранских странствиях. Скорее всего именно эти, а не просто материальные и бытовые причины обусловили его переезд на Кавказ в августе или сентябре 1921 г. В упоминавшемся письме к отцу из Пятигорска переплетаются и легко угадываются не только “внешние”, но и “внутренние” мотивы его предпочтения, отданного Кавказу: Вам трудно в Астрахани; но почему вы ее не оставите? Здесь в Пятигорске, или Грозном, или Дербенте, или Владикавказе было бы много легче жить. Баку не советуется — там дороговизна и тяжесть большого города. Пятигорск удобен тем, что здесь при заболевании всегда можно лечь в лечебницу. Железноводск прекрасен летом. Затем здесь постоянное течение в Москву и Питер, и легко проехать туда. Вера как живописец всегда могла бы устроиться в Росте в Пятигорске или дивном, окруженном снеговыми горами Железноводске. Летом путешествовать в горы или к морю, в милый Дербент ‹...› Во многих местах побережья, в аулах, приморском Дербенте дивно хорошо (настоящий рай), и легко найти место. Будущим летом я, вероятно, опять поеду в Персию ‹...› (5, 322–323).
“Персия” продолжает, как видим, жить в душе поэта, воплощенная и в художественных творениях-воспоминаниях, и в поэме «Труба Гуль-муллы», работа над которой продолжается в Пятигорске, и в новых, “кавказских” стихах (название условное), прочно сцепленных в художественном сознании Хлебникова с живой средой не только окружающего его здесь бытия, но и с прожитым и пережитым в Иране.
Коротко проблематику “кавказских” стихотворений Хлебникова можно обозначить тремя главным понятиями: природа, человек, история; рассмотрим их в такой последовательности.
Живая природа Кавказа входит в душу и стихи Хлебникова иногда как гармония, а чаще — как контраст его неустроенной, голодной жизни в Пятигорске и Железноводске осенью 1921 г. Прекрасная, дикая и светлая одновременно, поражающая буйством красок и жесткостью линий, устремленностью вверх, к небу, и вниз, в бездну, кавказская природа завораживает поэта своей красой и прелестью, пробуждает философскую ассоциативность его мышления, обостряет зоркость художнического взора, ведет к созданию изумительных но живописной экспрессии стихотворений «Ручей с холодною водой...», «Сегодня Машук, как борзая...», «На родине красивой смерти — Машуке...», поэмы «Шествие осеней Пятигорска». Недаром, уезжая, Хлебников трогательно и нежно прощается с природой Кавказа, вспоминая растений храмы, грозное ущелье, горную реку, которая по тысяче камней катила голубое кружево (147), пятиглавый Бештау, чьи дикие пропасти напоминают ему графическую схему звукозаписи букв “А” или “У” или — наконечники кремневых стрел древних охотников лука (331)...
Кавказская природа у Хлебникова многокрасочна, радужно-разноцветна. Но в этом, казалось бы, беспорядочно разбросанном, осколочном калейдоскопе красок есть своя логика, мысль, диалектика. Цветовая гамма “кавказских” стихотворений Хлебникова как картина маслом: чтобы увидеть суть, нужно расстояние, дающее возможность охватить общий замысел. Через краски Востока передано общечеловеческое восприятие бытия как естественного круговорота жизни и смерти, мира и войны, покоя и взрыва, безмятежности и трагизма. При этом тона “света” и “мрака” у Хлебникова не сгруппированы в автономные цветовые пятна, а, как в самой жизни, перемешаны и переплетены, воплощая изумительно сложный и постоянно перемещающийся живой мир Природы и в ее объективном движении, и в восприятии человеческой, художнической души, являющейся мыслящей частицей этого мира. Холодный взгляд исследователя может обнажить скрытую в этом разноцветье систему, лишь искусственно расчленив целостный организм “кавказских” стихов, выражающих через внешнее, “пейзажное”, окрашенное в различные тона — внутреннее состояние поэта. Амбивалентность художественного сознания Хлебникова, всегда ощущающего мир в его противоборствах, единстве противоположностей, с огромной силой выражена в многочисленных оксюморонах “кавказских” стихов, где цветовые эпитеты парадоксально контрастны смыслу определяемых явлений
:Старость и смерть обретают светлую, солнечную окраску, и эта общая идея просматривается во всей цветовой структуре “пейзажных” стихотворений Хлебникова кавказского периода. С одной стороны — Золотистый цвет хлеба, Кисть голубая вина, Деревни золотые, Ножами золотыми стояли тополя, Сады одевают сны золотые ‹...› Золото струилось, Золотятся зеленые вещи; с другой — Черных деревьев голые трупы // Черные волосы бросили нам, стадо бежало черными волнами моря и чернели пятна от костров в горах; Горбились серые горы. // Дремали здесь мертвые битвы, // С засохшею кровью гнева и ссоры ‹...›; вздымается Машук — Весь белый, лишь в огненных пятнах берез; на старой груше Омела раскинула свой город, // Могучее дерево мучая деревней крови другой. Мягкие, теплые тона непрерывно, перемежаются красками небытия, крови, пламени, “опровергаются” резкими, зловещими, смятенными, грубыми плевками неумолимого бытия:
Очевидно, именно Кавказ, с его устремленными ввысь вершинами и похожими на кувшины глубокими провалами ущелий, с его сложным рельефом не только природных линий, но и человеческих отношений, полных засохшей крови гнева и ссоры, во многом “продиктовал” Хлебникову это бескомпромиссное распределение света и тени в стихах осени 1921 г. По сути, в радужном многоцветье “кавказского” цикла, в психологической сложности и связи философских значений красок, форм и линий ориентальной природы Хлебников-поэт выразил гораздо больше, чем Хлебников-пейзажист. Прелесть золотых, голубых, зеленых, синих мирных оттенков, мягкая, светлая щедрость тонов долин — и резкая обнаженность снежных, черных, серых, красных, как кровь, и сверкающих, как огонь, красок гор, их суровая, воинственная, мрачная нагота и сила, каменная неприступность и застывшая вечность — это уже не видéние, а видение, не пейзаж, а характер, это — Кавказ в его глубинной исторической и человеческой сущности. Национальные образы кавказского мира отнюдь не автономны по отношению к миру вообще, они лишь в специфической ориентально-выразительной художественной структуре (о ней — несколько ниже) конкретизируют общефилософское осмысление бытия, свойственное Хлебникову и несущее в себе прежде всего константный мотив единства различного: вершины и бездны, нежного неба и окаменевшей земли, вообще жизни и смерти. Не случайно в той же поэме золотые трупики веток тянутся к людям, и “мертвое” говорит “живому”:
Вряд ли стоит искать здесь интерпретацию восточных, в частности, хайямовских философских концепций — скорее это постигнутое Хлебниковым в живом бытии Кавказа и остро почувствованное именно здесь слияние величественного храма Природы с храмом в душе человеческой. Нигде в стихах Хлебникова еще не звучало с такой силой это ощущение неразделимости человека и природы, как в «Шествии осеней Пятигорска» и «Ручье е холодною водой...», где не просто соседствуют, а составляют единый мир сакли аула и горные леса, цветок богов — омела и пастухи — ночные боги, провалы ущелий — кувшины издревле умершего моря — и кувшин на голове печальнооких жен, чалма дождя и медлительная походка горянок... Этот мотив слияния, когда человек воспринимается как атом Природы, особенно остро воплощен в строках прощания поэта с Кавказом:
Неразделимость миров выражена в целостности образной системы и поддержана цельностью авторской эмоции, передающей в кажущейся бессвязной цепочке видений их внутреннюю связь и единство, в которые поэт так глубоко проникает именно здесь, на Кавказе.
Логично, что именно в стихах такого философского наполнения возникает и мотив иного единства, столь давно и бережно лелеемый в душе поэта и находящий благодарный материал для воплощения непосредственно в окружающей Хлебникова национальной среде. Речь идет о том братстве человеческом, которое как бы развивает философскую мудрость мотива Природы (Не надо делений) в его разнонациональном духовном звучании, когда приоритет общечеловеческих ценностей над всеми иными воспринимается как приоритет бессмертной вечности над тщетой сиюминутных тревог, как превосходство истинно человеческой природы над социальными катаклизмами времени. Используя для воплощения этой темы древние библейские образы разделенных по-братски хлеба и вина (правда, в их “кавказском” варианте: чурек и кисть голубого вина), Хлебников придает современному эпизоду встречи русского поэта с горцем то вечное звучание, которое и позволяет с большей глубиной и точностью постигнуть внутреннюю энергию его эмоционально-художественного противостояния Злу, сиюминутной злободневности в грозную пору революционных бурь, волюнтаризма и жестокости “классовых” решений, полной социальной незащищенности человека от неуправляемых страстей или желаний власть предержащих.
Речь идет об эпизоде, когда Хлебников был вызван на допрос в ЧК; “за кадром” в стихотворении «Ручей с холодною водой...» остаются понятные волнения и тревоги автора-героя, тем более, что все кончается благополучно и лишь скрытно-ироничный эпитет передает оценку происшедшего (Через день Чека допрос окончил ненужный). Однако художник отнюдь не случайно включает в стихи как будто тоже ненужную мотивацию своей поездки: именно ей противостоит огромный (и потому занимающий 99% текста) мир Кавказа, его вечных вершин и каменных книг пропастей, неиссякающей воды его бурных рек, — и одухотворенных, также овеянных вечностью людей, похожих на небожителей и в то же время близких любому, кто встретится им в пути.. Величие Кавказа гармонирует с величием души горца и, даже отражаясь в явлениях и поступках как будто обыденного и “невеличественного” характера, подчеркивает ничтожность всего (пусть это и рожденная революцией грозная ЧК), что отстоит от высоких символов Природы и Духа:
В чем-то этот фрагмент стихотворения напоминает “ответ” отрывку из “иранской” «Ночи в Персии»: „Товарищ, иди помогай!” // — иранец зовет ‹...› // Подымая хворост с земли, // Я ремень затянул // И помог взвалить. // „Саул!” (Спасибо по-русски) (144). Та же тема интернационального братства, внутренней готовности помочь друг другу, искренняя благодарность иранца “урусу”, что и русского поэта — горцу, угостившего его чуреком и виноградом. То же еще не дискредитированное официальщиной, а несущее в себе изначальный дружеский смысл обращение “товарищ”, воплощающее для Хлебникова высокую символику концепции единства как товарищества людей на планете Земля, где и само национальное существует лишь как данность разумного бытия, как одна из содержательных форм человеческого, поддержанная Богом и Природой. Не случаен во всех этих стихах высокий образ Неба, одухотворяющего людское братство Руси и Кавказа (так же как и России и Ирана в стихах “персидского” цикла). В «Ручье с холодною водой...» путники внезапно попадают в грозное ущелье, которое
Горы Кавказа, эти каменные ведомости последней тьмы тем лет — часть бесконечной истории Земли, вечной книги вселенной, читаемой неведомым Чтецом Неба, завернутым в чалму дождя. Образ природы обретает одновременно и высоту надмирности, и национальную образную форму ее художественного выражения, свойственную всем стихам “кавказского” цикла.
Хлебников-ориенталист никогда не пишет Восток “вообще”.
Мы сразу чувствуем, что действие происходит не просто на Востоке, но на Кавказе. Средства художественной выразительности реагируют на ориентальную локализацию немедленно: вызванные ею к жизни, они сами и создают эту конкретно-ориентальную вторую действительность: Скакал, как бешеный мулла. Ведь не использовал Хлебников подобных образов, скажем, в «Коне Пржевальского», где герой летит на коне сумрачный, как коршун (78), или в поэме «Ночь в окопе», где на золотистом скакуне просто проехал полководец или по степи конница летела (278). Сравнение же из «Ручья...» могло родиться только на Кавказе, — даже не в Средней Азии, где тоже есть муллы, но они не скачут на конях по горам л ущельям.
Цитированное выше, метафорическое сравнение чалмой дождя также не общеориентально: образ создан не автономно, а в сочетании и переплетении с конкретной картиной, где Восток представлен не только “чалмой”, но и камнем красным, “саклями” “аула”, голубым кружевом пены горной реки и т.п. Он — производное от целостного впечатления, рожденного всем комплексом восприятия художника на Кавказе.
Эти впечатления могут опираться на реальности живого мира природы и быта людей, но они способны возникать и из иных, более общих и гнездящихся в художественном сознании поэта внутренних структур духовной жизни, также связанных с миром Кавказа.
Такова, например, система тропов в двух центральных главах поэмы «Шествие осеней Пятигорска» — картинах “верха” и “низа” Кавказа: Бештау и ущелья, дна издревле умершего моря. В обеих главах металогическая система эта выстроена, в частности, на традиционном образе художественного мышления горцев, не воспринимающих себя, человека, природу, бытие вообще вне оружия — кинжала, меча, ножа и т.п. Было бы, очевидно, упрощением считать просто “визуально-образными” такие, например, уподобления Хлебникова: Орел ‹...› // Крылья развеял свои высоко и броско, // Точно острые мечи (332); Грозя убийцы лезвием, // Трикратною смутною бритвой, // Горбились серые горы; Бештау, ‹...› // Похожий ‹...› // На кремневые стрелы // Древних охотников. лука // ‹...› Небу грозил боевым лезвием, // Точно оно — слабое горло, нежнее, чем лен, // Он же — кремневый нож // В грубой жестокой руке // К шее небес устремлен (331); Ножами золотыми стояли тополя (333) (Ср. с “кавказском” стихотворении Хлебникова 1911 года: Как два согнутые кинжала // Вонзились в небо тополя (73).
При этом подобные образы в «Шествии осеней Пятигорска» именно традиционны: они не призваны подчеркнуть, скажем, смысл конкретной острой коллизии или воинственный характер современных людей, с которыми общался поэт на Кавказе, а лишь должны выявить определенный, закрепленный столетиями традиционный склад их национального народно-поэтического мышления, органично воспринятый Хлебниковым и ставший уже неотделимой частью его собственного художественного осознания в “кавказских” стихах.
Многовековая и полная противоречий история Кавказа, как это ни странно, не затронута в стихах Хлебникова осени 1921 г. Однако широкий пласт исторической проблематики константно возникает в “кавказских” стихах, связанный, как всегда было в его творчестве, с концепцией западно-восточного единства — противоборства. Он формируется главным образом через масштабную историко-ономастическую систему образов, включаемых порой в “неисторический” текст и немедленно имплицирующих установление связи различных эпох и явлений, попытку выявить ее через “числовой код”, позволяющий весьма объективно и точно, по мнению Хлебникова, постигнуть закономерности эволюции общества как чередующихся взлетов и падений Запада и Востока.
Для такого рода художественного осмысления истории особенно характерна структура XVIII плоскости (главы) сверхповести «Зангези», где миром, его движением и судьей правит число, а история покоряется древнему чету и нечету (493):
На протяжении всей XVIII плоскости, представляющей монолог главного героя сверхповести — Зангези (аlter еgо Хлебникова), именно так пересекаются судьбы Востока и Запада — своеобразные априори “вычисленные” Историей, Небом, Фатумом приливы и отливы пространственно-временных перемещений племен и народов Земли. Взятие Ермаком Искера — столицы Кучумового царства — “предопределяет” через эпоху падение Мукдена и поражение при Цусиме; победы греков над персами спустя столетия “отзовутся” падением Царьграда и торжеством турок и т.д. Хлебников не соблюдает в монологе Зангези исторической последовательности иллюстративного материала, для него важен историко-числовой “ключ”, выраженный в магистральном двустишии:
Образ числа, проволоки мира, пронизывает монолог Зангези, многократно возникая в нем — тоже как своеобразная “проволока” всей XVIII плоскости, ее композиционная доминанта. Для поэта важно, что все в мире не случайно, а закономерно, что историческая связь событий, их взаимообусловленность могут быть постигнуты, а сами они, таким образом, предсказаны и вычислены — так, как была вычислена им самим февральская революция, которой и здесь, в монологе Зангези, посвящены знаменательные строки (17-й год. Цари отреклись. Кобылица свободы! // Дикий скач напролом. // Площадь со сломанным орлом ‹...› // Скачет, развеяв копытами пыль, // Гордая скачет пророчица). Явственна перекличка этих строк со знаменитым блоковским „‹...› Сквозь крови и пыль // Летит, летит степная кобылица ‹...›”22![]()
Таким образом, исторические события не имеют у Хлебникова резкого разделения на “национальные” и “социальные”, ибо все они, по его понятиям, есть лишь частные проявления общих числовых законов истории, ее волн, досок судьбы.
Можно заметить, что в «Зангези», часть которой писалась на Кавказе, также как и в других произведениях осени 1921 г., Хлебникова волнуют прежде всего события русско-восточной истории. При этом, как уже мельком отмечалось, произведения, созданные на Кавказе, воспринимаются как некое “продолжение”, развитие, интерпретация исторических мотивов и художественных структур “иранского” творчества Хлебникова. Цепочки образных, металогических, лексико-синтаксических, символически связанных “исторических” пересечений между “Иранским циклом” и “кавказскими” стихами весьма заметны и многочисленны. Сквозные, повторяющиеся образы перекликающихся имен, исторических ситуаций и фигур, порой переносимых из иранского в кавказский ареал, наполняют почти все стихи этой поры, объединяемые общими идеями и мотивами западно-восточного синтеза, составляющими доминантный пласт художественного сознания Хлебникова.
Так, главная струя 4-й главки «Трубы Гуль-муллы», связанная с эмблематической трансформацией образа Разина в фигуру автора-героя (Я — Разин напротив, // Я — Разин навыворот), “переходит” в стихотворение «Я видел юношу-пророка...» (Противо-Разин грезит; Он Разиным поклялся быть напротив) и в той же интерпретации: Разин “сделал волной деву”, умертвив ее, юноша — герой стихотворения — с русалкою Зоргама обручен, он обращает “мертвое” в “живое”, “волну очеловечив” (148). Несколько ослабленный (по сравнению с поэмой) мотив предпочтения Добра — Злу, ненасилия — насилию продолжает волновать Хлебникова, художественное сознание которого в равной степени целенаправленно, в духе бабизма, осваивает и преобразует в поэзию материал русско-восточной истории (Разин и персидская княжна) и современности (юноша-пророк и иранская дева — русалка Зоргама). Подобное — сходное — развитие получают и другие ситуативно-образные ряды “Иранского цикла” и «Трубы...», как бы перенесенные в “кавказские” стихи Хлебникова.
Белые очи богов по небу плыли; Глаза казни // Гонит ветер овцами гор // По выгону мира — эта тема 7-й главки “иранской” поэмы, символизирующая высоту не покоренного ничем, даже смертью, духа Гурриэт эль-Айн, возникает и доминирует как основа сквозного образа в “кавказском” стихотворении о Лермонтове и его гибели — «На родине красивой смерти — Машуке...»:
Небо Востока, горы Востока, высокие ориентальные образы “иранской” и “кавказской” поэзии Хлебникова пересекаются в ней с образами русской истории и русской духовности, образуя целостный мир — движение их к синтезу, к слиянию в рамках этой новой единой книги национальных образов мира в их человечески-общем проявлении, когда Восток Баба и Гурриэт эль-Айн воплощен в своей специфической сущности, но не автономен по отношению к России Разина и Лермонтова, ко всему национальному строю поэзии Хлебникова. Русский поэтичесский язык и стих здесь как бы приникают и к ориентальному вековому источнику, черпая в нем и вдохновение, и особую форму его художественного самовыражения, лексическая или традиционно-образная внешность которой почти неуловима, но проступает в своеобразной общей структуре текста, во внутренних перекличках с предшествующей ориентальной поэзией Хлебникова.
Восток Хлебникова начинался с Кавказа (экспедиция 1905 г. в Дагестан; в поэзии — «Вам»: «Могилы вольности — Каргебель и Гуниб...») и, по сути, завершался им — условным циклом рассмотренных стихотворений и поэм. Осмысливая движение хлебниковского творчества по этому локальному историко-художественному “кругу”, мы устанавливаем прежде всего удивительную константность мирочувствования, неспособность какого-либо политического вмешательства социальных сдвигов в структуру поэзии Хлебникова. Достаточно сравнить «Вам» с 3-й главкой поэмы «Шествие осеней Пятигорска», где сквозь “кавказское” ясно проступает все то же вечное, философское, общедуховное, чтобы уловить, что более чем десятилетняя дистанция не столько разъединяет, сколько соединяет концептуальные и эстетические открытия художника. Грандиозные социальные катаклизмы, скитания и поиски досок судьбы мало что изменили в хлебниковском восприятии мира и человека, Природы и общества, Запада и Востока. Хлебников “кавказских” стихов осени 1921 г. — все тот же Хлебников, хотя и более уверенный в истинности и незыблемости идеи всечеловеческого духовного единства, получившей новые импульсы в окружении вечных горных высей Кавказа, красоты и гармонии его природы, столь близкой к бесконечной гамме разнонационального человеческого мира Земли, в дружелюбных и искренних характерах его людей, постигнутых не абстрактно, а в добром и естественном душевном жесте незнакомого горца.
Завершая первую часть исследования, продолжением которого является настоящая монография, автор отмечал: „В художественном сознании и творчестве Хлебникова Восток, социально-эстетический опыт его народов, как мы убедились не только занимает важнейшее место, составляя огромную часть их “пространства” и “времени”, их проблематики и поэтики, но и во многом выступает как сила, формирующая собственный социально-эстетический опыт Хлебникова”.23![]()
Два кардинальных фактора мощно повлияли на развитие ориентального творчества Хлебникова в рассмотренный нами период. Первым из них был Октябрь. Проблема духовно-художественного “взаимодействия” поэта с теорией и практикой революции (речь идет о стихотворениях и поэмах “западно- восточной” ориентации) была исследована здесь весьма подробно и на самом разнообразном художественном материале. Вряд ли стоит повторяться; вспомним лишь доминантные опорные пункты хлебниковского осмысления Октября: понимание закономерности революции и ее движения на Восток; верное восприятие интернационального характера ее лозунгов, касавшихся духовной связи разных личностей и народов; резкое отвержение ее “низких” методов достижения высоких целей — Справедливости и Братства, единства Запада и Востока на этом Пути — пути Духа, а не насилия.
Вторым фактором, как мы видели, было непосредственное знакомство поэта с реальным Востоком, его многообразным и живым миром, его человеческим духом и лицом, повседневным трудом и бытом людей страны огня — Азербайджана, иранских кардашей и рыбаков, кавказских горцев; с оживающей в них историей Востока, ибо перед русским поэтом были не просто репрезенты той или иной нации, но живые наследники Заратуштры и Маздака, Мирзы Баба и Гурриэт эль-Айн; добавим к этому столь же глубокую близость поэта с могучей и почти одухотворенной природой Кавказа, Закавказья, Ирана с бездонными пропастями и касающимися неба вершинами, с кувшинами ущелий и синевой каспийских волн...
С обоими названными факторами тесно связан и третий: на позднего Хлебникова особенно мощно воздействует великое художественное наследие народов Востока, их тысячелетняя мифология и классика, получающие как бы новые импульсы в движении революционных масс к Истине, Справедливости и Равенству, завещанному лучшими из предков. Разветвленная поэтика Авесты и Бундахишна, традиционно-символическая характерология «Шах-намэ», философская проблематика и эстетические структуры Мудрецов восточного Ренессанса — далеко не полный перечень источников художественной ориенталистики позднего Хлебникова, опиравшегося ранее на иной (хотя и не менее широкий) круг идей и образных систем духовно-художественного мира Востока (индийские атхарваведы, орочонская мифология, эпопеи Низами и др.).
Подобная смена “заимствованных” или типологически сходных ориентиров отнюдь не была случайной. Значительное расширение традиционно-художественного фонда Востока, лежащего в основании многих творений хлебниковской ориентальной поэзии 1917–1922 гг., закономерно по ряду важнейших причин, главными из которых были именно названные выше факторы. Происходит не просто “количественное” движение Хлебникова по “горизонтали” — накопление и увеличение диапазона привлекаемых тем, сюжетов, характеров, форм восточного наследия, — но и углубление явлений и процессов подобного рода по “вертикали”: избираются те новые пласты художественного и философского мира Востока, которые, во-первых, наиболее заострены социально и в максимальной степени соответствуют революционным настроениям и сдвигам времени, а во-вторых, в наибольшей степени близки непосредственно живому, реальному человеку самого Востока, с которым в эти годы также “вживе” общается и сближается русский поэт. Наблюдения над поэтикой Хлебникова-ориенталиста позднего периода приводят к выводу, что она претерпевает некоторые серьезные изменения в сторону меньшей усложненности, композиционной концентрированности, приближения сюжетных коллизий к реально-биографической ситуативности, большей ясности семантических аспектов текста и его языкового оформления, известной десимволизации и даже порой деметафоризации художественного строя поэтической речи. Эти явления также находятся в связи с названными выше историческими и биографическими процессами общего и частного плана, коснувшимися жизни и судьбы Хлебникова в рассматриваемый здесь период. Вместе с тем вряд ли можно характеризовать путь Хлебникова-художника в его ориентальном творчестве как некое упрощение или обеднение собственной поэтической манеры: это просто и прежде всего поиск стиля, “отвечающего теме”, открытие самого себя в той новой ипостаси, какая не нужна была, очевидно, Сыну Выдры, но сделалась духовнохудожественной необходимостью для урус дервиша, Гуль-муллы, героя и автора “иранского” и “кавказского” циклов, сверхповести «Азы из Узы» и поэмы «Ладомир»...
Автор настоящего исследования, имея в виду и первую его часть, упомянутую; в начале заключения, отнюдь не считает тему “Хлебников и Восток” в серьезной мере исчерпанной. Скорее всего нужно говорить о том, что она лишь пунктирно намечена в главных своих линиях, локально, биографически, проблемно и эстетически возникающих в ориентальной поэзии Хлебникова. Еще не раскрыты многие вопросы, связанные с особенностями поэтики Хлебникова-ориенталиста, с пересечениями общих планов его творчества и специфических проблем западно-восточного синтеза, со схождениями и различиями в подходе к “восточной” теме у Хлебникова и его великих современников — Бунина, Блока, Гумилева, Волошина, Брюсова, Бальмонта, Кузмина и других поэтов Серебряного века.
Отдельные монографии, многочисленные статьи, исследования и доклады на Хлебниковских чтениях в Астрахании и Ювяскюля, Ленинграде и Стокгольме убеждают в том, что масштабное открытие Хлебникова-ориенталиста — константный творческий процесс целой плеяды ученых-славистов и востоковедов, движение которого почти беспредельно, во всяком случае настолько, насколько бесконечно актуальна и глубока великая поэзия Велимира Хлебникова.
| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 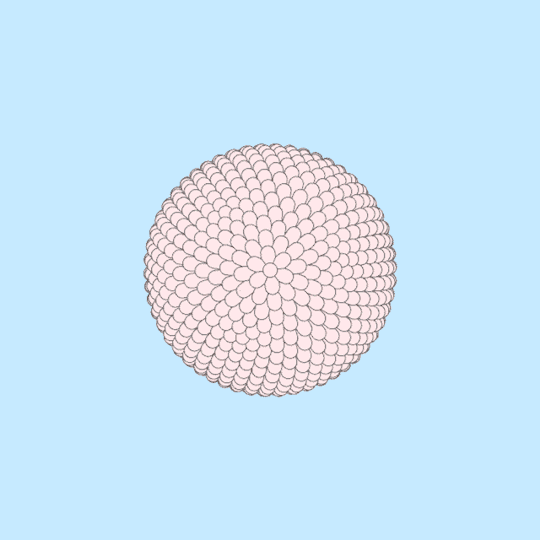 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||