


В «Азах...», при всей их гуманистической направленности, несколько расплывчата струя социальная: общность рода человеческого рассматривается как истина непреложная, но в известной мере абстрактная; это скорее призыв, прорицание, пророчество, чем постижение корней исторической диалектики. Провозглашаются следствия, но не устанавливаются причины.
«Ладомир», наоборот, поражает своим социальным накалом. Поэма во многом перекликается с «Азами...», в нее введена целая главка хлебниковской сверхповести («Туда, туда, где Изанаги...»), а тема переклички великих рек полностью совпадает с центральным мотивом «Единой книги». Но в основании символических образов (подобных эмблемам «Единой книги»), сходных мотивов и тем (перекличка разнонациональных нравственно-философских основ бытия, взаимопроникновение человеческих культур) лежит более ясная социальная идея — мысль об осуществившейся революции. Именно в ней Хлебников «Ладомира» видит начало мировой общности людей и народов:
В этом значительном эпическом полотне Хлебников более последовательно, чем в «Азах...» и других своих творениях, ставит проблему русской революции с той максимальной широтой, какая диктовалась и тогдашним ощущением скорого прихода мировой “победы пролетариата”, и всем состоянием души художника, издавна решавшего проблему свободы не в узконациональном, а в общечеловеческом контексте. Божественный взрыв давал этому состоянию особый творческий импульс. Тема духовного единения людей и народов Запада и Востока рассматривается в «Ладомире» в прямой зависимости от того, насколько мощно разгорится пламя, зажженное Россией в октябре 1917 года. Не случайно Юрий Тынянов называл поэму Хлебникова в числе нескольких произведений художника, представляющих собой „может быть наиболее значительное, что создано в стихах о революции”.2![]()
Некоторые черновики поэмы дают возможность увидеть направление мысли Хлебникова, смещающего акценты «Ладомира» (по сравнению с поэмой «Азы из Узы») в сторону усиления социальной остроты. Напомним, что в «Азосоюзе», других сходных документах, нашедших отражение и в художественных текстах 1917–1920 гг., в том числе в поэме «Азы из Узы», Хлебников исходил из идеи освобождения Азии как начала всеобщей свободы человечества. И характерно, что и «Ладомир» поэт в одном из вариантов (возможно, первом) начинал в том же ключе:
Разночтения с каноническим вариантом зачина поэмы «Ладомир» здесь значительны: несущее в себе несколько скрытый, изначально присущий, личностный характер понятие ‘коварство’ заменяется более обнаженным и острым ‘злорадством’; абстрактно-всеобщее мы обратим обретает вид непосредтвенного обращения к “герою” — классу или человечеству: ты обратишь. Но главная замена с точки зрения отмеченных выше сдвигов в системе духовно-эстетических координат Хлебникова, — это введение вместо традиционно-символического для него понятия Азия иного слова, концентрирующего в себе фактически тот же концептуально-философский смысл (ибо Азия у Хлебникова этой поры — образ рабства, рвущегося к свободе), но смысл, переданный “открытым текстом”, впрямую, что отвечает всей художественной структуре и замыслу «Ладомира»:
Интересно, что в экземпляре «Ладомира» (печатный текст) из журнала «Леф» (1923, № 2) “с правкой неустановленного лица”4![]()
![]()
Подобное заострение возникает и в мотивах и образах «Ладомира», казалось бы, просто “повторяющих” символику «Единой книги». Так, тема слияния и единения великих рек получает в «Ладомире» не просто абстрактно-гуманистическое, но и социальное наполнение, будучи продолженной в конкретно-революционном ключе. Провозглашаемая реками идея (окончания стихов, составляющих их “диалог”, читаются так: „Лю” — „блю” — „весь” — „мир” — „я”) завершается современно звучащим призывом к общественному равенству:
Всем всё — этот клич принадлежит уже не великим рекам, а нам — поэту и его единомышленникам, фактически — тем, от чьего имени написана поэма-оратория: народу или народам мира, обретающим свободу.
Переход к “открытому тексту” знаменовал собой и определенную “десимволизацию” стилистики, когда лозунги революции становятся образами поэзии. «Ладомир» Хлебникова, так же как и «Скифы» Блока, показывает, что этот процесс коснулся и темы “Запад — Восток”. Старые “восточные” хлебниковские символы и эмблемы обретают здесь новое звучание, получают новое наполнение. “Западная” и “восточная” звезды в круге небосклона из «Медлума и Лейли» теперь воспринимаются и воссоздаются так:
Древнемифологическая тема — образ Вавилонской башни — возникает в этом четверостишии как импульс переосмысления восточного мифа о разрушенном единстве разноплеменного и разноязычного конгломерата людей. Разъединение народов по национальному признаку (а язык — одно из главных его проявлений), так же как разъединение по этой причине влюбленных (тема «Медлума и Лейли») теперь невозможно: революция провозгласила именами великих “разнонациональных” рек: Люблю весь мир я!, и не случайно ее лозунг Всем все, всегда и везде! — лозунг социального равенства — продолжен у Хлебникова библейским образом самой древней единой книги:
Язык любви и язык революции, при всех мучительно сложных факторах и „злорадных” формах ее осуществления, достаточно ясно представленных Хлебниковым в «Ладомире» (темы огня, взрыва, убийства, мятежа, свинцовой вьюги, расстрела небес и т.п.), смыкаются, — во всяком случае в прорицаемой художником перспективе. Нежный язык любви и жесткая речь революции не разъединены в «Ладомире» — они образуют ту диалектическую целостность стилистики, которая, будучи воплощена в художественном тексте поэмы на многих его уровнях, выражает противоречивость сложнейшей эпохи, и складывающуюся заново систему восприятия ее художественным сознанием Хлебникова. Проблема западно-восточного взаимотяготения (любви) обретает конкретный, реальный воздух времени, а старые символы входят в новые, резкие, обнаженно-натуральные структуры, перемешиваются с ними, давая возможность постигнуть ту мысль поэта, что достижение единства народов — не абстрактно-словесный процесс всеобщей “договоренности” (введение темы Вавилонской башни доказывает, что, по мнению Хлебникова, это невозможно), а сложнейшая борьба исторических сил, полная жестокости и насилия, воспринимаемых автором «Ладомира» как неизбежность. Отсюда — резкие смещения тем и западно-восточных символов, композиционные перебивы ритмов, внезапные переходы от ласкового языка любви к мятежной, дымящейся, полной высоких образов и низких реалий амбивалентной речи — языку кровавых сражений и риторического пафоса времени:
Обратим внимание на то, что тема разноплеменного единства, “смешения” культур Запада и Востока, воплощенная в образах иранской поэтессы-воительницы, реформатора буддизма, безымянной славянки с русою косою,6![]()
Подобное нагнетание жестко-определенного цветового обрамления интернациональной темы, которая сама по себе воссоздана через систему светлых, ласковых, добрых стилистических красок, передает амбивалентность внутреннего самочувствия Хлебникова, ощутившего невозможность движения к единству духовных сил человечества вне неизбежных конфронтации исторического процесса, где малейшее сдвижение идей не может обойтись без столкновения социальных сил. Вместе с тем поэт постигает внутреннюю связь, сцепление этих явлений, причем, как позволяют судить наблюдения над фоникой приведенного фрагмента, взаимотяготение духовных энергий народов, их культур может, по внутреннему ощущению Хлебникова, оказать глубокое гуманизирующее воздействие на душу человека революции. Вслушаемся в голос поэта: даже в самых жестких по лексике частях “обрамления”, где, казалось бы, совершается шабаш смерти — огня, битвы, расстрелов, кровавого месива развороченных в сражениях тел (алое говядо), — звукопись художника как бы спонтанно противостоит этому разгулу воинственных страстей, человечность внутренней идеи — центральной части отрывка — смягчает ужас происходящего. Это ясно выражено нагнетанием нежного звука “Л” в сочетании с открытыми гласными: ПыЛАет, цеЛЫй, пЛАмени, АЛое, дымиЛОсь, расстреЛА, смеЛО. Отсутствие резких, скрежещущих звуков, внутренний контраст общего звучания “зачина” и “концовки” фрагмента с их содержанием, на наш взгляд, не случайно и призвано передать общую гуманистическую направленность «Ладомира», в котором пламя и кровь революции не затмевают прозреваемой художником перспективы, а грохот битв не заглушает вещего голоса великих рек, сливающегося с тихим голосом Хлебникова: Люблю весь мир я!
Таково соотношение тем революции и человеческого западно-восточного единства на Земле в поэме «Ладомир» — наиболее значительном произведении Хлебникова пооктябрьской поры, во многом определившем и дальнейшее его движение в исследуемых нами аспектах проблемы “Запад — Восток”.
При всех довольно частых и вполне понятных у Хлебникова ассоциациях революции с образами взрыва, мятежа, насилия, сшибки страстей и разнонаправленных сил, Октябрь воспринимается им в первую очередь все же как начало мира — эры взаимопонимания людей, сменившей длительную эпоху скрещения мечей. Именно поэтому если у мучающегося, “земного” Блока тема ветра в «Двенадцати» близка к образному воплощению шквала народного гнева, сметающего с лица земли “старый мир”, то у более “надмирного”, “космичного” Хлебникова, всегда не только схватывающего момент истории, но и объемлющего ее протяженность и движение, образ ветра звучит и в иной тональности:
Выбор данного стихотворения для анализа определяется не только концептуально значительной “сердцевиной” текста (В струны великих, поверьте, // Ныне играет Восток), к которой мы еще вернемся. Как и в «Азах...» и «Ладомире», здесь важна соотнесенность всего образного строя произведения с вынесенной в зачин (в символическом образе ветра) темой революции, с установлением в “открытом тексте” (ныне) точного времени протекания лирического душевного жеста, относящегося именно к современности, т.е. к сложной и полной острых противоречий эпохе 1918–1919 гг., живо волнующей Хлебникова. Не случайна в этом плане перекличка устанавливаемого момента со столь же точно определяемым самим названием временем в главе поэмы «Азы из Узы» — «Современность», где так же символично переплетаются темы революции и Востока.
Особая интерпретация образа ветра (ветер–пение) вполне согласуется у Хлебникова с его общей эволюцией восприятия мира как явления Природы, в котором человечество есть некая разноплеменная и разноязычная масса живых, мятущихся, сталкивающихся в братоубийственных бойнях сил, против чего восстает и первоматерь Природа, и ее “перводитя”, ее глас — певец, Поэт. Это — одна из главных, “старых” тем Хлебникова, продолженная на новом этапе его творчества. Именно отсюда — столь явное “повторение” в «Ветре...» одной из кардинальных идей «Кубка печенежского», где еще в 1914 г., сумев встать по “ту сторону” национального барьера,7![]()
| «Кубок печенежский» | «Ветер–пение...» |
| Вот зачем сижу я, согнут Молотком своим стуча. Знай, шатры сегодня дрогнут, Меч забудут для мяча (90). | Ветер–пение Кого и о чём? Нетерпение Меча быть мячом (112). |
Точно так же, как смертельный посвист меча может быть сменен веселой игрой мяча, ветер смерти (образ ее не случайно возникает и в этом стихотворении Хлебникова) не должен свистеть над землей: поэту слышится лишь ветер–пение, видимо, пока из будущего — из тех времен, когда возникнет, новая гордость, данная людям Природой, Пророком новой веры: Быть может, нам новую гордость // Волшебник сияющих гор даст, // И, многих людей проводник, // Я разум одену, как белый ледник.
Образная система этого четверостишия весьма многозначна и вполне вытекает из общего строя произведения. Традиционный образ струн через фигуру поэта-пророка органично включает в текст важную для Хлебникова лексему проводник, выполняющую и непосредственно открытую, семантически точную роль и внутренне тонкую философскую функцию, связывающую все эти значения; металогических переплетений с образом Востока, пробужденного ныне к великой цели: победе человеческого разума. Это слово не случайно вынесено Хлебниковым в последний стих произведения, явственно перекликающийся с важным четверостишием из «Ладомира»:
Здесь важно помнить не только то, что Людостан (хлебниковский синоним Ладомира) — это образ свободного человечества, освобожденного революцией разума, который единственно противостоит распрям и войнам на Земле. Важно и то, что фигура Гайаваты избрана Хлебниковым из того ряда великих, который, по его мнению, должен быть представлен в виде памятников, знаменующих единство людей и рас, национальных гениев и интернациональных символов равенства. В «Предложениях» Хлебникова, относящихся к тому же времени, что и стихотворение «Ветер–пение...», есть абзац, полностью совпадающий с приведенным катреном из «Ладомира» и своей перекличкой имен Гайаваты, Крученых, Бурлюка и Гурриэт эль-Айн напоминающий западно-восточный контекст и смысл произведения о ветре:
Хлебников в этих «Предложениях» — это и есть многих и “разных” людей проводник, объединяющий здесь (как в иных творениях — реки) Монблан, утесы Никарагуа и Анды, индейца Гайавату, европейцев Крученых и Бурлюка, “персианку” Гуриэт эль-Айн, не отделяющий Восток от Запада, будущее от настоящего, когда, прорицая все это, в струны великих ‹...› играет Восток, разбуженный революцией. Некоторые свои произведения Хлебников называл сверхповестями. То, о чем говорится в «Азах...», «Ветер–пение...», тоже может быть снабжено приставкой ‘сверх’: это своеобразная “сверхидея” Хлебникова, связывающего “концы” земной оси и души разных детей Земли и проводящего эту “сверхидею” через все творения пооктябрьской поры — даже те, которые, на первый взгляд, не “вписывались” в круг проблем, с ней связанных. Именно это определяло удивительную целостность художественного мира поэта, его содержания и внутреннего единства образно-стилевых форм.
Идею единства разнонациональных типов мышления Хлебников утверждал различными способами, порой весьма декларативными, хотя и закамуфлированными “географической” или ономастической символикой, а иногда внутренне спрятанными в иносказание, в “случайную” перекличку внеположных друг другу образов, даже в сюжетно-композиционную структуру вещи. При этом главным для поэта была не “борьба” за объединение рас, наций, народов, культур, а установление духовной ценности их исторически самоопределившегося внутреннего мира, может быть, разительно отличающегося от иного национального бытия и сознания, но требующего признания в тех типах и формах, в каких он существует или существовал когда-то, со своими особенностями, признаками, этическими и эстетическими нормами и т.п.
Момент возможного “слияния” этих национальных сущностей Хлебников неизменно связывал с поступательным историческим движением народов к будущему “свободному человечеству” и, естественно, в этой связи — с Октябрем. Но никогда, ни до, ни после революции, тема единства разнонациональных данностей мира, ни в материальном, ни в духовном их проявлении, не выходила у Хлебникова за рамки доброго пожелания или прорицаемой перспективы общечеловеческого развития на Земле.
Очевидно, именно поэтому в ряде произведений 1919–1920 гг. поэт, избирая для художественного воплощения различные проблемы, на первый взгляд, изрядно отстоящие от исповедуемой им концепции мирового устройства, более того — кажущиеся частными и имеющими отношение лишь к характерологической сфере, — нередко ставил и решал через “частное” и “бытовое”, “древнеисторическое” и “мифологическое” важнейшие вопросы своего мировосприятия, касающиеся судьбоносных моментов жизни сегодняшнего и завтрашнего человеческого социума на Земле. При этом естественно, что доминантная линия размышлений в таких произведениях не могла не пройти через восточную (как и западную) систему координат. Но столь же логично, что “национальное”, “восточное” или “западное”, в силу особой структуры самого замысла, “упрятанного” здесь (в отличие, скажем, от «Единой книги» или «Ладомира») далеко вглубь, “внутрь” художественного текста, в общую систему его целостного “организма”, возникает в таких произведениях без помощи символических образов и разнонациональных эмблематических перекличек. Впрочем, возникновение самой идеи западно-восточного пересечения порой вообще не связано у Хлебникова с конкретными истоками или источниками, равно как и с фактами его биографии или личными впечатлениями художника, хотя в последующие (“бакинский” и “иранский”) периоды жизни именно они играли основную роль в движении концепции единства Запада и Востока у Хлебникова.
Несколько отступив от разговора об этой концепции (но в рамках проблемы “Хлебников и Восток”) следует отметить, что иногда импульсы возникновения “ориентального” в его схождениях с “неориентальным” в произведениях Хлебникова пока не могут быть установлены с необходимой точностью; скорее всего, это дело времени. Однако семантика и структура подобного текста, созданного нередко вне прямого воздействия живого Востока и не связанного с конкретными впечатлениями или источниками, дают возможность уловить постоянную нацеленность художника на диалектику человеческого национального взаимодействия, масштабность внутренних связей “частного” и общемирового в его эстетическом мышлении, необозримо протяженном в пространстве и времени.
Все эти наши рассуждения есть не что иное, как дальние подступы к анализу «Саяна», написанного, очевидно, в Харькове в 1920 г. и при первом, поверхностном чтении привлекающего исследователя рассматриваемых здесь проблем лишь отдельными картинками восточно-сибирской языческой мифологизированной истории, представленной в первой части произведения.
Однако внимательное прочтение всего текста и сопоставление двух разделенных его частей приводит к углубленному пониманию сложного замысла и концептуального смысла «Саяна», его звучания в общем русле хлебниковских интернационально-гуманистических идей раннего пооктябрьского периода.
Источник «Саяна» установить не удалось. Составители «Творений» предполагают, что „поводом к написанию стихотворения, возможно, послужила остающаяся пока не известной репродукция с картины (открытка? иллюстрация?)” (670). Но вряд ли это имеет серьезное значение. Мы знаем, что художественное воображение поэта переносило его в самые далекие уголки пространства и времени — в данном случае это глухомань Саянских гор и вечное небо над ними, отраженное в реке, по которой плывет потомок древних язычников, Охотник, сохранивший в душе благоговение перед верой и духом страны отцов:
Сущностно важное слово очарован относится здесь не просто к одинокой скале (камню-одинцу), а к творению неведомого восточного художника-первопредка, изображенному на этой скале и воплощенному в тонкой словесной живописи русского поэта:
Все это воссоздано в I части стихотворения. Но отмеченное нами слово очарован повторяется и во II, поскольку и здесь нарисовано творение другого национального мира, — древняя русская икона, каким-то чудом водруженная над рунами и наскальными рисунками восточных язычников на высящейся одинокой березе. И образ красоты, — иной, воплощенной не в суровой клинописи и глазах старинного бога, не в изображении оленьих стад и сказочных птиц, а в лике Христа или Богородицы, но тоже красоты, понятной и захватывающей иную душу, — вызывает то же Слово современного художника:
Два отделенных целыми эпохами времени, два национальных мира, воплощенных в двух непохожих творениях человеческого духа и и таланта. Грубо-древние черты одного и „ветхость” другого не поколебали, однако, их духовно-эмоционального восприятия у современного человека, их потомка; и восточный кочевник, наследник языческих отцов и богов, и русский отрок равны в своем наивно-детском восприятии не просто наскального изображения и иконного лика, но их духовной красы, столь близкой сердцу человеческому. Время, кажется, остановлено взором Хлебникова (в экспозиции: Саян здесь катит вал за валом // И берега из мела. // Здесь думы о бывалом // И время онемело), но лишь для того, чтобы уловить его внутренний ход, воплощенный в человеческих душах и поколениях разных народов и в их духовно-художественных символах, обожествляемых, божественных, вызывающих поклонение и потому вечных.
Образ вечно текущей воды (вал за валом в зачине и водопад в последнем стихе) обрамляет стихотворение как образ вечности — времени, единого для всех, текущего в одну сторону, но не меняющего национальной духовности того, что неизменно хранится в сердцах и душах. Композиционная перекличка экспозиции и концовки — образ водяного “кольца” — закрепляет эту идею непреходящей и вечной жизни национально ощутимого самовыражения, воплощаемого в художестве.
Вся эта сложная цепь хлебниковских раздумий и образов в обеих частях стихотворения дает возможность постигнуть в целостном исследовании замысел «Саяна» как концепцию осознанного сопоставления не просто “язычества” и “христианства”, но вообще восточного и западного типов духовности, при всех своих различиях несущих в себе, в самом своем “физическом”, “материальном” воплощении (наскальные рисунки и икона) идею возможного соотнесения и более того — сближения. Их образные формы соответствуют конкретным представлениям национальных носителей (кстати, не только в прошлом, но и в настоящем, у потомков). Но для Хлебникова важно (и это всячески подчеркнуто в «Саяне»), что эти “носители”, сохранив свою веру и свой национальный религиозный мир, воплощают в себе и общее для них чувство Прекрасного, — тоже национально-особенное, но и человечески-сходное.
Это подчеркнуто не только на уровне сюжетно-композиционном и проблемно-тематическом. В обращении к кочевнику (Пойми, то предков образа, // Соседи белых облаков), слово образа в применении к наскальным рисункам язычника абсолютно “ирреально” и воспринимается лишь как поэтическая метафора, ибо понятие “образ” в своем сакральном смысле (а во множественном числе, употребленном Хлебниковым, с окончанием ‘а’, — лишь такой смысл) может означать только русскую, христианскую икону. Но в соотнесении со II частью, где возникает именно образ-икона, намеренное введение этого понятия в часть “языческую” немедленно устанавливает между ними необходимую художнику духовную связь и на этом, лексическом уровне текста.
Как видим, поэт как бы “вмешивается” в духовный мир своих разнонациональных персонажей, включаясь в этот неслышный их “диалог” с Богом и Красотой как некий третий “герой”. Эмоция Хлебникова, лирическая стихия текста, хлебниковская приверженность к неологизации (так, клинопад воспринимается как естественное развитие и слияние лексем ‘клинопись’ и ‘камнепад’), поэтические пейзажи, запечатленные в слове поэта — все это, соединяясь с душевными жестами и чувствами героев, выражает как бы “продолжение” образных картин древних язычников и русского иконописца в художественном тексте «Саяна», “отодвинутом” от событийной и изобразительной сфер произведения. Так, в четверостишии, завершающем картину древнего художника на скале, первые два стиха относятся к тому, что вырезал на ней сам языческий автор и чем любуется сегодняшний сибирский кочевник; два же вторых стиха рисуют картину природы, не менее выразительную, но “принадлежащую” уже перу автора «Саяна». Так устанавливается связь и между героем и поэтом (кстати, воплощающими также разные национальные миры), и между красотой грубо-древнего изображения и лежащей в его основании живой природы, которая так же, видимо, роднит автора с героями, как Время, как Красота, как внутренняя духовность. То же наблюдается и во II части стихотворения; образ очарованного отрока “продолжен” авторским лирическим излиянием:
Возникшее здесь в третий раз слово очарованный, доминантная лексема произведения, своим трехкратным повтором как бы “объединяет” трех героев «Саяна» — кочевника, отрока и поэта, вновь подчеркивая идею единства разнонационального в человеческом — суть гуманистической концепции Хлебникова, выражаемой через художественное воссоздание отношений человека и Красоты, свободного духа и свободного творчества.
Характерно, что в целостной эстетической структуре «Саяна» эти отношения парадоксально воплощены как художественная связь “низкого” и “высокого”, бренной земли и вечного неба, как призыв художника к земному — человеческому, противоречивому и порой противостоящему — быть небесным, т.е. духовным. Эта идея выражена во всей системе лексических, металогических, композиционных перекличек стихотворения: земное и небесное в нем переплетаются, сливаются, откликаются, отражаются одно в другом, как облака в реке:
Движение от земли к небу, от человека к Богу определяет движение и подобных частных структур, и общую амбивалентную композиционную “эволюцию” текста. Человек Востока руки на небо воздел // молитвой зверолова, но перед этим его смутный взор “прикован” к “земному” — к ночному камню-одинцу; русский отрок вознес икону выше пояса письмен древнего художника, — но тут же наклонился детским ликом // К широкой бездне перед ним. Он — над пропастью, но над ним черный ворон с мрачным криком // Летел по небу, нелюдим. Образы верха и низа в природе передают непрерывную возможность падения и вознесения в душе человека:
В концовке, где нет столь определенно выраженных “пространственными” лексемами противостояний, метафоры смысла выражают их с еще большей поэтической энергией: здесь земное и небесное воплощены в образах ночи и света, воды, падающей вниз, и нездешних глаз, поднятых вверх:
Концептуальность подобной сложной системы общего художественного строения «Саяна» с особенной точностью выражена в определении, относящемся к “внесюжетному” и, казалось бы, случайному в стихотворении образу:
Это определение является эстетическим ключом ко всему оксюморонному типу художественного сознания Хлебникова (не только в «Саяне»), ощущающего в многонациональном человечестве двойное начало: различие единого и единство разного, проявляющегося и в отношении к Красоте. Пусть древней, пусть ветхой (убогой), но всегда полной национального величия и ощущения прекрасного, роднящего людей Земли. Именно этот ключ позволяет раскрыть во всей полноте и сложности структуру сверхповеети «Азы из Узы», поэмы «Ладомир» и других примыкающих к ним произведений меньшего масштаба, одним из которых является «Саян».
Проблема западно-восточного духовно-исторического синтеза, поднятая Хлебниковым в сверхповести «Азы из Узы» и поэме «Ладомир», одновременно решалась им и во многих иных произведениях харьковского периода, в частности в поэме «Ночь в окопе». Н. Степанов назвал ее „полифоничной”, ибо в „авторскую монологическую речь врываются разговоры и обрывки песен солдат, резко контрастирующие с торжественно-эпическим стилем повествования”.8![]()
С полным основанием составители «Творений» относят нарисованный Хлебниковым портрет к В.И. Ленину (684), монголовидные черты лица которого неоднократно отмечались в различных источниках.
Здесь, естественно, на ум приходят соответствия этому образу хрестоматийной портретной характеристики Ленина, данной четыре года спустя в поэме Маяковского: „Ленинский огромный лоб”,9![]()
![]()
![]()
![]()
Иное дело — у Хлебникова. То, что вначале кажется внешним штрихом, затем не случайно повторено и поставлено в концептуальный лексико-стилистический ряд, и не просто поставлено, а сопоставлено, и именно в той сущностно-синтезирующей форме, которая, как всегда у Хлебникова, выражает в самой себе доминантную идею художника. Вот как это звучит во втором ленинском портрете, следующем непосредственно за монологом, об “авторстве” и содержании которого речь пойдет ниже:
Портрет этот (о “западно-восточном” звучании которого речь впереди) не случайно начинается с достаточно явственно подчеркнутого мрачного оттенка цветовой метафоры (в багровых струях). Она призвана не столько явить собой “фон” изображенной художником внешности героя, сколько ввести нас в историю современности, в образ новый Времени, величие и ужас которого переданы введением непосредственно в портрет Ленина оксюморонным биномом: могуче и жестоко. Хлебников не уходит от сложности воплощения эпохи, революции, ее вождя, измученного заботой о человеке, мечущегося между жалостью (о хате жалится охотою) и жестокостью (Когтями старое казня). Но для Хлебникова важно, что все это совершается не ради самоутверждения личности, а ради будущего всего человечества. Сквозной образ крови в поэме весьма сложен: это не просто метафора насилия, смерти, но и цвет знамен революции, т.е. символ амбивалентный и у Хлебникова главным образом высокий, ибо он освящен великой идеей. Это превосходно выражено в отрывке монолога, где видно, как будущее рождается из крови и мук, из страданий человечества и его вождя, ищущего путей к свободе и задающего самому себе вопросы, на которые почти невозможно дать точный и единственный ответ:
В этом весьма насыщенном фактами и символами тексте, представляющем, на наш взгляд, скорее внутренний монолог героя, чем размышление о нем автора, раскрывается мучительно сложное переплетение проблем, вставших перед Лениным с первых же дней Октября. Здесь, в самом деле, все могуче и жестоко: с одной стороны — высота, устремленность героя к огромной цели, подчеркнутая непрерывно сменяющими друг друга образами неба, звездочета, звезды, божьей матери, богини воли; с другой — страшная болезненность пути к этой цели через сломанный устой старого мира и особенно через необходимость пролить кровь народную, орошая ею родную землю.
С особенной остротой ставится в монологе наиболее важный в плане нашего исследования вопрос о неизбежных в революции межнациональных пересечениях. Естественно, человек, стремящийся к общей свободе не может думать об узко понимаемом патриотизме только лишь “своего” народа, идя порой на ущемление национального во имя интернационального. Такова была суровая (хотя, как показывает история, вовсе не необходимая) реальность революционного переустройства общества, отчетливо осознаваемая Хлебниковым, но тем не менее получающая у него ту трагическую окраску, какая детерминировалась не ходом мысли, а внутренним ощущением обостренно-гуманистического национального самосознания художника.
В начале поэмы этот трагизм еще не заметен. Повествуя о судьбе изгнанных из храма монахов, чье место занимают революционные латыши, Хлебников, может показаться, не стремится придать этому эпизоду оттенка национальной драмы (Молитве верных чернышей // Из храма ветхого изгнав, // Сюда войны учить устав // Созвал любимых латышей; 276). Более того, поэт, хоть и открещиваясь от полного слияния с героем, даже в какой-то мере оправдывает его деяние жестокой необходимостью: Но он суровою рукой // Держал железного пути. // Нет, я — не он, я — не такой, // Но человечество — лети! (276). Последний стих, почти полностью совпадая с доминантной строкой «Ладомира» (Лети, созвездье человечье!), будто бы опровергает мнение Хлебникова, что он не такой; но поэт, очевидно, стремится подчеркнуть, что он разделяет лишь ленинскую высокую цель — достижение духовной свободы всего человечества, что же касается средств, избираемых вождем революции, то в рассматриваемом нами монологе Хлебников говорит о них с такой болью и таким острым трагизмом, которые не оставляют сомнения в существовании определенного водораздела между его пониманием гуманизма, путей к всеобщей свободе духа и им же изображенным осмыслением национального у Ленина, когда оно порой беспощадно подавляется в душе вождя (и в реальной жизни), становясь даже гибельным для нации, если этого требуют высшие интересы человечества в целом. Напомним соответствующие строки монолога, подчеркнув разнонациональные его лексемы, находящиеся у Хлебникова в безусловной связи:
Семантическая перекличка этого четверостишия с приведенным выше катреном (о монахах и латышах) несомненна; но здесь, в монологе, грозная символическая метафора звездою гибели грядешь, видимо, наиболее остро подчеркивает несовпадение позиций поэта и героя, одновременно делая фигуру Ленина на пересечении разнонациональных народных судеб глубоко драматической. Конечно, здесь может и должно быть отмечено несколько одномерное восприятие Хлебниковым одной из главных коллизий революции, в действительности предполагавшей, с точки зрения Ленина, путь к интернациональному через максимальное развитие национального. Но при этом не следует забывать, что Хлебников в поэме «Ночь в окопе» опирался не столько на теоретические идеи Ильича, сколько на собственный практический опыт постижения российской революционной стихии, нередко и при жизни Ленина сметавшей и уничтожавшей национальные святыни и символы “во имя” будущего интернационального братства и мировой революции. Вместе с тем весьма важно главное: одинаковое осмысление будущего бытия человечества как союза равных национальных общностей; эта идея, по Хлебникову, как бы “генетически” заложена в характере Ленина, что отражает его портрет, завершающий монолог и уже приведенный нами выше. Напомним первое его двустишие: В багровых струях лицо монгольского Востока, // Славянскою волнуяся чертой ‹...› Для поэта бесспорно, что полет человеческого созвездья в будущее, пусть сквозь выстрелы и кровь, ошибки и перегибы вождя, голод и разруху, возможен лишь в единстве разноплеменного человечества. И мы помним, что в поэме «Ночь в окопе» эта мысль принадлежит не только автору, но и его великому герою. Не случайно Хлебников отмечает свое “несходство” с Лениным (я — не такой) непосредственно перед первым его портретом и абрисом характера; тем самым создается впечатление, что вслед за этим слово предоставляется как бы самому герою, и монолог между двумя портретами воспринимается как течение ленинской мысли. Но в монологе весьма явственно проступают кардинальные идеи самого Хлебникова. Да, он не вождь, он не такой, однако в том главном, что касается судеб мира, голоса героя и поэта сливаются и звучат в одном ключе, заставляющем воспринять доминантное двустишие монолога как своеобразное “продолжение” хлебниковской «Единой книги»:
И когда монолог завершается “монгольско-славянским” портретом Ленина, эта будто бы внешностная характеристика оборачивается в общем контексте поэмы о революции наиболее сущностной гранью всей хлебниковской концепции бытия — пути к единству Запада и Востока, к “сложению” разнонациональных “частей” людского рода в единое целое — человечество.
Конечно, два первых стиха портрета, взятые дискретно, могут напомнить и о «Хаджи-Тархане» — о хлебниковском восприятии России как составной части Востока, куда, по его представлениям, входил и славянский мир; и о месте рождения Ленина — Симбирске на Волге (по Хлебникову, реке индо-руссов), на берегах которой так часто смешивалась славянская и монгольская кровь, привлекал западно-восточный облик людей, их своеобразный быт и дух. Но, прочитанные столь узко, черты ленинского портрета, воплощенные в них грани характера не выходили бы на новый образ времени, являющийся его составной частью. Очевидно, в этом расширении и укрупнении западно-восточной концепции через выход на тему Времени, революции, социального переустройства мира и состоит то новое в самом художественном мышлении Хлебникова, что делало его концепцию единства разнонациональных миров в эту пору менее абстрактной и в значительной степени прикрепленной к конкретным событиям и конкретным лицам истории, творящим ее как бы у него на глазах.

| персональная страница Петра Иосифовича Тартаковского | ||
| карта сайта | 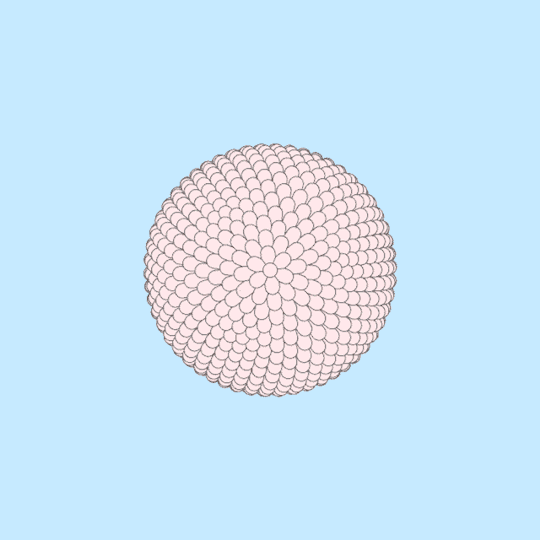 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||