

О, Азия, себя тобой я мучу...
В. Хлебников
 б азийстве Хлебникова написано немало работ, что абсолютно не удивительно,
б азийстве Хлебникова написано немало работ, что абсолютно не удивительно,Его творчество, на мой взгляд, свидетельствует о том, что он счёл чуть ли не своей главной задачей, может быть, миссией [2], восполнение этого пробела. В автобиографической прозе «Свояси» (1919), посвящённой некоторому подведению итогов, Хлебников выделил в своих творениях “славянские” и “азийские” голоса, обратив особое внимание на сверхповесть «Дети Выдры» (1911–1913):
Термины азийское, общеазийское звучат здесь акцентировано, в чём Хлебников перекликается с Савицким, который — несколько позднее (отметим, что Хлебников независим от этого теоретика евразийства) — подчеркнул различие между эпитетами “азийский” и “азиатский”, ссылаясь, кстати, на «Деяния Апостолов» (главы 19 и 20) [5: 84].2![]()
Исследований, касающихся внимания Хлебникова к народам “континента-океана”, сейчас уже набралось такое множество (В.В. Иванов, Х. Баран, Г.Г. Исаев, П.И. Тартаковский и многие другие), что наступило, кажется, время для создания обобщающих трудов по этой сложной теме, требующей во всех отношениях более дифференцированного подхода. Нисколько не претендуя на исчерпывающую постановку вопроса, хотелось бы наметить основные аспекты, подлежащие изучению.
Прежде всего обращают на себя внимание горизонты охватываемого Хлебниковым материала, точнее — безграничность вовлекаемых в его творения пространственных, временных, этнических, языковых, культурно-исторических горизонтов увлекшего его материка-океана. Уже сверхповесть «Дети Выдры» тому свидетельство. Само жанровое определение текста указывает на широчайшие просторы этого творения, охватывающего пространства от Тихого океана до Сечи Запорожской и напластования времен, начиная периодом создания нашей солнечной системы (согласно сказанию орочей) и кончая разговором в царстве мёртвых между предводителями пунических войн Ганнибалом и Сципионом о Карле и Чарльзе (т.е. Марксе и Дарвине), что отсылает непосредственно к современной Хлебникову эпохе и намекает на открытый им закон периодической повторяемости событий (т.е. “пунических войн” и их вдохновителей).
Этот сложнейше организованный хронотоп населён не менее сложно построенными персонажами, в которых мерцают то действующие лица, протагонисты и “эпизодисты” отдельных парусов (как автор назвал части своей сверхповести), то рассказчики, то зрители, и в каждом из них просматриваются качества самого автора, названного Сыном Выдры, прародительницы этого мира. Он представляет читателю-зрителю и другой текст, именуя его, как мы видели, древнейшим словом о мире простых и честных людей — манчжурских татар, т.е. орочей, по представлениям Хлебникова, в древнейшие времена каким-то образом связанных с Енисеем, а затем и с Волгой.3![]()
Может быть, ещё более открыто широта нашего бытийственного лика — т.е. азийского континента-океана — дала о себе знать в поэме «Хаджи-Тархан» (1913), зачин которой указывает на имитацию слова песни кочевого — песни кочевника-мальчугана [3: 245], посвящённой тому городу в устье Волги, неподалеку от которого поэт родился и о котором — в разные времена по-разному — повторял: ‹...› у устья Волги встречаются великие волны России, Китая и Индии ‹...› Астрахань — окно в Индию [3: 617].4![]()
Показательно, что для поэмы об Астрахани Хлебников выбрал название этого города из золотоордынских времён: «Хаджи-Тархан», где первая часть словосочетания означает человека, который совершил хадж (т.е. паломничество в Мекку);5![]()
![]()
Особую роль в поэме играет внутритекстовое напоминание о Казани страже — игле Сюимбеки [3: 247]. Оно подчёркивает былую связь Астраханского ханства с Казанским и — соответственно — представляет форму азийского мира этих времён в виде овала, т.е. фигуры с двумя смещёнными центрами: один из них — Хаджи-Тархан — близкий, хранящий память о предках автора и реально-бытовой, а другой — почти символический и на расстоянии — воинственно-защищающий.7![]()
Хотя в тексте перечень историко-географических реалий преподнесён по закону окрошки (если воспользоваться выражением самого автора), он позволил активизировать 4-ю координату — координату времени, ориентируясь таким образом на концепцию Минковского [13]. Кажется, именно потому “окрошечный” метод смешивания исторических реалий можно назвать — следуя сравнению, к которому прибегает Флоренский в статье «Время и пространство», — методом „нарезывания ломтиков”, поскольку „дробится на ломтики, нарезанные перпендикулярно ко времени, всякий конкретный образ действительности” [14], когда мы пробуем рассматривать его существование протяжённым во времени, но вынуждены всего лишь фиксировать („фотографиями-кинокадрами”) моменты-ломтики.
Вместе с тем эти “окрошка-ломтики” у Хлебникова воспроизводят акцентированное вступлением мальчишеское исполнение слова песни кочевого, которое обусловило отсутствие требуемых литературно-эстетическими нормами “правильностей” в ритмике, мелодике и в структуре поэмы. В результате этот письменный литературный текст предстал перед читателем как текуче-подвижной сгусток слова кочевого, прозвучавшего в “оазисе”, лабиринте времён и народов, откуда возможны пути в разные концы света. Исторические основания для построения такого образа, разумеется, существуют: многие географы с древнейших времен отмечали, что города в устье Волги (сначала Итиль, потом Хаджи-Тархан или Ас-Тархан) находились на перекрёстке путей: водного — из варяг к арабам, караванных: из Ирана в Биармию (Великую Пермь) и из Китая в Прованс [15]. Естественно, что будетлянская “имитация героического эпоса” по долгу жанра должна была быть весьма оптимистичной и рассказанное песней кочевника-мальчугана, напоминая о “героических временах” как потенциальной основе широко открываемого будущего, может не соответствовать сообщениям историков. Примером этому служит, в частности, ироническая заметка Л.Н.Гумилева об Астраханском Кремле как факте “истории культуры” края:
Однако целевая устремленность поэмы Хлебникова требовала опоры на “героический эпос”, пересказываемый кочевником-мальчуганом. Задолго до рождения утопии «Ладомира», Хлебников предложил в «Хаджи-Тархане» перспективу братания “волгокаспийских” народов и их окружения, когда захиревшая Астрахань, сможет снова стать, подобно Хаджи-Тархану, окном в Индию. Этому служит следующее упоминание:
Этому же служит и весьма значительное восклицание в поэме (о котором нам напомнила книга Р.Ф. Мухаметшиной):
В связи с этим необходимо ввести небольшой фактографический комментарий. В 1910 году Хлебников опубликовал статью «Опыт построения одного естественнонаучного понятия», в которой предложил различение между понятиями симбиоза и метабиоза, а также их экстраполяцию на жизнь социума [18]. Приведённый выше пример — одно из ярчайших проявлений установки Хлебникова на утверждение азийского симбиоза (в отличие от “западнического метабиоза”). Однако, возможно, осознавая некоторую преувеличенность своего проповеднического пафоса, Хлебников вводит в концовке поэмы «Хаджи-Тархан», как и во многих других творениях такого типа, игровую интонацию, указывающую на амбивалентность представленного в ней описания. Об этом свидетельствует уже вводящее фразу восклицание Ах!; о том же свидетельствует концовка-финал поэмы, который, кстати, напоминает о некоторых наблюдениях Афанасия Никитина в его «Путешествии за три моря». Финал поэмы представляет жизнерадостную картину, освещаемую легкой улыбкой:
И тем не менее именно “оазис” Хаджи-Тархан (вместе с непременно присутствующим напоминанием об отдалённо-близкой башне Сюимбеки) рисуется эпицентром азийского мира, или — если угодно — городом-центром той паутины, развёртывание которой как разумное проявление природно-структурирующих законов Хлебников описал в диалоге «Учитель и ученик».
Важен в этом отношении и прозаический текст «Есир» (1918–1919), где устье Волги, точнее средоточие Астраханского края, названное не прямо, а метонимически, через упоминание безлюдного острова Кулалы. Астрахань предстает эпицентром окружающего мира благодаря насыщенному деталями рассказу о перипетиях судьбы главного героя, морского ловца по имени Истома. Полагаем, что в этом имени возможность русскоязычной семантизации примечательным образом сочетается с намёком на имя Истеми, как известно, одного из первых вождей тюрков и нескольких каганов [19]. Характерную для Хлебникова вибрацию смыслов создаёт здесь тот факт, что этот русский сын рыбака и вместе с тем носитель “почти-имени” Истеми-хана, оказавшись есиром, т.е. ‘невольником и рабом’, перепродаваемым и переходящим из рук одного азиатского народа в руки другого, достигает далёкой Индии чудес, где становится сикхом.
Обращает на себя внимание то, как Хлебников, в отличие от большинства своих собратьев по перу, стремится показать этот развёртываемый перед мысленным взором читателя азийский мир во всём его разнообразии и дифференцированности: я имею в виду даже не описание деталей (например, башенных ворот) города или почти по-гоголевски переданную красочность костюмов живописных женщин Востока, и даже не различие между разинцами и Кришнамурти, которых Хлебников сводит в этом хронотопе. Прежде всего это дифференцированность этносов не многими в такой степени различаемых: старообрядцев-поморов, разинской повольницы, степных всадников-работорговцев, калмыков, поклоняющихся Великому Чингизу и Тенгри, кизгиза, распевающего Кудатку-Билик, жителей горного аула, где старик-горец беседовал с Есиром и делил с ним свой кусок сыра, лечил его ноги, наконец — большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин, красавица-полячка. С такой же обстоятельностью описан в «Есире» и мир разнообразнейших традиций и верований Индии, и хотя историки и этнологи, несомненно, обнаружат в хлебниковском описании этих миров немало неточностей, думаем, важнее этого хлебниковское стремление представить необычайное культурное разнообразие этой части азийского мира (и может быть, заставить поработать над его творениями армию комментаторов, что и происходит, к сожалению, не всегда безошибочно).
Перейдем к итогам: пройдя путь, который позволил Истоме пережить встречи со столькими народами, столь различными культурами и религиозными верованиями, и даже стать сикхом, сын рыбака возвращается на свой безлюдный остров в устье Волги, где, однако, не находит ничего, кроме сломанного весла, которым когда-то правил, что открывает следующий, запредельный повествованию круг его странствий. Об этом повествуют последние слова текста: ‹...› грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше. Куда? — он сам не знал.
Как мы уже подчёривали, в «Есире» Астрахань никак не названа (что “метонимически возмещено” названием близкого к ней и до наших дней безлюдного острова), но восторжествовавший в «Хаджи-Тархане» принцип взаимоналожения времён здесь достигает апогея, благодаря чему разновременные религиозные и культурные традиции, боги, святые и простые люди оказываются в ситуации диалога, побуждающего к выбору.
Название текста акцентирует смысл фигуры, воплощающей собой человека как подвижной время-пространственной единицы: волжанин-ловец Истома проходит путь, в котором сопрягаются полярности (как и в подчёркнутой текстом несовместимости его имени собственного — с именованием «Есир»): Истома-Есир начинает свой путь “странником поневоле”, однако продолжает его “странником добровольным”, и это странничество — как подчёркивается финалом текста — выносится в неизвестность. Такая открытая концовка говорит о многом, особенно если учесть, что «Есир» создавался уже после революции, когда будетлянство Хлебникова стало приобретать всё более метафорические и утопически-обобщенные формы. В «Есире» это сказалось отчетливее всего в появлении Кришнамурти и в мотиве бракосочетания Волги с Гангом [3: 549–550].
В творениях последних лет горизонты текстов Хлебникова ещё более расширились, в них всё более отчетливо стали проявляться универсально-космические обобщения. Устремленность к футурологии всё более явленно стала сочетаться с тенденциями сайенс-фикшн (и элементами научного предвидения), но в то же время стала давать о себе знать и большая, чем прежде, включённость в заботы о “повседневности” и о людях “обыденной жизни”. Об этом свидетельствуют не столько даже недолгая работа Хлебникова в астраханской армейской газете «Красный воин» (сентябрь 1918 – февраль 1919) или попытка участия в неосуществлённом журнале «Интернационал искусства» (1919) [20], сколько стихотворения, призывающие спасти голодающих на Волге. Хлебников написал их 4 одно за другим в 1921 году (равное им по энергии горечи в русской литературе вряд ли найдется, разве что одно малоизвестное стихотворение Кручёных, опубликованное Геннадием Айги). Х. Баран, анализируя „стихотворные отклики Хлебникова на ужасы голода в Поволжье” [21: 285], отметил „мрачную картину поздних произведений” поэта, упомянув, что „редкий момент надежды” вносит в неё „фантастический образ самопожертвования”. Вместе с тем он, как и Б. Лённквист [22: 61], связал с этими событиями усиление в творчестве Хлебникова интереса „к мифам о смерти и воскрешении, умирании природы и её обновлении” [21: 288].
К выдвинутым коллегами интерпретациям хотелось бы добавить, что, кажется, именно такими острейшими жизненными впечатлениями, как голод на Волге, вызван в творчестве Хлебникова и всё более и более напряжённый поиск выхода из историко-географических измерений в измерения мыслимые (описываемые соответственно “воображаемой” — в математическом смысле — геометрии Лобачевского и помечаемые знаком нет-единицы), а также космические, которые, однако, согласно Хлебникову, дают о себе знать и в повседневной жизни на земле. Их универсальный образ, приобретающий всё более и более отчетливые очертания, призван сочетать свои внеземные проявления с земными, о чем говорит, в частности, специфически хлебниковский образ:
Метафоры движения волн как проявления разного типа энергий в творениях Хлебникова многочисленны и разнообразны: в их числе могут иметься в виду световые, звуковые, жизнетворящие, о чем говорится, например, в письме Хлебникова Каменскому: Мы — новый род люд-лучей.
Однако с точки зрения предлагаемых здесь размышлений особенно интересны те наблюдения и высказывания Хлебникова, которые ориентированы на признание того, что всё в мире, включая речь, подчиняется одному и тому же колебательному закону, а единицы мысли представляют собой эпитеты мировых явлений [3: V: 291]. Во многих отношениях предвосхищая идеи Уорфа и Сэйпера, Хлебников понимал язык как некую идеальную парадигму реальности, которая, подобно законам математики, позволяет структурировать (и тем самым в известной степени предопределять) эту реальность. Этим обусловлена языкотворческая деятельность Хлебникова, с помощью которой он стремился содействовать предстоящему единению мира, провозглашённому в «Ладомире». Уже многие годы она привлекает внимание исследователей, создавших немало ценных трудов, особенно о его словотворчестве (В. Григорьев, Н. Перцова, К. Соливетти и др.). Однако практически все работы касательно словотворческой деятельности Хлебникова опираются на используемый им материал славянских языков. Между тем демонстративное азийство Хлебникова решительно сказалось и в его языковом новаторстве, задача которого — найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки (подчёркнуто автором — Л.С.) [3:37], что, насколько мне известно, практически не описано. Рассмотреть этот аспект языковой деятельности Хлебникова — значило бы коснуться непочатого края работы. Чтобы наметить её горизонты, достаточно перечислить разнообразнейшие эксперименты в области лексики, которые Хлебников проделывал, опираясь, в частности, на довольно свободное оперирование тюркизмами, однако пусть этот сюжет станет предметом специального исследования.
| Персональная страница Лены Силард на ka2.ru | ||
| карта сайта | 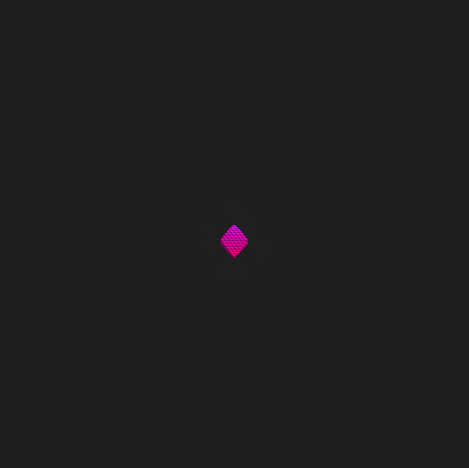 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||