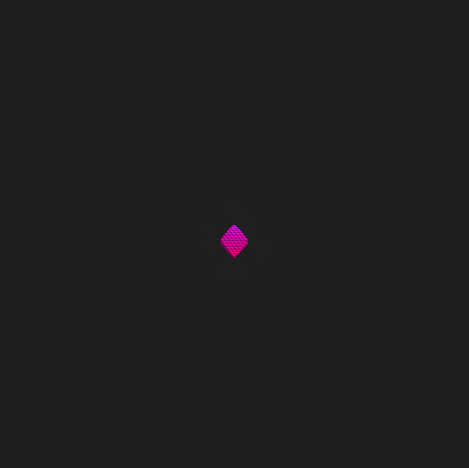Лена Силард
Аполлон и Дионис
(к вопросу о русской судьбе одной мифологемы)
Цель данной работы двоякая. С одной стороны, в историко-литературном плане, мне хотелось бы указать на связь идеи М. Бахтина об оппозиции официального и карнавально-народного сознания с антиномией, предложенной Ф. Ницше в
Рождении трагедии, и на особую трансформирующую роль в этой связи трудов Вяч. Иванова о дионисийстве.
1
С другой стороны, работа содержит и теоретическую задачу, по отношению к которой сформулированная выше цель является всего лишь средством. Мифологема здесь играет роль “меченого атома”: трансформация её при переходе из одной литературно-стилистической системы в другую маркирует различия и водоразделы между сменяющими друг друга формациями символизма и постсимволизма, авангарда (постсимволизма) и поставангарда. Думается, характер обработки одного и того же сюжета, образа, мифа и т.п. разными авторами обнажает проблему “диалога” художников и может быть наиболее точным индикатором системы, в которую попадает кочующий материал.
2
Наблюдения над трансформацией мифологемы проводятся на идеологическом и семиотическом уровнях. Почему из многих возможных выбраны именно эти два? Первый — поскольку идеология обычно является наиболее очевидным показателем своеобразия данной системы (особенно в представлениях о структуре времени), второй — потому что и в символизме, и в авангарде знаковость искусства возрастает. Если мы с этим согласны, следует попытаться определить и разницу между двумя активизациями.3
Необходима ещё одна предварительная оговорка. Данное исследование исходит в большей мере из трактатов и эссеистики, чем из художественных произведений (хотя и они привлечены), по той простой причине, что оба рода текстов у символистов и футуристов взаимно ориентированы, обладают соотносимым идеологическим и семиотическим строением, а для короткого доклада в качестве материала обобщений предпочтительны более эксплицитные жанры.

отя первый прямой отклик в России на центральную антиномию
Рождения трагедии принадлежит, видимо, А. Волынскому,
4
зачинателем русской судьбы мифологемы, сформулированной Ницше, следует считать Вяч. Иванова. Его работы по классической филологии, — от Парижских лекций 1903 г. до докторской диссертации
Дионис и прадионисийство, — как и поэзия, выросшая из греко-античных штудий автора, придали антиномии аполлинизма-дионисийства специфически русский характер, вполне отражавший своеобразие русской мысли начала XX в. С другой стороны, сдвиг, осуществленный Вяч. Ивановым, был для многих его русских современников, да и последующих поколений, настолько органичен, что антиномию Ницше они воспринимали через призму Вяч. Иванова, часто даже не ощущая, не подозревая этого. Несмотря на академическую тяжеловесность и эзотеризм изложения, именно Вяч. Иванов дал русскому сознанию того времени соответствующий язык, систему многозначных понятий, которые стали основой прежде всего для символистской сигнализации вокруг мифологемы.
В каких направлениях трансформирует Вяч. Иванов исходную мысль базельского философа? Прежде всего, он говорит о необходимости выйти за пределы чисто эстетической трактовки феномена, поскольку в этой борьбе противоначал находят выражение какие-то существеннейшие первоосновы „коллективной психической жизни”. Миф, дающий „более или менее смутное обоснование обряду, который воплощает „первоначальное и наивное народное верование”,5 — представляет собой, — по Вяч. Иванову, — „образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского”.6
— представляет собой, — по Вяч. Иванову, — „образное раскрытие имманентной истины духовного самоутверждения народного и вселенского”.6 Нетрудно заметить, что мысль Вяч. Иванова очень чётко движется по иерархической цепи зависимостей: первоначальное и наивное народное верование → обряд → миф, один конец которой восходит к имманентным истинам коллективного народного сознания и лежащему за ними “вселенскому”, другой же ведет к мифотворческому искусству („Большое искусство — искусство мифотворческое”, — говорится в той же статье Поэт и чернь). В этой периодической системе последовательностей, где каждый следующий элемент является выражением предыдущего, миф с сопровождающими его вещественными и словесными атрибутами оказывается ядром, гибко противостоящим давлению времени-истории. Описывая становление мифа вместе с такими его вещественными и словесными атрибутами, как сакральные предметы и сакральные текстовые элементы, Вяч. Иванов сосредоточивается на закономерностях взаимодействия стабильного и переменного слоев смысла. Этот подход, весьма родственный позднейшим исследованиям архетипов у К. Керени,7
Нетрудно заметить, что мысль Вяч. Иванова очень чётко движется по иерархической цепи зависимостей: первоначальное и наивное народное верование → обряд → миф, один конец которой восходит к имманентным истинам коллективного народного сознания и лежащему за ними “вселенскому”, другой же ведет к мифотворческому искусству („Большое искусство — искусство мифотворческое”, — говорится в той же статье Поэт и чернь). В этой периодической системе последовательностей, где каждый следующий элемент является выражением предыдущего, миф с сопровождающими его вещественными и словесными атрибутами оказывается ядром, гибко противостоящим давлению времени-истории. Описывая становление мифа вместе с такими его вещественными и словесными атрибутами, как сакральные предметы и сакральные текстовые элементы, Вяч. Иванов сосредоточивается на закономерностях взаимодействия стабильного и переменного слоев смысла. Этот подход, весьма родственный позднейшим исследованиям архетипов у К. Керени,7 вполне отражал представление символистов о хронотопе мира (и о структуре мира) как о многоярусной системе соответствий, где нижние, более переменчивые ряды являются знаками-выражениями всё более высоких и неизменных сущностей.
вполне отражал представление символистов о хронотопе мира (и о структуре мира) как о многоярусной системе соответствий, где нижние, более переменчивые ряды являются знаками-выражениями всё более высоких и неизменных сущностей.
Установка на выявление архетипического позволила Вяч. Иванову предложить наименования вещественных атрибутов мифически-сакрального мышления в качестве опорных слов поэтической картины мира, а главное, с помощью архетипа “страдающего бога” связать — вопреки Ницше! — Диониса с Христом. Эта поправка была принята, особенно младшими символистами, тем более охотно, что позволила совместить круг “дионисийских” идей с христологией Вл. Соловьёва. Контаминация атрибутов Диониса и Христа, отсылающая к самым общим предметам страдающего бога, становится частым явлением в символистской поэзии. Достаточно вспомнить Петербург А. Белого, где Николай Аблеухов, сын и антагонист Аполлона Аполлоновича, то сближается с Христом (через тему домино), то уподобляется растерзанному Дионису; или тот факт, что сама смерть А. Блока воспринималась А. Белым в этих двух ассоциациях (ср. концовки Памяти А, Блока и Воспоминаний о Блоке), или, наконец, фигуру Христа „в белом венчике из роз”, завершающего “дионисийскую” поэму А. Блока Двенадцать.
Ещё более действенной оказалась основная поправка Вяч. Иванова, вполне отвечавшая духу нового почвенничества, который дал о себе знать уже в первые годы XX в., и одним из выразителей которого как раз и был Вяч. Иванов. Исходя из противопоставления дионисийства и аполлинизма как стихийно-природного и культурно-цивилизаторского начал, проведённого в Рождении трагедии не совсем последовательно из-за категории “сократизма”, которую Вяч. Иванов справедливо обходит молчанием, — автор Эллинской религии страдающего бога освещает историю взаимодействия двух великих культов Греции как „великую культурную борьбу”,8 где религии Аполлона, носившей аристократический характер, противостояла религия Диониса, которую Вяч. Иванов называет „подлинно народным богочувствованием”. Здесь нет ни места, ни необходимости оценивать, насколько научно с современной точки зрения данное Вяч. Ивановым описание этой многовековой культурной борьбы цивилизаторства со стихией. Сейчас важнее определить, чем аргументирует автор Эллинской религии такое противопоставление, и какими, следовательно, глубинными мотивами оно объясняется. Религию Аполлона Вяч. Иванов называет аристократической, поскольку она носила жреческий характер, в то время как дионисийство отличало „равноправное участие (всех) в общем культе”.9
где религии Аполлона, носившей аристократический характер, противостояла религия Диониса, которую Вяч. Иванов называет „подлинно народным богочувствованием”. Здесь нет ни места, ни необходимости оценивать, насколько научно с современной точки зрения данное Вяч. Ивановым описание этой многовековой культурной борьбы цивилизаторства со стихией. Сейчас важнее определить, чем аргументирует автор Эллинской религии такое противопоставление, и какими, следовательно, глубинными мотивами оно объясняется. Религию Аполлона Вяч. Иванов называет аристократической, поскольку она носила жреческий характер, в то время как дионисийство отличало „равноправное участие (всех) в общем культе”.9 Эту дорогую ему идею коллективности и равенства всех в дионисийстве Вяч. Иванов подчёркивает интерпретацией первоначального значения слова ‘оргия’, которое только значительно позже, в эпоху римского владычества, приобрело резко суженный и однозначный смысл ‘вакханалии’, подобно тому как из множества имён Диониса, соответствовавших множеству его социально-психологических функций, осталось одно-единственное: Вакх. В толковании Вяч. Иванова дионисии были „утверждением стихийной души пчелиного царства”,10
Эту дорогую ему идею коллективности и равенства всех в дионисийстве Вяч. Иванов подчёркивает интерпретацией первоначального значения слова ‘оргия’, которое только значительно позже, в эпоху римского владычества, приобрело резко суженный и однозначный смысл ‘вакханалии’, подобно тому как из множества имён Диониса, соответствовавших множеству его социально-психологических функций, осталось одно-единственное: Вакх. В толковании Вяч. Иванова дионисии были „утверждением стихийной души пчелиного царства”,10 в них осуществлялось „расторжение граней индивидуума” и выявлялась возможность „сознавать себя как не я и сознавать мир как я”.11
в них осуществлялось „расторжение граней индивидуума” и выявлялась возможность „сознавать себя как не я и сознавать мир как я”.11 Основой этого была „иллюзия самоотчуждения и метаморфозы, ‹...› пафос внутреннего единения с природой и как бы растворения в ней”, а „чувство превращаемости, как опущения слияния с природой, вольного перехода из одной её формы в другую, сочетается с пафосом стихийного могущества”12
Основой этого была „иллюзия самоотчуждения и метаморфозы, ‹...› пафос внутреннего единения с природой и как бы растворения в ней”, а „чувство превращаемости, как опущения слияния с природой, вольного перехода из одной её формы в другую, сочетается с пафосом стихийного могущества”12 (выделено мной — Л.С.).
(выделено мной — Л.С.).
Дух превращаемости связан с „двуликостью” („амбивалентностью” — скажет 30 лет спустя М. Бахтин): религия Диониса соединяет „два противоположных полюса единого экстаза” — „служение силам мира загробного и половой оргиазм”.13 Вот почему в дионисийстве обнаруживается единство и сопричастность таких, казалось бы, противолежащих явлений, как похороны и свадьба, пол и тризна, весна и смерть (ср. цветущую смерть Анфестерий), здесь „элемент смеха и разгульного веселья” есть „необходимая часть похорон и поминок” и „скоморохи тризны” непременны „в комическом карнавале народных дионисий”.14
Вот почему в дионисийстве обнаруживается единство и сопричастность таких, казалось бы, противолежащих явлений, как похороны и свадьба, пол и тризна, весна и смерть (ср. цветущую смерть Анфестерий), здесь „элемент смеха и разгульного веселья” есть „необходимая часть похорон и поминок” и „скоморохи тризны” непременны „в комическом карнавале народных дионисий”.14 Даже этих немногих цитат, надеюсь, достаточно, чтобы показать, насколько настойчиво связывает Вяч. Иванов общепризнанную трагику дионисии со смехом, подчеркивая в них прежде всего „уравнение всех в общей радости”, хотя радость эта с сопутствующей ей „резвостью и дерзостью смеха”15
Даже этих немногих цитат, надеюсь, достаточно, чтобы показать, насколько настойчиво связывает Вяч. Иванов общепризнанную трагику дионисии со смехом, подчеркивая в них прежде всего „уравнение всех в общей радости”, хотя радость эта с сопутствующей ей „резвостью и дерзостью смеха”15 понимается им далеко не однозначно. И дело не в том, что трагическое и комическое соседствуют, а в том, что в этом мире „двуликости” и „превращаемости”, в мире, где торжествует дух „вечно сменяющихся личин” — всё меняет свои акценты, всё подвержено метаморфозе, в радости — плачут, в горе — смеются. И это тоже есть то, что „сочетается с пафосом стихийного могущества”.
понимается им далеко не однозначно. И дело не в том, что трагическое и комическое соседствуют, а в том, что в этом мире „двуликости” и „превращаемости”, в мире, где торжествует дух „вечно сменяющихся личин” — всё меняет свои акценты, всё подвержено метаморфозе, в радости — плачут, в горе — смеются. И это тоже есть то, что „сочетается с пафосом стихийного могущества”.
Основной материал обобщений Вяч. Иванова — древнейшие („прадионисийские”) сакральные обряды, но — двигаясь к поздней архаике и высокой классике — он указывает на генетическую, смысловую и функциональную связанность 1) ритуала, 2) народного карнавала и 3) народного зрелища.16 Духом Диониса отмечены и дни дионисии, когда „вся жизнь превращалась в один космический маскарад”,17
Духом Диониса отмечены и дни дионисии, когда „вся жизнь превращалась в один космический маскарад”,17 и день трагедий — это „всенародное сборище”, это „зрелище самого пёстрого и самого художественно выдержанного, самого разнузданного и самого гениального из карнавалов”.18
и день трагедий — это „всенародное сборище”, это „зрелище самого пёстрого и самого художественно выдержанного, самого разнузданного и самого гениального из карнавалов”.18 Именно здесь умение видеть связь трагедийного искусства с обрядом, выявляющим „первоосновы коллективной психической жизни”, позволяет Вяч. Иванову подать греческий материал как образец, как пример порождения большого искусства всенародным мифом. К кому восходит этот приём — сомнений не вызывает. Перефразируя старого Виламовица, отрекавшегося от своих юношеских нападок на Ницше, можно сказать, что и у Вяч. Иванова речь шла не об античности, а о желании подать современникам надежду. Можно посмеиваться над мечтой увлечённого эллиниста о времени, когда и его страна покроется орхестрами и фимелами, можно сомневаться в ценности идеи из-за таких её профанаций, как символистские “радения” и “дионисийские вечера”, но нельзя не признать, что проверка искусства первоосновами коллективной психической жизни вызвала и серьёзные отклики, достойные внимательного изучения. Решительнее всего идея соборного искусства проецировалась в театр, сказываясь на поисках форм массового “мистериального” искусства, уничтожающего грань между зрителем и исполнителем (от “факелов” до авангардного театра 20-х гг.). Она давала некоторое теоретическое оправдание увлечениям эпохи мотивами маскарада, маски, переодевания, вживания в разные стили, балагана, но глубинный философский смысл карнавально-дионисийского смеха, как он описан Вяч. Ивановым, осознан эпохой не был (может быть, потому, что в сознании современников пока ещё господствовало представление о смехе преимущественно как о романтической иронии). Главное же, что дали “дионисийские” работы автора Эллинской религии — это (говоря словами Вяч. Иванова) обновлённая проповедь „приникновения к Земле”. В противопоставлении дионисийства аполлинизму как „народного бого-чувствования тёмных масс” „аристократическому Олимпу Гомера”19
Именно здесь умение видеть связь трагедийного искусства с обрядом, выявляющим „первоосновы коллективной психической жизни”, позволяет Вяч. Иванову подать греческий материал как образец, как пример порождения большого искусства всенародным мифом. К кому восходит этот приём — сомнений не вызывает. Перефразируя старого Виламовица, отрекавшегося от своих юношеских нападок на Ницше, можно сказать, что и у Вяч. Иванова речь шла не об античности, а о желании подать современникам надежду. Можно посмеиваться над мечтой увлечённого эллиниста о времени, когда и его страна покроется орхестрами и фимелами, можно сомневаться в ценности идеи из-за таких её профанаций, как символистские “радения” и “дионисийские вечера”, но нельзя не признать, что проверка искусства первоосновами коллективной психической жизни вызвала и серьёзные отклики, достойные внимательного изучения. Решительнее всего идея соборного искусства проецировалась в театр, сказываясь на поисках форм массового “мистериального” искусства, уничтожающего грань между зрителем и исполнителем (от “факелов” до авангардного театра 20-х гг.). Она давала некоторое теоретическое оправдание увлечениям эпохи мотивами маскарада, маски, переодевания, вживания в разные стили, балагана, но глубинный философский смысл карнавально-дионисийского смеха, как он описан Вяч. Ивановым, осознан эпохой не был (может быть, потому, что в сознании современников пока ещё господствовало представление о смехе преимущественно как о романтической иронии). Главное же, что дали “дионисийские” работы автора Эллинской религии — это (говоря словами Вяч. Иванова) обновлённая проповедь „приникновения к Земле”. В противопоставлении дионисийства аполлинизму как „народного бого-чувствования тёмных масс” „аристократическому Олимпу Гомера”19 эпоха услышала то, что Вяч. Иванов взял из её атмосферы и одел в греческие костюмы, то, что отвечало комплексу народолюбия русской интеллигенции и новой волне нового почвенничества в начале XX в.
эпоха услышала то, что Вяч. Иванов взял из её атмосферы и одел в греческие костюмы, то, что отвечало комплексу народолюбия русской интеллигенции и новой волне нового почвенничества в начале XX в.
Особенно интересно с этой точки зрения творчество А. Блока — прежде всего потому, что именно им были найдены поэтически законченные, не слишком эзотерические и потому быстро канонизированные оформления этого аспекта мифологемы.
Хотя русский перевод Рождения трагедии вышел в 1900 году, А. Блок законспектировал его лишь в декабре 1906 г., т.е. вскоре после того, как в «Новом пути» прошёл цикл статей Вяч. Иванова Эллинская религия страдающего бога, а в «Вопросах жизни» появилась работа А. Блока,20 свидетельствующая о его сочувствии поправкам Вяч. Иванова к Ницше. Выразителен и сам конспект, как бы пропущенный через призму интерпретаций Вяч. Иванова: раздел о сократизме не замечен (в концепции Вяч. Иванова проблема “сократизма” закономерно растворилась в социально заострённом противопоставлении дионисийства и аполлинизма как народного и аристократического), зато тщательно выписаны все места, интересные с точки зрения теории соборности (о хоре сатиров, о разнице между поющими дифирамб и пеан и т.п.).21
свидетельствующая о его сочувствии поправкам Вяч. Иванова к Ницше. Выразителен и сам конспект, как бы пропущенный через призму интерпретаций Вяч. Иванова: раздел о сократизме не замечен (в концепции Вяч. Иванова проблема “сократизма” закономерно растворилась в социально заострённом противопоставлении дионисийства и аполлинизма как народного и аристократического), зато тщательно выписаны все места, интересные с точки зрения теории соборности (о хоре сатиров, о разнице между поющими дифирамб и пеан и т.п.).21 Особое место занимает вопрос о назначении поэта: знаменитая пушкинская речь А. Блока покажет, насколько сочувственно и неопосредованно были прочитаны А. Блоком соответствующие строки Рождения трагедии. Но пока, в эпоху первой русской революции, надежды Вяч. Иванова на новое мифотворчество, видимо, играли для А. Блока ещё важную роль. Его размышления о творчестве автора Эллинской религии построены на парафразах “пушкинской” статьи Вяч. Иванова Поэт и Чернь и сочувственном изложении его утопии:
Особое место занимает вопрос о назначении поэта: знаменитая пушкинская речь А. Блока покажет, насколько сочувственно и неопосредованно были прочитаны А. Блоком соответствующие строки Рождения трагедии. Но пока, в эпоху первой русской революции, надежды Вяч. Иванова на новое мифотворчество, видимо, играли для А. Блока ещё важную роль. Его размышления о творчестве автора Эллинской религии построены на парафразах “пушкинской” статьи Вяч. Иванова Поэт и Чернь и сочувственном изложении его утопии:
Поэт, идущий по пути символизма, есть бессознательный орган народного воспоминания ‹...› страдательный путь символизма есть „погружение в стихию фольклора”, где „поэт” и „чернь” вновь познают друг друга. „Поэт” становится народным, „чернь” — народом при свете всеобщего мифа ‹...›
22
Впервые антиномию аполлинизма – дионисийства А. Блок включает в свою картину мира именно в статье Стихия и культура (декабрь 1908 г.). Эта работа тем более примечательна, что представляет собой попытку найти универсальные теоретические обоснования идеям, высказанным в докладе Народ и интеллигенция в ответ на споры вокруг демотеизма М. Горького (ноябрь 1908 г.), т.е. отражает очень характерное для А. Блока стремление соотносить актуальное, злободневное с наиболее всеобщим. Как же трансформируется исходная антиномия в мире А. Блока? Прежде всего, она отрывается от греческой почвы (с которой ещё связана у Вяч. Иванова и, тем более, у Ницше) и приобретает характер всеобщего закона, управляющего мирозданием (ему подчиняются и люди, и „гул стихий земных”23 ). С другой стороны, универсальная оппозиция стихии и культуры находит воплощение в исторически конкретном разрыве между народом и интеллигенцией. Если в 1905 г. А. Блок ещё разделяет надежду Вяч. Иванова на то, что “чернь” и “поэт”, стихия и культура, народ и интеллигенция найдут друг друга „при свете всеобщего мифа”, то в 1908 г. он приходит к выводу, что „месть стихийная и земная”24
). С другой стороны, универсальная оппозиция стихии и культуры находит воплощение в исторически конкретном разрыве между народом и интеллигенцией. Если в 1905 г. А. Блок ещё разделяет надежду Вяч. Иванова на то, что “чернь” и “поэт”, стихия и культура, народ и интеллигенция найдут друг друга „при свете всеобщего мифа”, то в 1908 г. он приходит к выводу, что „месть стихийная и земная”24 исключает всякую возможность медиации и культура оказывается обречённой (вспомним: „Так как ты покинул Диониса, то тебя покинул Аполлон”). Только с конца 1918 г. апологетика стихии в творчестве А. Блока начинает совмещаться с “реабилитацией” культуры.25
исключает всякую возможность медиации и культура оказывается обречённой (вспомним: „Так как ты покинул Диониса, то тебя покинул Аполлон”). Только с конца 1918 г. апологетика стихии в творчестве А. Блока начинает совмещаться с “реабилитацией” культуры.25 Важную роль в этой переакцентировке играет разведение понятий “культура” и “цивилизация”, благодаря чему основная антиномия вновь сближается с её исходным ницшевым толкованием: цивилизаторскому — “сократическому” (недаром оно в сознании А. Блока ассоциируется с Кантом и его теорией познания) противостоят дух музыки-стихии и дух культуры, а хранителем последнего оказывается та же стихия,
Важную роль в этой переакцентировке играет разведение понятий “культура” и “цивилизация”, благодаря чему основная антиномия вновь сближается с её исходным ницшевым толкованием: цивилизаторскому — “сократическому” (недаром оно в сознании А. Блока ассоциируется с Кантом и его теорией познания) противостоят дух музыки-стихии и дух культуры, а хранителем последнего оказывается та же стихия,
в которую возвращается музыка (геvertitur in terrain suam unde erat), тот же народ, те же варварские массы ‹...› оказываются хранителями культуры, не владея ничем, кроме духа музыки, в те эпохи, когда обескрылевшая и отзвучавшая цивилизация становится врагом культуры, несмотря на то, что в её распоряжении находятся все факторы прогресса ‹...›
26
Так утверждается союз Аполлона и Диониса против “сократизма” — цивилизации.
Подведём первые итоги. При всех различиях, схождениях и расхождениях, есть устойчивое единство в подходе Вяч. Иванова и А. Блока к исходной мифологеме, обусловленное общностью их русского символистского ново-почвеннического мышления. 1. И Вяч. Иванов и А. Блок настойчиво выходили за пределы чисто эстетической трактовки антиномии. Когда А. Блок к конспекту Рождения трагедии приписал: „Оценка жизни — артистическая и антихристианская”,27 — он выделил то, в чём оба русских художника были противоположны источнику. 2. Через символику Ницше (у А. Блока контаминированную с некоторыми заимствованиями из Вагнера) прочитывается убежденное “почвенничество”, выражающееся в неизменной — хотя и приобретавшей очень разные обличья — апологетике дионисийского, стихийного.
— он выделил то, в чём оба русских художника были противоположны источнику. 2. Через символику Ницше (у А. Блока контаминированную с некоторыми заимствованиями из Вагнера) прочитывается убежденное “почвенничество”, выражающееся в неизменной — хотя и приобретавшей очень разные обличья — апологетике дионисийского, стихийного.
На третьем моменте необходимо остановиться подробнее. В Крушении гуманизма А. Блок формулирует характерно соловьёвское представление о хронотопе мира следующим образом:
Есть как бы два времени, два пространства; одно — историческое, календарное, другое — неисчислимое, музыкальное. Только первое время и первое пространство неизменно присутствуют в цивилизованном сознании; во втором мы живем лишь тогда, когда чувствуем свою близость к природе, когда отдаемся музыкальной волне, исходящей из мирового оркестра.
28
Соответственно этому — неоплатоническому — видению мира, А. Блок, как и Вяч. Иванов, строит многоярусную систему соответствий, один конец которой — в области самых всеобщих законов “мирового оркестра”, а другой — в кругу вполне актуальных вопросов русской жизни начала XX в. Дионисийство и аполлинизм оформляются как ряды оппозиций: хаос и космос, земля и земная кора, стихия и культура, народ и интеллигенция, Россия и интеллигенция, музыкально-революционный напор и вековой сон цивилизации, романтизм и классицизм... Голосу стихий, духу музыки причастны народ, революция, искусство, поэтому они вполне сводимы одно к другому и легко обрастают соответствующими производными символами, легко смещающими свои значения (ср. костёр и лёд, но: снежный ветер). Что здесь важно? Важно, что устанавливается достаточно гибкая связь между единичным, конкретным актуальным, временным и “вечным”, сущностным, понятийно-родовым: как мы могли убедиться, в ответ на исторические сдвиги в нижних элементах вертикальных рядов системы оппозиций легко происходили сдвиги и переакцентировка, в то время как трансцендентальная основа системы — идея мирового оркестра и духа музыки, ищущего себе посредников для воплощения в мире, — оставалось неизменной. С точки зрения гибкости связи конкретно-единичного и понятийно-родового, кажется, не безразлично, что эта система не просто дуалистична (как принято отмечать), а многоярусна: каждый нижний элемент становится знаком следующего, высшего, и восхождение по этой иерархической цепи знаков — а realibus ad realiora — есть процесс постепенного движения в область всё более очищаемых от конкретности смыслов. Хотя следующее поколение иронизировало над — если можно так сказать — “пансемиотизмом” символистов,29 эта иерархическая семиотизация мира давала широкий простор вариационным возможностям и потому обеспечивала долгожитие символизма. Символизму в самом деле удалось создать свой метаязык, который работал и для 20-х гг. Однако эта своеобразная система сигнализации таила в себе — особенно в своих “верхних слоях” — возможность такой степени очищения от конкретности, которая порождала уже как бы “обобщение без смысла”, опустошённую знаковость. Может быть, именно потому постсимволистские течения — во всех их вариантах — прежде всего отказались от “заигрывания” с априорными сущностями и трансценденцией. Как это — вместе с другими факторами — сказалось на моделях мира литературно-стилистической формации, отталкивавшейся от символизма, удобно наблюдать на примерах из В. Хлебникова. Этот, кажется, самый глубокий носитель авангардной логики, разрушавшей символистскую систему, наиболее сопоставим с поэтами-символистами младшего поколения: он может быть описан в тех же “параметрах”, потому что — в отличие от своих собратьев-техницистов — тоже философичен и тоже “мифотворец”, хотя, конечно, по-другому. Исследуемая мифологема появляется у него в трансформации, наглядно раскрывающей своеобразие парадоксальной логики авангарда.
эта иерархическая семиотизация мира давала широкий простор вариационным возможностям и потому обеспечивала долгожитие символизма. Символизму в самом деле удалось создать свой метаязык, который работал и для 20-х гг. Однако эта своеобразная система сигнализации таила в себе — особенно в своих “верхних слоях” — возможность такой степени очищения от конкретности, которая порождала уже как бы “обобщение без смысла”, опустошённую знаковость. Может быть, именно потому постсимволистские течения — во всех их вариантах — прежде всего отказались от “заигрывания” с априорными сущностями и трансценденцией. Как это — вместе с другими факторами — сказалось на моделях мира литературно-стилистической формации, отталкивавшейся от символизма, удобно наблюдать на примерах из В. Хлебникова. Этот, кажется, самый глубокий носитель авангардной логики, разрушавшей символистскую систему, наиболее сопоставим с поэтами-символистами младшего поколения: он может быть описан в тех же “параметрах”, потому что — в отличие от своих собратьев-техницистов — тоже философичен и тоже “мифотворец”, хотя, конечно, по-другому. Исследуемая мифологема появляется у него в трансформации, наглядно раскрывающей своеобразие парадоксальной логики авангарда.
Идеологическое содержание трансформации выразилось в “скифстве”, которое, мне кажется, можно назвать национализацией идеи дионисийства. Национализацию подготовило поколение символистов — прежде всего тем, что слишком заинтересованно реагировало на мнение эллинистов своей эпохи о фракийском происхождении культа Диониса, а наследников фрако-иллирийской культуры видело в южных славянах и на этом строило свои надежды на “грядущее славянское возрождение”.30 Но осуществил её авангард. Ведь когда А. Блок писал (может быть, откликаясь на горький вопрос, выдвинутый ещё Чаадаевым): „‹...› у нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная”,31
Но осуществил её авангард. Ведь когда А. Блок писал (может быть, откликаясь на горький вопрос, выдвинутый ещё Чаадаевым): „‹...› у нас нет исторических воспоминаний, но велика память стихийная”,31 и когда Ф. Зелинский в одном из своих „аттических сказаний” произнёс устами Орфея симптоматичную фразу: „Из Скифии перенёс к нам вино учитель мой Дионис”,32
и когда Ф. Зелинский в одном из своих „аттических сказаний” произнёс устами Орфея симптоматичную фразу: „Из Скифии перенёс к нам вино учитель мой Дионис”,32 они откликались на уже сложившуюся тенденцию. Хлебников с его стихотворением Скифское и Воззванием (1908 г.) был одним из самых активных её носителей почти за 10 лет до выхода журнала «Скифы», программное предисловие которого во многом строилось на идеях Хлебникова об индо-русском единстве.
они откликались на уже сложившуюся тенденцию. Хлебников с его стихотворением Скифское и Воззванием (1908 г.) был одним из самых активных её носителей почти за 10 лет до выхода журнала «Скифы», программное предисловие которого во многом строилось на идеях Хлебникова об индо-русском единстве.
Самое чистое выражение национализации Диониса — пьеса-сказка Девий-бог (1911), представляющая собой подчеркнуто инфантильную пересадку на русскую почву, в русско-славянскую “языческую среду” одного значения Диониса — мужской ипостаси женского бога.33 Роль Леуны, в которой нетрудно узнать Артемиду, упоминание о Сновиде, который, несмотря на синечёрные кудри, есть аналог Аполлона (ср.: аполлинический сон у Ницше, сон цивилизации у А. Блока), а также многие детали сюжета свидетельствуют о том, что “перевод” осуществлён последовательно. Восемь лет спустя, в Свояси, В. Хлебников сказал о цели “перевода”:
Роль Леуны, в которой нетрудно узнать Артемиду, упоминание о Сновиде, который, несмотря на синечёрные кудри, есть аналог Аполлона (ср.: аполлинический сон у Ницше, сон цивилизации у А. Блока), а также многие детали сюжета свидетельствуют о том, что “перевод” осуществлён последовательно. Восемь лет спустя, в Свояси, В. Хлебников сказал о цели “перевода”:
В Девьем-боге я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию (выделено мной —
Л.С.).
34
В выделенных словах зафиксирован в высшей степени характерный сдвиг: ведь в эпоху символизма говорили наоборот — „от Греции в Россию”... Что у Хлебникова здесь не оговорка, а выявление настойчивой идеи, может быть подтверждено ближайшим примером — автокомментарием к Детям Выдры:
‹...›
отдельные паруса ‹...›
рассказывают о Волге, как реке индоруссов, и используют Персию, как угол русской и македонской прямых.35
Перелицовка и “перевод” античных мифов встраивались в более или менее мифотворческую “реконструкцию” праславянского фольклора, которою увлекались многие современники Хлебникова (прежде всего С. Городецкий, А. Ремизов, Н. Клюев, С. Есенин и др.). Сопровождалось это страстью к этнографическим “разысканиям”, справедливость которых, кажется, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, как, например, в случае со статьей Хлебникова, где доказывается, что бродники — обрусевшие потомки скифов.36 Не последнюю роль играли, наконец, и конкретно-исторические аллюзии: вспомним воззвания Хлебникова — результат его внимания к атмосфере на Балканах. Дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве,37
Не последнюю роль играли, наконец, и конкретно-исторические аллюзии: вспомним воззвания Хлебникова — результат его внимания к атмосфере на Балканах. Дух эллинов в борьбе с мидянами воскрес в современном славянстве,37 — пишет он в одном из них. В контексте всех этих устремлений идея “скифства” была интересна тем, что позволяла 1) подменить память культурно-историческую памятью стихийной, 2) через неё непосредственно (т.е. не через посредство культуры) приобщиться к эллинскому сознанию и 3) — в крайних проявлениях (подобных мимолетной фразе Ф. Зелинского или замечаниям Хлебникова) — тешиться мыслью о первенстве.
— пишет он в одном из них. В контексте всех этих устремлений идея “скифства” была интересна тем, что позволяла 1) подменить память культурно-историческую памятью стихийной, 2) через неё непосредственно (т.е. не через посредство культуры) приобщиться к эллинскому сознанию и 3) — в крайних проявлениях (подобных мимолетной фразе Ф. Зелинского или замечаниям Хлебникова) — тешиться мыслью о первенстве.
Что интересно в Девьем-боге кроме славянского мифотворчества? Характерная для Хлебникова работа временем, которую, кажется, не будет ошибкой назвать “борьбой с процессуальным временем”. Она проявляется в том, что — через язык и вещественно-сюжетные детали — разные времена даются как современные друг другу, подобно тому, как в кубистской живописи и взаимно-перпендикулярные плоскости могут быть даны в одной плоскости. В Девьем-боге патриархальное пастушество, жемчуга, серебряное зеркало греческой работы, совсем гоголевский жидовин капризно сополагаются друг с другом и со сверхмодернизированными сценами, вроде голосования юношей, вступать или не вступать им в схватку с Девьим-богом: Несогласных с моим предложением прошу поднять руку. Раз, два... При одном воздержавшемся...38
В мистерии Скуфья-скифа эта полная прихоть в выборе элементов веера времён дана ещё более обнажённо, в ней действительно (говоря, чуть перефразировав Хлебникова) “времена сияют через времена”.39 Мечта Хлебникова о государстве людей, родившихся в одном году, о таможенных границах между поколениями, программная строка стихотворения Скифское — Что было — в нашем тонет40
Мечта Хлебникова о государстве людей, родившихся в одном году, о таможенных границах между поколениями, программная строка стихотворения Скифское — Что было — в нашем тонет40 — и многое другое позволяет сделать вывод, что подобный метод веера времён, где все времена со-временны друг другу, есть, в сущности, абсолютизация современности, для которой прошлое — лишь набор возможностей для произвольного монтажа их в настоящем. Правда, теоретически Хлебников обосновывает этот монтаж некой закономерностью — открытым им законом периодичности повторов:
— и многое другое позволяет сделать вывод, что подобный метод веера времён, где все времена со-временны друг другу, есть, в сущности, абсолютизация современности, для которой прошлое — лишь набор возможностей для произвольного монтажа их в настоящем. Правда, теоретически Хлебников обосновывает этот монтаж некой закономерностью — открытым им законом периодичности повторов:
Мой основной закон времени: во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней ‹...›
Когда будущее становится благодаря этим выкладкам прозрачным, теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно на палубе предвидения будущего. Чувство времени исчезает и оно походит на поле впереди и поле сзади, становится своего рода пространством.41
В этих словах примечательна, прежде всего, мысль о превращении времени в пространство, очень характерная для модели авангарда, действительно тяготевшего к пространственным формам искусства, и противоположная стремлению символизма свести пространство ко времени (с чем связано тяготение символизма к музыке). Но сейчас важно обратить внимание на другое — на то, что за законом, благодаря которому теряется чувство времени, кажется, что стоишь неподвижно, кроется, может быть, не вынесенный к порогу сознания волюнтаризм, позволяющий принять за точку отсчета времени Я:
Я шёл к нему (к Числобогу —
Л.С.)
по людским глинам, прилипавшим к подошвам ‹...›
Мы относились к людям как к мёртвой природе.42
Однако, в таком случае модель Хлебникова — лишь особенно усложнённый вариант футуристической программы: начать все от нуля. Правда, Хлебников, в отличие от Маяковского, не прокламировал нулевого отношения к культуре, не писал: „Над всем, что сделано, ставлю nihil”, но его модель времени исключает необходимость в памяти исторической, в культуре как последовательной цепи предания, в “культурной памяти человечества”. Остается память стихийная, “шизофреничная” — поскольку прихотливо допускает любые провалы и, значит, равносильна беспамятству. Стихийная память может держаться лишь на “сублогическом”. Этим фактом, видимо, определяется характер работы Хлебникова над словом, над семасиологизацией фонем, над этимологией: звуковая, “сублогическая” связь компенсирует логическую. Например, в Манифесте скифов работает словесная связь: скиф — скит — скуфья, намекающая на этимологическое родство этих слов. Слова ‘скит’ и ‘скуфья’, как и контекст, в котором они появляются, направлены на то, чтобы максимально опредметить и тем самым жёстко очертить пределы смысла слова ‘скиф’. Поясню мысль сравнением. Когда А. Блок говорит: „Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!” — контекст здесь тоже строит зрительный образ скифа, но границы этого образа предельно размыты: это самый общий абрис, намеренно опирающийся на хрестоматийность („с раскосыми и жадными очами”). Как и в строчках „Тень Данта с профилем орлиным”, возмутивших Мандельштама,43 поэт не стесняется оперировать банальностью, т.е. тем, что утратило индивидуальный смысл: содержание здесь уже зависит от того, что имеет вложить в этот просторный абрис читатель. Когда же Хлебников говорит: Седой насильник Скиф удаляется в Скит и надевает на измученную голову покаянную скуфью,44
поэт не стесняется оперировать банальностью, т.е. тем, что утратило индивидуальный смысл: содержание здесь уже зависит от того, что имеет вложить в этот просторный абрис читатель. Когда же Хлебников говорит: Седой насильник Скиф удаляется в Скит и надевает на измученную голову покаянную скуфью,44 — здесь значение “скифства”, прежде всего “ословлено”, так как, благодаря игре сочетаниями скиф — скит, скиф — скуфья, привязано к звуковой фактуре, которая семасиологизирована и, таким образом, смысл прочно прикреплен к его национально-языковому оформлению. Во-вторых, понятийное содержание опредмечено во внешнем движении, изобразимом в пантомиме, в кинематографе: удаляется в скит, надевает ‹...› скуфью; мысленный образ как бы распластан в его вещественном изображении, жёстко прикреплён к тому, что представляет собой реальность для наших органов чувств.45
— здесь значение “скифства”, прежде всего “ословлено”, так как, благодаря игре сочетаниями скиф — скит, скиф — скуфья, привязано к звуковой фактуре, которая семасиологизирована и, таким образом, смысл прочно прикреплен к его национально-языковому оформлению. Во-вторых, понятийное содержание опредмечено во внешнем движении, изобразимом в пантомиме, в кинематографе: удаляется в скит, надевает ‹...› скуфью; мысленный образ как бы распластан в его вещественном изображении, жёстко прикреплён к тому, что представляет собой реальность для наших органов чувств.45 Так осуществляется приём реализованной метафоры, „превращения поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное строение”,46
Так осуществляется приём реализованной метафоры, „превращения поэтического тропа в поэтический факт, сюжетное строение”,46 обусловленный всё тем же недоверием к области чистых смыслов, желанием оставаться в пределах вещного мира. Последнему утверждению, казалось бы, противоречит идея звёздного языка, развивавшаяся Хлебниковым. Но нет. Она — “исключение”, которое парадоксально “подтверждает правило” отношения футуристов к уровню понятийно-родового. Теория языка понятий, противостоящего бытовому языку как игре в куклы (Хлебников), направлена на освобождение самовитого, чистого слова от предметности и тем самым на изоляцию понятийно-родового от конкретного. Собственно понятийное связывается лишь со звуковой фактурой,47
обусловленный всё тем же недоверием к области чистых смыслов, желанием оставаться в пределах вещного мира. Последнему утверждению, казалось бы, противоречит идея звёздного языка, развивавшаяся Хлебниковым. Но нет. Она — “исключение”, которое парадоксально “подтверждает правило” отношения футуристов к уровню понятийно-родового. Теория языка понятий, противостоящего бытовому языку как игре в куклы (Хлебников), направлена на освобождение самовитого, чистого слова от предметности и тем самым на изоляцию понятийно-родового от конкретного. Собственно понятийное связывается лишь со звуковой фактурой,47 но с отрывом от яруса, элементы которого оно призвано обобщать, “понятийное” приобретает перспективу самоуничтожения (“заумь”). В свою очередь, конкретное слово приравнивается вещи: с потерей яруса общих смыслов его семантические возможности редуцируются, но это возмещается активизацией “материально-технической основы”. Так происходит разрушение знаковости, поскольку план референции (отношение к вещи) и план означаемого (отношение к понятийно-родовому) изолируются друг от друга. Образуются два круга циркуляции “осколков”: круг беспредметного искусства и круг “творчества”, приравненного к “деланию вещей”. Разумеется, в художественной практике это не осуществляется с последовательностью, подсказываемой теорией Хлебникова о разграничении “бытового” и “чистого” слова, но тот факт, что к концу 20-х годов из русского футуризма уже бесспорно вырастают ветви “беспредметного” и “утилитарного” направлений, подтверждает, что нарисованная выше схема не содержит преувеличения. Известная мысль Р. Якобсона о том, что искусство авангарда перемещает внимание зрителя на внутризнаковые отношения, при всей своей справедливости, не учитывает, кажется, парадокса авангарда: роль синтактики в этом искусстве в самом деле возрастает, но семантические возможности ограничиваются. Если символизм с его “пансемиотизмом” максимально использует знаковую природу искусства, то футуризм — расщепляя в знаке планы референции и означаемого, активизируя синтактику — обнажает знаковость искусства и подвергает опасности самоуничтожения. С сокращением области переносных смыслов и мифологические реалии превращаются всего лишь в объект комбинаторики, в риторические фигуры. Не удивительно поэтому, что художественная мысль, рождавшаяся из преодоления авангарда, так устремлена против принципов “материальной эстетики”.
но с отрывом от яруса, элементы которого оно призвано обобщать, “понятийное” приобретает перспективу самоуничтожения (“заумь”). В свою очередь, конкретное слово приравнивается вещи: с потерей яруса общих смыслов его семантические возможности редуцируются, но это возмещается активизацией “материально-технической основы”. Так происходит разрушение знаковости, поскольку план референции (отношение к вещи) и план означаемого (отношение к понятийно-родовому) изолируются друг от друга. Образуются два круга циркуляции “осколков”: круг беспредметного искусства и круг “творчества”, приравненного к “деланию вещей”. Разумеется, в художественной практике это не осуществляется с последовательностью, подсказываемой теорией Хлебникова о разграничении “бытового” и “чистого” слова, но тот факт, что к концу 20-х годов из русского футуризма уже бесспорно вырастают ветви “беспредметного” и “утилитарного” направлений, подтверждает, что нарисованная выше схема не содержит преувеличения. Известная мысль Р. Якобсона о том, что искусство авангарда перемещает внимание зрителя на внутризнаковые отношения, при всей своей справедливости, не учитывает, кажется, парадокса авангарда: роль синтактики в этом искусстве в самом деле возрастает, но семантические возможности ограничиваются. Если символизм с его “пансемиотизмом” максимально использует знаковую природу искусства, то футуризм — расщепляя в знаке планы референции и означаемого, активизируя синтактику — обнажает знаковость искусства и подвергает опасности самоуничтожения. С сокращением области переносных смыслов и мифологические реалии превращаются всего лишь в объект комбинаторики, в риторические фигуры. Не удивительно поэтому, что художественная мысль, рождавшаяся из преодоления авангарда, так устремлена против принципов “материальной эстетики”.
С точки зрения нашей темы важно обратить внимание на то, что наиболее убедительная антитеза формализма — эстетика М. Бахтина — начала с реабилитации объёмности знака. Такие положения, как „где нет знака — там нет и идеологии”, „всему идеологическому принадлежит знаковое значение”,48 восстанавливали, прежде всего, область общих смыслов, но — в противоположность эстетике символизма — не апеллировали к трансценденции, к априорным сущностям. Этим, кажется, намечался синтезис. Вторым важным шагом в полемике с техницизмом авангарда явилась реабилитация „ценностного контекста автора”:
восстанавливали, прежде всего, область общих смыслов, но — в противоположность эстетике символизма — не апеллировали к трансценденции, к априорным сущностям. Этим, кажется, намечался синтезис. Вторым важным шагом в полемике с техницизмом авангарда явилась реабилитация „ценностного контекста автора”:
В эстетический объект входят все ценности мира, но с определённым эстетическим коэффициентом, позиция автора в его художественное задание должно быть понято в мире в связи со всеми этими ценностями. Завершаются не слова, не материал, а всесторонне пережитый состав бытия, художественное задание устрояет конкретный мир: пространственный с его ценностным центром — живым телом, временной с его центром — душою, и, наконец, смысловой — в их конкретном взаимопроникающем единстве ‹...› Эстетическая деятельность собирает рассеянный в смысле мир и сгущает его в законченный и самодовлеющий образ, находит для преходящего в мире (для его настоящего, прошлого, наличности его) эмоциональный эквивалент, оживляющий и оберегающий его, находит ценностную позицию, с которой преходящее мира обретает ценностный событийный вес, получает значимость и устойчивую определённость. Эстетический акт рождает бытие в новом ценностном плане мира, родится новый человек и новый ценностный контекст — план мышления о человеческом мире.
49
Значат ли эти слова возрождение дуализма позавчерашнего дня? Нет, скорее, они означают признание реальности существования ноосферы, а тем самым и утверждение её основных хранителей: памяти (памяти жанра, памяти слова50 ) — культуры. Но культура не представляет собой однородное поле, и в нахождении её ценностных узлов М. Бахтин опирается на позавчерашний день, породивший всё ещё живую и актуальную идею — на антиномию аполлинического и дионисийского, как она представлена в ново-почвеннической трансформации Вяч. Иванова. Мысли М. Бахтина о противостоянии народной смеховой культуры официальному сознанию, о сущности карнавализации, утверждающей принцип „весёлой относительности”,51
) — культуры. Но культура не представляет собой однородное поле, и в нахождении её ценностных узлов М. Бахтин опирается на позавчерашний день, породивший всё ещё живую и актуальную идею — на антиномию аполлинического и дионисийского, как она представлена в ново-почвеннической трансформации Вяч. Иванова. Мысли М. Бахтина о противостоянии народной смеховой культуры официальному сознанию, о сущности карнавализации, утверждающей принцип „весёлой относительности”,51 как и анализ народно-карнавальных форм, в основе своей сходны с идеями Вяч. Иванова о существе дионисийства. Более всего важно здесь, пожалуй, присущее обоим особое понимание границ и связей между телом и миром (ср. principium individuationis), а также роли ритуального смеха, “в акте” которого как раз и сочетаются „смерть и возрождение, отрицание... и утверждение”.52
как и анализ народно-карнавальных форм, в основе своей сходны с идеями Вяч. Иванова о существе дионисийства. Более всего важно здесь, пожалуй, присущее обоим особое понимание границ и связей между телом и миром (ср. principium individuationis), а также роли ритуального смеха, “в акте” которого как раз и сочетаются „смерть и возрождение, отрицание... и утверждение”.52 Но если мысль Вяч. Иванова устремлена — сквозь древнейшие варианты мифа и пра-пра-обряда к „довременным подлинникам”, архетипам, — сознание Бахтина, исследующего карнавализованные формы литературы, сосредоточено на самом долгом культурно-историческом пути карнавального сознания и его роли в оформлении разных типов и этапов культуры. Когда Бахтин пишет, что „карнавал, так сказать, функционален, а не субстанционален”,53
Но если мысль Вяч. Иванова устремлена — сквозь древнейшие варианты мифа и пра-пра-обряда к „довременным подлинникам”, архетипам, — сознание Бахтина, исследующего карнавализованные формы литературы, сосредоточено на самом долгом культурно-историческом пути карнавального сознания и его роли в оформлении разных типов и этапов культуры. Когда Бахтин пишет, что „карнавал, так сказать, функционален, а не субстанционален”,53 — в этих словах — кроме всего прочего — можно видеть желание противопоставить онтологизму Вяч. Иванова исторически аранжированный феноменологизм.54
— в этих словах — кроме всего прочего — можно видеть желание противопоставить онтологизму Вяч. Иванова исторически аранжированный феноменологизм.54 В этом смысле показательно, что в исследовании карнавального сознания Вяч. Иванов отправляется от прадионисийских культов, в то время как Бахтин не спускается древнее сатурналий.
В этом смысле показательно, что в исследовании карнавального сознания Вяч. Иванов отправляется от прадионисийских культов, в то время как Бахтин не спускается древнее сатурналий.
Сдвиг, осуществлённый Бахтиным, оказался, видимо, назревшим — недаром на его работы так охотно опираются многие современные исследования механизма культуры.55 Таким образом, благодаря трансформации Бахтина, старая антиномия, которою Ницше обязан, по его признанию, Шопенгауэру, обязанному, по его признанию, Канту, — возродилась в новом, пока ещё не распознанном современниками обличье.56
Таким образом, благодаря трансформации Бахтина, старая антиномия, которою Ницше обязан, по его признанию, Шопенгауэру, обязанному, по его признанию, Канту, — возродилась в новом, пока ещё не распознанном современниками обличье.56 Открытым остается вопрос: что обеспечивает долговечность антиномии, которая, легко видоизменяясь соответственно метаязыку обслуживаемой ею системы, сохраняет, тем не менее, своё ядро, позволяющее узнавать в этой протеистической цепи всего лишь филиацию идей?
Открытым остается вопрос: что обеспечивает долговечность антиномии, которая, легко видоизменяясь соответственно метаязыку обслуживаемой ею системы, сохраняет, тем не менее, своё ядро, позволяющее узнавать в этой протеистической цепи всего лишь филиацию идей?
————————
Примечания 1 Эллинская религия страдающего бога
1 Эллинская религия страдающего бога, «Новый путь», 1904, № 1–4,8,9;
Религия Диониса. Её происхождения и влияния, «Вопросы жизни», 1905, №6,7;
Ницше и Дионис, «Весы», 1904, № 5;
О Дионисе орфическом, «Русская мысль», 1913, № 11;
Дионис и прадионисийство, Баку, 1923.
 2
2 Вопросы жизни материала в пределах одной культурной среды затронуты мною в ст.
Слово у Мандельштама (сб.:
Структура и семантика литератур ного текста, Будапешт, 1976, особ. стр. 84–86),
Античная Ленора в XX веке (Сборник докладов и сообщений венгерской делегации на VIII международном съезде славистов, Будапешт, 1978).
 3
3 Наиболее ценным исследованием этого сложного сюжета представляется книга И. Смирнова,
Художественный смысл и эволюция поэтических систем, (Москва 1977), которая — несмотря на расхождения в частных интерпретациях — является главной теоретической основой данной работы.
 4 Литературные заметки, Аполлон и Дионис
4 Литературные заметки, Аполлон и Дионис, «Северный вестник», 1896, № 11.
 5 Дионис и прадионисийство
5 Дионис и прадионисийство, стр. 260.
 6 Поэт и Чернь
6 Поэт и Чернь, «Весы», 1904, № 3,8.
 7
7 На близость идей Вяч. Иванова к теории архетипа у К. Юнга уже указывалось: Ф. Степун,
Памяти Вяч. Иванова, «Возрождение», Париж, 1949, 5; см. также работы С. Аверинцева, «Вопросы литературы», 1975, № 8, стр. 153 и сб.
О современной буржуазной эстетике, вып. 3, Москва, 1972, стр. 132–133. Однако сам характер исследования архетипического, кажется, в большей мере роднит Вяч. Иванова с выдающимся венгерским мифологом, который, как известно, был близок К. Юнгу. По мнению С. Аверинцева, высказанному устно, этот неканонический атрибут Христа восходит к „венцу из роз” Заратустры, который тоже появляется в сопровождении мотивов смеха, игры, как бы неожиданно всплывающих в конце поэмы А. Блока (ср. „‹...› ветер с красным флагом разыгрался впереди”, „‹...› вьюга долгим смехом заливается в снегах ‹...›”. У Ницше см. главу
Van höheren Menschen: Nietzsche’s Werke, Leipzig 1899, стр. 428.). Активность реминисценций из Ницше в публицистике позднего Блока также говорит в пользу предположения советского исследователя. Однако, если учесть, насколько укрепившейся была в сознании русских символистов контаминация Христа с Дионисом, — использование атрибутов весёлого и кровавого бога для выражения святости кровавого карнавала революции покажется более прямым, а посредничество дионисийца Заратустры — излишним.
 8
8 «Новый путь», 1904, № 4, стр. 125.
 9
9 «Новый путь», 1904, № 1, стр. 117.
 10
10 «Вопросы жизни», 1905, № б, стр. 193.
 11
11 «Новый путь», 1905, № 3, стр. 51.
 12
12 Там же, стр. 53.
 13
13 «Вопросы жизни», 1905, № 6, стр. 185.
 14
14 Там же, стр. 197.
 15
15 «Новый путь», 1904, № 1, стр. 122.
 16
16 «Новый путь», 1904, № 3, стр. 206, 208–209.
 17
17 «Новый путь», 1904, № 2, стр. 74.
 18
18 «Новый путь», 1904, № 1, стр. 133.
 19
19 «Новый путь», № 2, стр. 58.
 20 А. Блок.
20 А. Блок. Творчество Вяч. Иванова. «Вопросы жизни», 1905, № 4.
 21
21 См.:
А. Блок. Записные книжки.
Москва, 1965, стр. 82 и далее.
 22 А. Блок.
22 А. Блок. Собрание сочинений. Т. V.,
Москва–Ленинград, 1962, 10. Внутренние цитаты — из Вяч. Иванова.
 23
23 Там же, стр. 356.
 24 Там же
24 Там же, стр. 359.
 25
25 Начиная с предисловия ко второму изданию книги
Россия и интеллигенция (ноябрь 1918 г.). В статье
О романтизме уже подчёркивается: „Романтизм есть не что иное, как способ устроить, организовать человека, носителя культуры, на новую связь со стихией ‹...› спасение для культуры — быть в таком же бурном движении, в каком пребывает стихия” (
А. Блок. Собрание сочинений. Т. VI, стр. 365, 368.).
 26 Там же
26 Там же, стр. 111. Ср. также: „Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно. Если же мы будем говорить о приобщении человечества к
культуре, то неизвестно ещё, кто кого будет приобщать с большим правом: цивилизованные люди — варваров, или наоборот: так как цивилизованные люди изнемогли и потеряли культурную цельность; в такие времена бессознательными хранителями культуры оказываются более свежие варварские массы”. (
Там же, стр. 99.) А. Белый горячо проповедовал противопоставление культуры и цивилизации, начиная уже с первой заграничной поездки. Ср., например, строки из письма его М. Морозовой: „Культуру Европы придумали русские; на западе есть цивилизации” (цит. по
Л. Долгополов. На рубеже веков.
Ленинград, 1977, стр. 221.)
 27 А. Блок.
27 А. Блок. Записные книжки. Стр. 78.
 28 А. Блок.
28 А. Блок. Собрание сочинений. Т. VI, стр. 101.
 29
29 Ср. филиппику О. Мандельштама: „Возьмём к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Для символиста ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы, голубка — подобие девушки, а девушка — подобие голубки. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического леса чучельная мастерская. Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс “соответствий”, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намёки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой”. — (
О. Мандельштам. О природе слова. Собрание сочинений в двух томах.
Нью-Йорк, 1966, т. II, стр. 296–297).
 30 Ф. Зелинский.
30 Ф. Зелинский. И. Анненский как филолог-классик. «Аполлон», 1910, № 4,8. Несколько подробнее этого вопроса я касаюсь в статье
Античная Ленора в XX веке.
 31 А. Блок.
31 А. Блок. Собрание сочинений. Т. VI, стр. 114.
 32 Ф. Зелинский.
32 Ф. Зелинский. Царица вьюг (эллины и скифы).
Петроград, 1922, стр. 69.
 33
33 Чтобы оценить инфантильность “перевода”, достаточно вспомнить, как понимает этот аспект дионисийства Вяч. Иванов: „Дионисов культ является, по преимуществу, женским культом мужского начала: пафос этой религии не может быть иной, чем пафос женского отмщения, богоборствующего мужеубийства; мужское обоготворенное, овладевающее и на мгновение победоносное начало не может представляться иным, чем обречённым и претерпевающим, чем аспектом божества страдающего”. — «Вопросы жизни», 1905, № 6, стр. 193.
 34 В. Хлебников.
34 В. Хлебников. Собрание сочинений.
Wilhelm Fink Verlag, München, 1968, т. I, ч. 2, 7.
 35
35 Там же.
 36 В. Хлебников.
36 В. Хлебников. Собрание сочинений, 1971, т. IV, стр. 336.
 37 В. Хлебников.
37 В. Хлебников. Собрание сочинений, 1972, т. III, стр. 405.
 38 В. Хлебников.
38 В. Хлебников. Собрание сочинений, 1968, т. II, ч. 2, стр. 180.
 39
39 Там же, стр. 80.
 40 В. Хлебников.
40 В. Хлебников. Собрание сочинений, т. I, ч. 2, стр 181.
 41 В. Хлебников.
41 В. Хлебников. Собрание сочинений, т. III, стр. 324.
 42 В. Хлебников.
42 В. Хлебников. Собрание сочинений, т. II, ч. 2, стр. 82.
 43
43 „Ничего не увидел кроме гоголевского носа!!” — комментирует О. Мандельштам эти строки в заметках к
Разговору о Данте. — „Дантовское чучело из девятнадцатого века! Для того, чтобы сказать это самое про заостренный нос, нужно было обязательно не читать Данта!” —
О. Мандельштам. Собрание сочинений в двух томах, т. II, стр. 454. Ср. также более сдержанное замечание о тех же строках А. Блока в
Разговоре о Данте (там же, стр. 417).
 44 В. Хлебников.
44 В. Хлебников. Собрание сочинений, т. IV, стр. 348.
 45
45 У О. Мандельштама есть возражение и против этого метода: „Зачем отождествлять слово с вещью, с травою, с предметом, который оно обозначает? Разве вещь хозяин слова? Слово Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг браненного, но не забытого тела”. Там же, стр. 267.
 46
46 На это обратил внимание Р. Якобсон в своей книге
Новейшая русская поэзия, Прага, 1921.
 47
47 В отличие от „эмблематики смысла”, предлагавшейся А. Белым,
Азбука будетлянина формулирует эмблематику звука.
 48 В. Волошинов.
48 В. Волошинов. Марксизм и философия языка.
Ленинград, 1929, стр. 15,17.
 49 М. Бахтин.
49 М. Бахтин. Проблема автора. «Вопросы философии», 1977, № 7, стр. 151–152.
 50
50 Проблема “памяти слова” у Мандельштама, эстетика которого тоже складывалась в двойной оппозиции: к символизму и к футуризму, — затронута в упоминавшейся уже статье
Слово у Мандельштама.
 51 М. Бахтин.
51 М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского.
Москва, 1972, стр. 211.
 52
52 Там же, стр. 215.
 53
53 Там же, стр. 211.
 54
54 Если вспомнить, что русский гуссерлианец Г. Шпет был также ориентирован на историю, отложившуюся в слове, не следует ли видеть в этой тенденции своеобразный русский вариант феноменологизма?
 55
55 Я имею в виду, прежде всего, работы школы Ю. Лотмана о семиотическом механизме культуры, а также книгу:
Д. Лихачев и А. Панченко. “Смеховой мир” древней Руси.
Ленинград, 1976.
 56
56 Правда, Вяч.Вс. Иванов намекает на связи /отталкивания Бахтина с Фрейдом, очевидные по прочтении книги Бахтина – Волошинова
Фрейдизм — см.: Труды по знаковым системам, т. VI, Тарту, 1973, стр. 44.
Воспроизведено по:
Umjetnost Riječi (Časopis za znanost o književnosti)
God. XXV. 1981. S. 155–172
Hrvatsko Filološko Društvo — Zagreb.
Zavod za književnost Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.
Благодарим Йосипа Ужаревича (Josip Užarević, Zagreb)
за содействие web-изданию.
The main illustration is borrowed:
Bill Woodrow (born in 1948 near Henley, Oxfordshire, UK. Lives and works in London).
Elephant. 1984. Car doors, maps and a vacuum cleaner.
flickriver.com/photos/maggieharnew/9513101588/
Graphic accompaniment:
large initial capital is combined:
Jonathan Day, aka Mad Pencil (b. 1954 in Juneau, Alaska; currently: Alpine, Oregon, USA):
1) Song. Pen, ink and watercolor on Arches 140 lb watercolor paper;
2) Evening Dance. Pen, ink and watercolor on Arches 140 lb watercolor paper.
Drawing peek-a-boo:
Peter Seelig (Vienna, Austria; www.flickr.com/photos/peterseelig/)


![]()
 отя первый прямой отклик в России на центральную антиномию Рождения трагедии принадлежит, видимо, А. Волынскому,4
отя первый прямой отклик в России на центральную антиномию Рождения трагедии принадлежит, видимо, А. Волынскому,4![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()