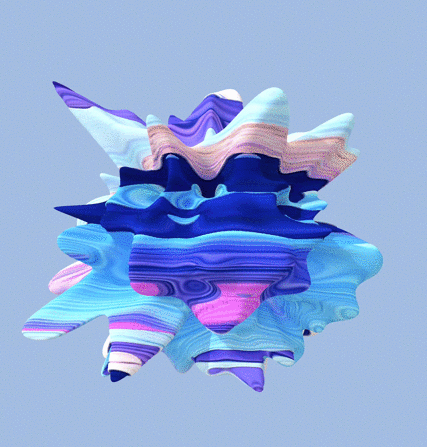И.П. Смирнов
Барокко и футуризм
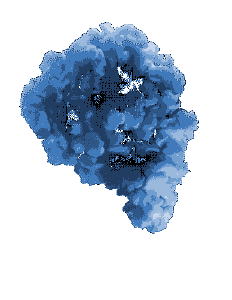
ема “барокко и футуризм” — лишь один из аспектов широкой темы “барокко и культура первой половины XX в.”. Впрочем, если ограничиться материалом русской литературы, то необходимо признать, что наиболее показательные схождения между искусством XVII в. и художественной практикой нашего столетия прослеживаются именно в футуристическом творчестве.
1
Эти схождения не остались незамеченными в кругу самих футуристов и вращавшихся в нём критиков. С. Бобров усматривал прообраз футуристического отношения к языку в теории словесного знака, извлечённой из трактата Якоба Бёме «Aurora, или Утренняя заря». Р.О. Якобсон, разбирая
перевертни Хлебникова, указывал на аналогичные стихотворные формы в творчестве киевского поэта XVII в. Ивана Величковского [61: 661]. Наконец, на исходе футуристического движения В.Б. Шкловский попытался определить общий принцип сближения двух культурных эпох:
Владимир Маяковский не случайно так трудно строил сюжет своих поэм. Люди нашего времени, люди интенсивной детали —. люди барокко... Барокко, жизнь интенсивной детали, не порок, а свойство нашего времени.
[212: 114–115]
Приведённые высказывания, разумеется, не дают повода утверждать, что футуризм в целом был ориентирован на сколько-нибудь сознательное продолжение традиций барокко как в их западном, так и тем паче в отечественном вариантах. Возможность умышленного возобновления этих традиций исключается в силу самой природы футуризма, стремившегося не к наращиванию, но к радикальному преобразованию культурных ценностей. К тому же, что касается отечественных памятников XVII в., то в период возникновения постсимволистских группировок бóльшая часть этого наследия находилась за пределами оперативной памяти культуры по причине “умеренности” и “провинциальности” [34: 202 и далее] русского официального барокко, не исчерпавшего весь свой трансформационный потенциал и зависевшего от польских и западноевропейских образцов.2
Исследователь, сопоставляющий русское барокко и русский футуризм, попадает в своеобразную методологическую ситуацию. Поскольку теория влияний в данном случае бессильна раскрыть происхождение многочисленных совпадений между двумя литературными системами, кажется естественным думать, что их изоморфизм должен быть следствием одинаковых социальных условий, которыми отличаются и XVII в. и первая треть XX в. — эпохи войн, массовых движений, идеологического раскола общества. Но сколь бы ни было соблазнительно это предположение, оно вряд ли способно удовлетворительно объяснить аналогии в литературной технике барокко и футуризма — в частности, характерную для обоих стилей распространённость акростихов, фигурных стихов, палиндромов, произвольных этимологий, иконических прочтений словесного знака и пр. Такая мотивировка перекличек в текстах барокко и футуризма, которая охватывает сразу и семантический, и формальный уровни двух художественных ансамблей, и притом не сообщает понятию барокко признаков вневременной эстетической категории, отыскивается в области семиозиса двух систем.
Если футуризм вменил знаку качество вещи, то организация смысла в эпоху барокко обусловливалась панзнаковым подходом к реальности: объекты физического мира были приравнены к единицам плана выражения, утратившим суверенное семантическое содержание.3
Несмотря на то, что семиотические предпосылки барокко и футуризма были диаметрально противоположными, оба направления основывались на одном и том же системообразующем парадоксе — на смешении вещей и знаков. Имея различные начальные состояния, барокко и футуризм сделались эквифинальными системами литературного смысла. Причём под эквифинальностью здесь следует понимать общность в форме содержания барокко и футуризма, но не общность в субстанции содержания, так как эти художественные системы сходно отражали разные исторические реалии.
1. Одним из результатов, вызванных неразличением естественных фактов и семиотических величин, была разделяемая барокко и футуризмом концепция пространственного времени. Если всякий физический объект обладает семиотической (замещающей) природой, то он оказывается включённым в бесконечную цепь знаковых отсылок, должен отражать в себе историю мира в целом: быть предвосхищением будущего и хранителем информации о прошлом. С другой стороны, если знаки — это не что иное, как эмпирические данности, то они не могут служить средством для замещения и передачи социального опыта, в силу чего бытие лишается истории.4 В первом случае возникает панхронное, во втором — ахронное осознание реальности. Но как ни противоречат друг другу эти отправные программы барокко и футуризма, и там и здесь время неизбежно теряет признак необратимости, события связываются так, как если бы они были организованы в пространстве, т.е. воспринимаются под углом зрения темпорального порядка.5
В первом случае возникает панхронное, во втором — ахронное осознание реальности. Но как ни противоречат друг другу эти отправные программы барокко и футуризма, и там и здесь время неизбежно теряет признак необратимости, события связываются так, как если бы они были организованы в пространстве, т.е. воспринимаются под углом зрения темпорального порядка.5
Вот почему тема Страшного суда одинаково варьируется и в футуристических текстах (достаточно назвать хотя бы «Флейту-позвоночник», «А всё-таки», «Ко всему», «Надоело», «Мрак» Маяковского), и в «Пентатеугуме» Белобоцкого, в цикле «Человек» Симеона Полоцкого, в «Виршах на Апокалипсис» Величковского. В произведениях, изображающих Страшный суд, на хроногенетической оси отмечена крайняя точка, откуда начинается возвратное движение. Человек проделывает замкнутый путь во времени; оно направлено от настоящего к будущему и вспять — к настоящему. Действие спроецировано сразу на две плоскости: будущее переживается в настоящем и наоборот.6
Топологическое осмысление времени становится причиной того, что в моделях мира, создаваемых писателями барокко и футуризма, настоящее может превращаться в ту единственную темпоральную реальность,7 куда прошлое и будущее вмещены наподобие пространственных фрагментов. Немотивированные анахронизмы Хлебникова, смешивавшего прошлое и настоящее, были проанализированы ещё Р.О. Якобсоном: „Такова, например, «Училица», где героиня — курсистка бестужевка, а герой — боярский сын Володимерко” [61: 27]. Представители обоих направлений сосредоточены на фактах текущей истории:8
куда прошлое и будущее вмещены наподобие пространственных фрагментов. Немотивированные анахронизмы Хлебникова, смешивавшего прошлое и настоящее, были проанализированы ещё Р.О. Якобсоном: „Такова, например, «Училица», где героиня — курсистка бестужевка, а герой — боярский сын Володимерко” [61: 27]. Представители обоих направлений сосредоточены на фактах текущей истории:8 не случайно даже автор «Повести о Савве Грудцыне», отстаивавший средневековый семейно-корпоративный традиционализм, счёл обязательным предуведомить читателей, что его повесть „зело предивна и истинна яже бысть во дни сия ‹...›” [47: 234]. В случае воспроизведения мифологической тематики архетипические структуры в поэзии футуристов обычно передавались в терминах современного вещественного обихода. Архетипическая метафора битва — жатва (пашня)9
не случайно даже автор «Повести о Савве Грудцыне», отстаивавший средневековый семейно-корпоративный традиционализм, счёл обязательным предуведомить читателей, что его повесть „зело предивна и истинна яже бысть во дни сия ‹...›” [47: 234]. В случае воспроизведения мифологической тематики архетипические структуры в поэзии футуристов обычно передавались в терминах современного вещественного обихода. Архетипическая метафора битва — жатва (пашня)9 в стихах Хлебникова обрастает реалиями XX в.:
в стихах Хлебникова обрастает реалиями XX в.:
Соломорезка войны
Железной решеткою
Втягивает
Всё свежие
И свежие колосья
С зернами слёз Великороссии...
Соломорезка войны
Сельскую Русь
Втягивает в жабры.
[55: т. 5, 16]
У раннего Маяковского герой вершит историю по собственному плану; история начинается тогда, когда в мир вступает поэт, который рассматривает всё сущее как сферу своего воздействия. Поэт собой, своим появлением открывает эпоху исторического времени: „Слушайте! Из меня слепым Вием время орёт: „Подымите, подымите мне веков веки!” [28: т. 1, 230]. Таким образом, все исторические события переносятся Маяковским из незначащей в его творчестве области воздействующего прошлого в краткий промежуток настоящего. Неразличение настоящего и прошедшего в плане выражения может давать даже конструкции типа: наречие времени ‘теперь’ (в значении ‘сейчас’) + прошедшее время глагола ‘быть’: „Куда легендам о бойнях Цезаря пред былью, которая теперь была” [28: т.1, 220]. Если для естественных языков нормально употребление praesens historicum, то у Маяковского, напротив, используется своеобразное “прошедшее настоящее”. В поэме «Облако в штанах» названо множество конкретных исторических лиц. Их имена не просто упомянуты, они сделаны опорными словами, будучи в большинстве своём рифмующимися. В поэме всплывают имена Бисмарка, генерала Галифе, Джека Лондона, Круппа, Гёте, Заратустры, Гомера и Овидия, Наполеона, Ротшильда, Азефа, Мамая, Иродиады, Иоанна Крестителя и др. Все они включены в действие, введение этих имён в текст поэмы сжимает историческое время10 в преходящем мгновении настоящего.
в преходящем мгновении настоящего.
Сочетанию в настоящем разных временных планов отвечают либо мотивы тления живого, скоротечности бытия, преждевременной, конвульсивной и прижизненной смерти („без смерти смерть”, как сказал Аввакум [42: 169]), к которым футуристическое искусство обращалось, пожалуй, реже, чем искуство барокко, но всё же испытывало заметный интерес (поэма Кручёных «Полуживой», картина заражённого микробами мира у Маяковского, тема “распада” у Пастернака и пр.), либо, напротив, мотивы регенерации, вечной молодости, личного бессмертия (ср. выздоровление увечных, выразительно описанное Аввакумом в том месте его «Жития», где приговорённые к отрезанию языка старообрядцы обретают дар слова, или поучительные истории о восстании из гроба: так, в «Повести про царя Ивана Васильевича и купца Харитона Белоулина» несправедливая экзекуция, учинённая тираном, останавливается после того, как в конвульсиях оживает труп казнённого купца).11 Иногда эти конкурирующие семантические комплексы сплетались в единое целое, как, например, в стихах Величковского, для которого предпосылка спасения души состоит в отказе от жизни:
Иногда эти конкурирующие семантические комплексы сплетались в единое целое, как, например, в стихах Величковского, для которого предпосылка спасения души состоит в отказе от жизни:
‹...› И во всем ты житiи, яка мертв, вм
ѣнися,
сл
ѣп, глух, н
ѣм, нечувствен будь, тако ся спасеши ‹...›
12 [6: 123]
[6: 123]
Ощущая темпоральную многоплановость настоящего, поэты барокко и футуризма придавали особое сюжетное значение переходным моментам истории, причём таким, которые казались прологом времени, лишённого развития (показательно в этой связи построение трагикомедии «Владимир» Феофана Прокоповича, посвящённой принятию христианства на Руси; ср. «Войну и мир» Маяковского). Грядущее не отделяется от современности; „цель современья ‹...› — по словам эго-футуриста Игнатьева, — в непрестанном устремлении к достижению возможностей Будущего в Настоящем” [14: 5]; текущие события возводятся в ранг предзнаменований, откуда и беспрецедентный рост пророчеств в XVII в., чрезвычайно распространившихся на русской почве среди идеологов старообрядчества, и визионерство Хлебникова в «Досках судьбы», Маяковского — в «Облаке в штанах», Кручёных — в книге «Вселенская война».
В сравниваемых литературных системах ход жизни и истории часто изображается в виде циклических повторов.13 Циклизация времени вела к тому, что путь человека уподоблялся судьбам сакральных персонажей (ср. следы христианского мифа в «Человеке» Маяковского и у Пастернака). Тогда же, когда в настоящем переживалось не прошлое, а будущее, циклическая модель порождала мотивы танца смерти, в которых слиты представления о бесконечно воспроизводимом и прерывистом движении во времени.14
Циклизация времени вела к тому, что путь человека уподоблялся судьбам сакральных персонажей (ср. следы христианского мифа в «Человеке» Маяковского и у Пастернака). Тогда же, когда в настоящем переживалось не прошлое, а будущее, циклическая модель порождала мотивы танца смерти, в которых слиты представления о бесконечно воспроизводимом и прерывистом движении во времени.14
В синтагматике текстов идея обратимости времени воплощалась в том, что начальные части произведений („предисловцы” в пьесах Симеона Полоцкого, прологи в поэмах Маяковского) не столько объясняли предысторию рисуемых событий, сколько подытоживали их.15 “До” и “после” менялись местами. Отражением темпоральных концепций барокко и футуризма на формальном уровне необходимо считать и использование в обоих стилях разных типов перевертней. Палиндромы означают реверс времени в пространстве текста; время в синтагматике произведения течёт не только от начала к концу, но и в обратном порядке; тем самым, его однонаправленность нейтрализуется, оно оказывается преодолённым. Сходные задания относительно “образов” присутствуют в программе имажинистов, организационно и идейно наследовавших футуристической фракции «Мезонин поэзии»: имажинисты настаивали на том, что метафорические слагаемые стихотворной структуры должны быть безразличными к её линейному развёртыванию и читаться в любой последовательности (так называемые “каталог образов” и “машина образов”16
“До” и “после” менялись местами. Отражением темпоральных концепций барокко и футуризма на формальном уровне необходимо считать и использование в обоих стилях разных типов перевертней. Палиндромы означают реверс времени в пространстве текста; время в синтагматике произведения течёт не только от начала к концу, но и в обратном порядке; тем самым, его однонаправленность нейтрализуется, оно оказывается преодолённым. Сходные задания относительно “образов” присутствуют в программе имажинистов, организационно и идейно наследовавших футуристической фракции «Мезонин поэзии»: имажинисты настаивали на том, что метафорические слагаемые стихотворной структуры должны быть безразличными к её линейному развёртыванию и читаться в любой последовательности (так называемые “каталог образов” и “машина образов”16 ).
).
2. Подобно тому как категория времени пропитывалась пространственными значениями, сами топологические смыслы, рассеянные в произведениях барокко и футуризма, приобретали темпоральную окраску. В обеих моделях действительности художественное пространство выступало как ориентированное. Но при этом искусство барокко приписывало элементам мира-текста, упорядоченным вдоль синтагматической оси, зависимость от однонаправленной ориентации пространства (анизотропность). Футуризм же, отнимая у знаковых совокупностей их отличительные свойства, в том числе и свойство быть линейно организованными, приводил пространство в такое состояние, которое исключало наличие одной преимущественной ориентации (изотропность).
Так или иначе, отмеченная ориентированность топоса передавалась писателями барокко и футуризма прежде всего в темах пространственных перемещений.17 Высокая проницаемость пространства — признак, равно присущий, с одной стороны, прозе и поэзии XVII в., и в первую очередь авантюрным повестям, а с другой — произведениям футуристов, склонных динамизировать даже неподвижные предметы („И с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор” [28: т. 1, 48), откуда, видимо, первоначальные импрессионистические заявки ранних футуристов: ср. название предфутуристического сборника «Студия импрессионистов». Сами художники XVII и начала XX в. — это путешественники, странники, эмигранты или, наконец, участники турне.
Высокая проницаемость пространства — признак, равно присущий, с одной стороны, прозе и поэзии XVII в., и в первую очередь авантюрным повестям, а с другой — произведениям футуристов, склонных динамизировать даже неподвижные предметы („И с каплями ливня на лысине купола скакал сумасшедший собор” [28: т. 1, 48), откуда, видимо, первоначальные импрессионистические заявки ранних футуристов: ср. название предфутуристического сборника «Студия импрессионистов». Сами художники XVII и начала XX в. — это путешественники, странники, эмигранты или, наконец, участники турне.
Эстетика той и другой эпох утверждает принципы асимметрии и диспропорциональности. Уже в «Студии импрессионистов» Кульбин призывал отречься от пропорционального соотношения частей в искусстве: „Чем крепче спит жизнь, тем больше в ней симметрии. ‹...› Диссонансами и тесными сочетаниями вызывается жизнь” [21: 4–5].18 В семантической области смещения пропорций, придающие пространству подвижный характер, влекли за собой отождествление масштабов человеческого тела с масштабами вселенной (Аввакум, Маяковский)19
В семантической области смещения пропорций, придающие пространству подвижный характер, влекли за собой отождествление масштабов человеческого тела с масштабами вселенной (Аввакум, Маяковский)19 и вообще преувеличение20
и вообще преувеличение20 либо преуменьшение всевозможных физических объектов, попадавших в поле зрения литературы. Асимметрия подчинила себе и формальные структуры текстов. Этим объясняется, между прочим, употребление “диссонирующих” созвучий как в поэтике барокко („внуки — веки” у Ивана Хворостинина, „отвергоша — обругаша” у Тимофея Акундинова),21
либо преуменьшение всевозможных физических объектов, попадавших в поле зрения литературы. Асимметрия подчинила себе и формальные структуры текстов. Этим объясняется, между прочим, употребление “диссонирующих” созвучий как в поэтике барокко („внуки — веки” у Ивана Хворостинина, „отвергоша — обругаша” у Тимофея Акундинова),21 так и в поэтике футуризма: под знаком этого приема построены почти все стихи из сборника Шершеневича «Итак итог». Отсюда же нарушения господствующей формы в рамках одного и того же произведения, например перебои ямбов хореями, допускавшиеся Хлебниковым, или несовпадение границ акростиха и границ текста у Савватия:
так и в поэтике футуризма: под знаком этого приема построены почти все стихи из сборника Шершеневича «Итак итог». Отсюда же нарушения господствующей формы в рамках одного и того же произведения, например перебои ямбов хореями, допускавшиеся Хлебниковым, или несовпадение границ акростиха и границ текста у Савватия:
И зде уже акрости‹хи›да стала,
А мысль наша в нас еще не престала.
[59: 14–15]
Сдвинутый с устойчивого геометрического каркаса, мир теряет разделение на центр и периферию, которые меняются местами,22 делается полицентричным, изображается с позиций движущегося наблюдателя,23
делается полицентричным, изображается с позиций движущегося наблюдателя,23 способного охватить взглядом все сущее,24
способного охватить взглядом все сущее,24 а в случае отрицательных оценок превращается в замкнутое пространство, стесняющее свободные перемещения героя, который попадает тогда в „заточенiє всѣм з рая выгнаним” [6, 54], в земной загон [28: т. 1, 250].
а в случае отрицательных оценок превращается в замкнутое пространство, стесняющее свободные перемещения героя, который попадает тогда в „заточенiє всѣм з рая выгнаним” [6, 54], в земной загон [28: т. 1, 250].
Отрицательная реальность в топологических моделях барокко и футуризма — это не только замкнутая площадка действия, но и пространство, в котором нельзя определить направление, это мир, уподобленный лабиринту (обычная метафора поэтического барокко; ср. метафоры лабиринта у Пастернака и Боброва в сборнике «Алмазные леса») или такому месту, где герой сбивается с пути («Метель» Пастернака). Познание истины ассоциируется с умением выбрать правильное направление в пространстве. В тех ситуациях, когда тексты имеют помимо явного еще и тайный смысл, расшифровка скрытых значений связана с переориентацией графической структуры произведения,25 как, например, в акростихах, которые сыграли жанровую роль в пору расцвета барокко [33], а в период футуристического движения нашли приверженцев в лице Шершеневича, Лившица и эго-футуристов.26
как, например, в акростихах, которые сыграли жанровую роль в пору расцвета барокко [33], а в период футуристического движения нашли приверженцев в лице Шершеневича, Лившица и эго-футуристов.26
Стилистические нормы барокко и футуризма регулируются такими приёмами, которые отслаивают художественную речь от практической с помощью пространственного переупорядочения синтаксических, морфологических либо звуковых единиц (инверсии, метатезы, анаграммы).27 Создатели обеих эстетических систем часто рассматривали процесс порождения текста как реаранжировку заданных элементов (любопытны свидетельства об обращении Есенина к комбинаторной поэтике; ср. технику коллажа в изобразительном искусстве). Судя по «Многоприменительному виршу» Величковского и «Квадрату квадратов» Игоря Северянина, семантическое развитие стихотворной конструкции могло представлять собой при крайних решениях простое варьирование порядка слов, входящих в начальную часть произведения.
Создатели обеих эстетических систем часто рассматривали процесс порождения текста как реаранжировку заданных элементов (любопытны свидетельства об обращении Есенина к комбинаторной поэтике; ср. технику коллажа в изобразительном искусстве). Судя по «Многоприменительному виршу» Величковского и «Квадрату квадратов» Игоря Северянина, семантическое развитие стихотворной конструкции могло представлять собой при крайних решениях простое варьирование порядка слов, входящих в начальную часть произведения.
3. Понятие причинности обрело в барокко и футуризме ту же внутреннюю антиномичность, что и остальные категории сознания. Барокко сформировало такую картину бытия, все звенья которой, обладая сигнальной природой, выступали как ретрансляторы действия, чья причина терялась в бесконечной перспективе. В противоположность этому, футуризм вовсе отказывался искать сигнальные функции у физических объектов. Между тем, общим в каждой из каузальных моделей была ликвидация рубежа, разделяющего причинную и следственную области. И в прямом, и в обратном вариантах этих представлений о мире события принимали вид либо сугубо случайных (потому что связь детерминант и следствий была разорвана), либо сугубо необходимых (потому что разрыв такой связи мог быть отождествлён с существованием “причин в себе”), либо, наконец, случайных и необходимых в одно и то же время.
Культура XVII — начала XVIII вв. абсолютизировала случай в столь показательных для этого времени коллекциях редкостей и энциклопедиях чудес вроде «Великого зерцала». Высшее существо для представителей барокко — это бог-свидетель, а не бог — участник мирских событий (ср. тему недееспособного бога в стихах Маяковского). Неспроста Аввакум усмотрел в суждениях увещевавшего его Симеона Полоцкого мысль о том, что Христос „царствует несовершенно” [25: 26].
Не менее наглядная приверженность к категории случайного прослеживается на всех уровнях футуристического искусства. Редактируя в 1920-х годах предреволюционные произведения и при этом, естественно, осознавая их как единое целое, Пастернак провозгласил случайность главной движущей силой творчества: „И чем случайней, тем вернее / Слагаются стихи навзрыд” [38: 65].28 Игорь Северянин видел в поэтическом тексте набор лексических диковинок: „И что ни слово — то сюрприз” [45: 120]. На непредсказуемых фонологических сочетаниях основывалась “заумь” Кручёных, согласно которому источник трансрациональной речи — это „наобумное (алогичное, случайное, творческий прорыв, механическое соединение слов: оговорки, опечатки, ляпсусы ‹...›” [17: 46].
Игорь Северянин видел в поэтическом тексте набор лексических диковинок: „И что ни слово — то сюрприз” [45: 120]. На непредсказуемых фонологических сочетаниях основывалась “заумь” Кручёных, согласно которому источник трансрациональной речи — это „наобумное (алогичное, случайное, творческий прорыв, механическое соединение слов: оговорки, опечатки, ляпсусы ‹...›” [17: 46].
Напротив, в теоретических построениях Хлебникова факультативным связям графических и семантических элементов слова были предоставлены права необходимых зависимостей. Хлебников извлекал из словесных знаков, рассредоточенных по не пересекаюшимся семантическим полям, общий смысл, носителями которого он объявлял начальные графемы (например, “М”, по его убеждению, начинает имена самых малых членов нескольких многообразий [55: т. 5, 203]). Из этих букв-смыслов — квазисемантических “множителей”, обнаруженных во внешнем слое языка — Хлебников намеревался составить алфавит новой семиотической системы — сверхъязыка. Аналогично этому он выводил числовые законы истории из случайных совпадений интервалов, разделявших исторические события. История лишена вероятностных характеристик, в понимании Хлебникова, точно так же, как она была лишена их в восприятии многих представителей барокко. По мнению Феофана Прокоповича, победа Петра I — Самсона — над „свейским львом” — это неизбежность, потому что дата сражения пала на день св. Самсона [193: 36]. Никакие побочные воздействия на ход причинного следования не допускались Симеоном Полоцким, утверждавшим:
Какови бо в начале сущии бывают,
тако прочии жити весма подражают.
29 [43: 140]
[43: 140]
Деятельность человека мыслилась в XVII в. как в обязательном порядке соотносимая с некими образцами, программирующими все допустимые формы поведения. В написанном под надзором Алексея Михайловича «Уряднике Сокольничьего пути» читаем: „Что всякой вещи потреба? Меряние, сличие, составление, укрепление ‹...› благочиние, устроение, уряжение. Всякая же вещь без добрыя меры и иных вышеписанных вещей бездельна есть, и не может составиться и укрепиться” (цит. по: Ф. Буслаев. Русская хрестоматия. Памятники древнерусской литературы и народной словесности. М. 1877. С. 306).
Фаталистическая концепция реальности может возникать не только в тех случаях, когда между началом и концом каузальной цепи устанавливается взаимно-однозначное соответствие,30 но и тогда, когда описываемый факт получает нулевую мотивировку. Последнее составляет специфику раннего творчества Маяковского: „Но вот, неизвестно зачем и откуда на Перу наперли судьи” [28: т. 1, 76]; „‹...› где-то в буре-мире взяли и выдумали войну” [28: т. 1, 72].
но и тогда, когда описываемый факт получает нулевую мотивировку. Последнее составляет специфику раннего творчества Маяковского: „Но вот, неизвестно зачем и откуда на Перу наперли судьи” [28: т. 1, 76]; „‹...› где-то в буре-мире взяли и выдумали войну” [28: т. 1, 72].
Слияние случайного и закономерного воплощается, как известно, в игровых ситуациях.31 В уже цитировавшейся поэме Белобоцкого, как и в произведениях других писателей барокко, жизнь сопоставлена с шахматной партией: „Шахом небо хощеш взяти, мат ти скоро в аде будет” [9: 51].32
В уже цитировавшейся поэме Белобоцкого, как и в произведениях других писателей барокко, жизнь сопоставлена с шахматной партией: „Шахом небо хощеш взяти, мат ти скоро в аде будет” [9: 51].32 Спустя более двух столетий подобный же мотив поражения человека в жизненной игре повторят С. Бобров (в сборнике «Вертоградари над лозами») и Пастернак:
Спустя более двух столетий подобный же мотив поражения человека в жизненной игре повторят С. Бобров (в сборнике «Вертоградари над лозами») и Пастернак:
Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мною на лунном паркетном полу ‹...›
И тополь — король. Королева — бессонница.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.
33 [38: 595]
[38: 595]
Игра была предметом изображения в стихах Пастернака, Асеева, Маяковского, в совместно написанной Хлебниковым и Кручёных поэме «Игра в аду» (ср. также диалог пешек в «Детях Выдры» Хлебникова). Всякая игра становится таковой, если отличается от обыденной жизни, поэтому в области выразительных средств барокко и футуризма игровое начало было запечатлено в разнообразных нарушениях логики здравого смысла. Эти нарушения особенно наглядно демонстрируют получившие повсеместное хождение в той и другой системах пародии, бурлески, каламбуры и нарочитые алогизмы, типа псевдодизъюнкций, с помощью которых построена раёшная повесть XVII в. «О Фоме и Ерёме» („Ерёма был крив, а Фома с бельмом” [11: 135]), или псевдоконъюнкций, которые находим в стихотворении Маяковского „Себе, любимому, посвящает эти строки автор” („Если б я был маленький, как Великий океан ‹...›” [28: т. 1, 126]).
4. Обращение поэтов XVII и начала XX в. к таким метафорам, как мир-книга, мир-театр, мир—живописное полотно и т.п., лишний раз свидетельствует об усвоенном поэтикой барокко и футуризма неразличении искусственных и естественных фактов, семиотической и асемиотической материи.
Вернувшись к представлению о мире-книге, выдвинутому в свое время искусством барокко („Мир сей преукрашенный — книга есть велика”),34 футуристы увидели в алфавите модель универсума.35
футуристы увидели в алфавите модель универсума.35 Маяковский возобновил барочную традицию азбучного жанра, отброшенного пародиями на периферию литературы. В метафорическом преломлении алфавит был осмыслен как основа различных упорядоченностей в стихотворении Константина Олимпова «Буква Маринетти»: „Я, Алфавит, мои поэзы — буквы, / И люди — мои буквы” [8: стлб. 29]. Уравнивание мира с книгой, театром и — шире — со всевозможными формами семиотической деятельности, будучи средством для создания поэтических метафор,36
Маяковский возобновил барочную традицию азбучного жанра, отброшенного пародиями на периферию литературы. В метафорическом преломлении алфавит был осмыслен как основа различных упорядоченностей в стихотворении Константина Олимпова «Буква Маринетти»: „Я, Алфавит, мои поэзы — буквы, / И люди — мои буквы” [8: стлб. 29]. Уравнивание мира с книгой, театром и — шире — со всевозможными формами семиотической деятельности, будучи средством для создания поэтических метафор,36 имело и более существенные последствия в культурной практике двух эпох: создатели знаковых ценностей осознали себя в роли устроителей жизни, активизировали дидактическую и агитационную функции искусства.
имело и более существенные последствия в культурной практике двух эпох: создатели знаковых ценностей осознали себя в роли устроителей жизни, активизировали дидактическую и агитационную функции искусства.
Если реальность отприродных фактов есть не что иное, как совокупность артефактов, то открывается возможность отождествить либо творца вселенной с художником, к чему склонялась барочная мысль, либо художника — с основателем мира и человеческого рода:
Я люблю ваш нескладный развалец,
Жадной проседи взбитую прядь.
Если даже вы в это выгрались,
Ваша правда, так надо играть.
Так играл пред землей молодою
Одарённый один режиссёр,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушённое тёр.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещённых светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил.
«Мейерхольдам»
[38: 202]
В конечном счёте подход к миру как к результату семиотического процесса перерос в уверенность, что владение словом или другой разновидностью знаков даёт право на управление событиями. В XVII в. эта вера укрепила Симеона Полоцкого в мысли о его апостольском предназначении; в начале XX в. она же вызвала у Хлебникова убеждение, что он — Председатель земного шара, привела Маяковского к образу тринадцатого апостола, заставила Кручёных заявить: „Художник торжествует. Мир, созданный им, восторжествовал над человеческим” [18: 9]. Футуризм не только ожидал от слова агитационного эффекта, но и возвращал ему магическую функцию, как, например, в стихах Маяковского, где в акт чтения привносится смысл словесной магии — регенерирующей и анимистической по результатам:
Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копчёные сиги
и золотокудрые брюквы.
А если весёлостью песьей
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои поведут саркофаги.
[28: т. 1, 41]
Подмена вещей знаками вынуждала писателей барокко считать материальное бытие иллюзорным (жизнь есть сон;37 „мир сей ‹...› лежит в прелести”),38
„мир сей ‹...› лежит в прелести”),38 тогда как футуристы, скорее, были предрасположены к материализации иллюзий (ср. хотя бы сцену пожара в «Облаке в штанах»). Однако, преобразуя естественную среду в семиотическую или совершая обратную трансформацию, барокко и футуризм сходились в том, что проявляли равное внимание к превращениям одних состояний бытия в противоположные.39
тогда как футуристы, скорее, были предрасположены к материализации иллюзий (ср. хотя бы сцену пожара в «Облаке в штанах»). Однако, преобразуя естественную среду в семиотическую или совершая обратную трансформацию, барокко и футуризм сходились в том, что проявляли равное внимание к превращениям одних состояний бытия в противоположные.39 Суть физического тела — в его способности к метаморфозам, которые обнаруживают другую форму этого тела, внутреннее во внешнем,40
Суть физического тела — в его способности к метаморфозам, которые обнаруживают другую форму этого тела, внутреннее во внешнем,40 изнанку материального мира, „обратности космос”, по выражению Д. Бурлюка [4: 35]. В объектном окружении не остаётся таких областей, которые были бы запретны для искусства (“антиэстетизм” барокко и футуризма). Назначение поэта в том, чтобы открыть истинную форму вещей, ибо „многие вещи сшиты наоборот” [28: т. 1, 158], чтобы освободить имплицитный смысл предмета, не равного самому себе. Членение стихотворного текста часто напоминает строение загадки: за произвольным иносказанием, иногда принимающим вид вопроса, следует расшифровка подразумевавшихся значений. Ср. стихи Симеона Полоцкого и Хлебникова:
изнанку материального мира, „обратности космос”, по выражению Д. Бурлюка [4: 35]. В объектном окружении не остаётся таких областей, которые были бы запретны для искусства (“антиэстетизм” барокко и футуризма). Назначение поэта в том, чтобы открыть истинную форму вещей, ибо „многие вещи сшиты наоборот” [28: т. 1, 158], чтобы освободить имплицитный смысл предмета, не равного самому себе. Членение стихотворного текста часто напоминает строение загадки: за произвольным иносказанием, иногда принимающим вид вопроса, следует расшифровка подразумевавшихся значений. Ср. стихи Симеона Полоцкого и Хлебникова:
Граду лет человека есть уподобити,
в нем же царю небесну угодно есть жити.
[43: 163]
Ветер — пение.
Кого и о чём?
Нетерпение
Меча быть мячом.
[55: т. 3, 26]
Из нейтрализации антиномии вещи — знаки могли логически вытекать два вывода, использованные в поэтике барокко и постсимволизма. Знак воспринимался либо как многозначный (ср., с одной стороны, учение барокко о четырёх смыслах всякого слова, а с другой — полисемантичность акмеистской поэзии), либо ставился во взаимно-однозначное соответствие с обозначаемым объектом.
Иконическое прочтение словесного знака отозвалось в поэтике барокко и футуризма тем, что наблюдаемая форма знака была включена в контекст литературных значений (распространённость фигурных стихов, стихотворных подписей к рисункам в эмблемах,41 звукоподражаний и т.п.42
звукоподражаний и т.п.42 ). Недаром Симеон Полоцкий в челобитной царю возводил „икон святых писание” в степень государственно важного дела [26], а Маяковский, Каменский, Д. Бурлюк сочетали профессии поэтов и живописцев.43
). Недаром Симеон Полоцкий в челобитной царю возводил „икон святых писание” в степень государственно важного дела [26], а Маяковский, Каменский, Д. Бурлюк сочетали профессии поэтов и живописцев.43 В этом отношении сходство барокко и футуризма столь глубоко, что принимает иногда неожиданные черты: так, Н.О. Нильссон зарегистрировал возобновление традиций геральдической поэзии XVII в. у Маяковского («Стихи о советском паспорте») и Хлебникова («Труба Гуль-муллы»):
В этом отношении сходство барокко и футуризма столь глубоко, что принимает иногда неожиданные черты: так, Н.О. Нильссон зарегистрировал возобновление традиций геральдической поэзии XVII в. у Маяковского («Стихи о советском паспорте») и Хлебникова («Труба Гуль-муллы»):
Косматый лев, с глазами вашего знакомого,
Кривым мечом
Кому-то угрожал — заката сторож,
И солнце перезревшей девой
(Верно, сладкое любит варенье)
Ласково закатилось на львиное плечо.
Среди зелёных изразцов,
Среди зелёных изразцов.
[72: 16–17]
Осмысление знака и объекта обозначения как изоморфных друг другу повлекло за собой характерное для барокко и футуризма отрицание естественно-языковой омонимии, чем обусловлено пристрастие художников обоих веков к “поэтическим этимологиям” типа тех, к которым прибегали Симеон Полоцкий („Плутон ‹...› плут он”) или Асеев („стекало в стекольнях”).44 Переносным смыслам была отведена роль прямых лексических значений (реализация метафоры).
Переносным смыслам была отведена роль прямых лексических значений (реализация метафоры).
Вместе с отрицанием омонимии происходил и разрыв синонимических цепей языка, которые были лишены общих семантических звеньев ввиду утверждённого барокко и футуризмом взаимно-однозначного соотношения между множеством знаковых элементов и множеством физических объектов. Лексические единицы, расходившиеся в плане выражения, но родственные по смыслу, были сбалансированы на одном ценностно-стилистическом уровне. Это послужило источником смешения лексических стилей, которые были истолкованы не в качестве различных по назначению ёмкостей для хранения одних и тех же смыслов, но как одно сплошное поле.45 Отсюда же та избыточность стиля, которая заметна в барочных перифразах и плеоназмах футуристов, подобных плеоназму Хлебникова: И кони скажут говорливо [55: т. 2, 34].
Отсюда же та избыточность стиля, которая заметна в барочных перифразах и плеоназмах футуристов, подобных плеоназму Хлебникова: И кони скажут говорливо [55: т. 2, 34].
Привнося в картину мира свойство сугубой однородности, представители барокко и футуризма уничтожали различие целого и части. При этом деталь либо репрезентативно замещала целое (ср. приведенное выше наблюдение В.Б. Шкловского), либо поглощалась целым. С последним обстоятельством правомерно связать ансамблевое построение литературных текстов барокко и футуризма (алфавитная организация разнородных частей в «Вертограде многоцветном» Симеона Полоцкого; жанровый статус коллективных сборников в период футуристического движения). Не исключено, что тот же стимул входил в ряд причин, которыми объясняются корпоративные веяния в культуре XVII и начала XX в., поощрявшей создание литературных школ и тесных писательских товариществ. Однородный мир делался принципиально доступным для редукции: он мог быть описан с помощью замкнутого набора правил, как это предусматривали барочные методы художественного и научного творчества (по Декарту, „большое количество правил часто обусловливается невежеством ученых ‹...›” [10: 162]).
5. Для текстов барокко и футуризма обычны вводимые прямо в корпус литературного произведения указания на то, как оно построено. Стирание границы, существующей между сообщением и физическим контекстом коммуникации, было равносильно “исчезновению” среды, которая призвана проверять сообщение. Истинность художественного сообщения должна была удостоверяться истинностью кода, с помощью которого оно организовано.46 Иными словами, допускались только такие способы литературной коммуникации, которые демонстрировали изощрённость писательских навыков, технический артистизм автора. Впрочем, окраска кодов, которым следовали художники барокко и футуризма, была разной. В свете говорившегося выше о специфике семиотических предпосылок барокко и футуризма понятно, почему в литературе XVII в. код художественного сообщения был осознан как естественный, заранее данный автору, что нашло отражение в нормативности барочных риторик и поэтик, а в начале нашего столетия — как искусственный, утверждаемый самим писателем.
Иными словами, допускались только такие способы литературной коммуникации, которые демонстрировали изощрённость писательских навыков, технический артистизм автора. Впрочем, окраска кодов, которым следовали художники барокко и футуризма, была разной. В свете говорившегося выше о специфике семиотических предпосылок барокко и футуризма понятно, почему в литературе XVII в. код художественного сообщения был осознан как естественный, заранее данный автору, что нашло отражение в нормативности барочных риторик и поэтик, а в начале нашего столетия — как искусственный, утверждаемый самим писателем.
Рассекречивание кода велось с помощью различных средств. Величковский, например, предварял некоторые стихи описанием их формальной структуры. Д. Бурлюк графически выделял в стихах повторяющиеся созвучия (ср. графическую отмеченность анаграмм в поэзии барокко), а также „лейт-слова”, т.е. элементы глубинных семантических структур, к которым мог быть свёрнут текст. Читатели, таким образом, знакомились не только с литературным текстом, но и с процессом его производства.47 По убеждению Пастернака, „‹...› лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своём рождении ‹...›” [37: 57].
По убеждению Пастернака, „‹...› лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своём рождении ‹...›” [37: 57].
Код переходил из разряда умопостигаемых в разряд непосредственно наблюдаемых данностей. Снятие антитезы сообщение — среда могло, таким образом, превращать восприятие художественного высказывания из умственного акта в некоторое подобие физической деятельности и подчинять усвоение текста схеме стимул — реакция, лишённой каких бы то ни было посредующих звеньев. Поэтому литературное произведение получало черты апеллятивного сообщения, требующего от адресатов немедленного отклика: барокко канонизировало жанр просьб-посланий и проповедей, футуризм — агитационное искусство. Слово было оружием: эту метафору находим не только в известных стихах Маяковского, но и в недавно открытых поэтических “эпистолиях” так называемой “приказной” школы XVII в. (Петр Самсонов):
Шурмовати языком яко копием на ны поучаешъся,
крепко же и сами сопротив вас стати утверждаемъся.
[34: 265]
Адресат литературной коммуникации моделировался как её непосредственный участник: словесная ткань стихов была диалогизирована,48 пронизана риторическими оборотами; поэтической речи предназначалось кратчайшим путём вовлекать слушателя в коммуникативный процесс.49
пронизана риторическими оборотами; поэтической речи предназначалось кратчайшим путём вовлекать слушателя в коммуникативный процесс.49 Мысль об исключительных правах, данных творцу знаковых ценностей, позволяла поэту барокко быть собеседником бога и сильных мира сего, а поэту-футуристу — собеседником и учителем человечества (Маяковский, Хлебников).
Мысль об исключительных правах, данных творцу знаковых ценностей, позволяла поэту барокко быть собеседником бога и сильных мира сего, а поэту-футуристу — собеседником и учителем человечества (Маяковский, Хлебников).
6. В заключение остаётся сказать о том, как искусство барокко и футуризма понимало человека в его персональном, социальном и родовом проявлениях.
Не должно удивлять, что в ту и другую эпохи смысл человека мог быть сведён к смыслу его имени, личного знака. По словам Сильвестра Медведева, обращённым к царевне Софье, „слично Софии выну мудрой жити, / да вещь с именем точна может быти” [43: 193]. Мотивация связи между именем и его владельцем — одна из версий такого подхода к человеку, при котором содержание личности совпадает с формой, в какой она выражает себя. Если же этого совпадения нет, значит, человек скрывает свой подлинный облик под маской. Симеон Полоцкий сетовал на то, что „художничее дело во чести хранится, / а лице естественно не честно творится” [46: 21]. Герой трагедии «Владимир Маяковский» был „в домино и в маске темноты” [28: т. 1, 159].50
В любой маске многообразие психических показателей сгущено в каком-либо господствующем признаке: маска предуказывает фиксированность поведения — заставляет человека играть роль. Иначе: в маске индивидуальное подавлено социальным. Растворение личного начала в социальном бытии отражалось поэтами барокко (Симеон Полоцкий и др.) и футуризма (Маяковский) в мотивах вины и покаяния человека перед миром, так как покаяние приобщает “я” к “не-я”, разрушает суверенность внутренней жизни. Овнешненный человек делал интимный быт публичным достоянием и как бы размыкал свои контуры („“я” для меня мало” [28: т. 1, 179]51 ), т. е. пребывал в экстатических состояниях: он отваживался на неслыханные просьбы, как Величковский, звавший Магдалину уступить ему место у ног Христа; он предрекал близкий конец мира, как Белобоцкий, или, подобно герою Маяковского, направлялся на штурм солнца.52
), т. е. пребывал в экстатических состояниях: он отваживался на неслыханные просьбы, как Величковский, звавший Магдалину уступить ему место у ног Христа; он предрекал близкий конец мира, как Белобоцкий, или, подобно герою Маяковского, направлялся на штурм солнца.52
В то время как психическая жизнь подвергалась экстериоризации, значимым в социальном существовании человека становилось то, что было воспринято как индивидуальное отклонение от нормы. Социальный факт обладал смыслом, если имел другую форму по сравнению с остальными слагаемыми этого ряда. Разумеется, русская литература XVII в. с её “умеренностью” вовсе не оправдывала индивидуализм, если не считать редких памятников. Это, однако, не помешало Симеону Полоцкому описать в «Вертограде многоцветном» разнообразные виды поведения, колеблющего социальную стабильность, нарушающего общественный договор, и обратиться в «Комедии притчи о блудном сыне» к сюжету о сыновнем непослушании так же, как это сделали авторы повестей «О Савве Грудцыне» и «О Горе-Злочастии». Вместе с тем, человек в литературе барокко — это не отчужденный человек в современном смысле. Скорее наоборот, сама социальная норма отчуждена от её носителей, переведена из серии культурных установлений в серию естественных данностей, безусловна. Природа — прообраз социального мироустройства:
Чрез лето пчелы тощно работают,
сладкий из цветов мед людем сбирают;
Аще не хощет кая работати,
не дадут в рои своем пребывати:
Огрызше криле, вон ю извергают, —
гражданом мира образ проявляют ‹...›
[46: 15]
Натуралистическое понимание социальных структур сменилось в статьях и стихах футуристов отождествлением природного с индивидуальным: „Шествуя по лестнице Культуры, человек старался вытравить в себе всё ему присущее, Природное ‹...› Он не развивал своего “Я”, своего лица ‹...›” [14: 2].53 Если в эпоху барокко социальный обычай отчуждается от человека, то футуристами отчуждение было превращено в естественную норму общежития. Преобразование социальных отношений мыслилось Хлебниковым как раскол поколений, который узаконил бы педекратию — государство не признанной обществом молодёжи. Социальная позиция лирического субъекта для всей футуристической поэзии — это позиция вне общества (например, «Облако в штанах», «Вот так я сделался собакой» Маяковского, «Гонимый — кем, почём я знаю?» Хлебникова, «Пиры» Пастернака; ср. тему сумасшествия в футуристическом искусстве и маски великих безумцев западноевропейского барокко — Дон Кихота и Гамлета — в стихах Маяковского и Пастернака). Мотивы социального отчуждения, проецируясь на художественную речь, входили в совокупность тех стимулов, которые подчиняли её строй теории самовитого слова. Отрываясь от референтов, речь замыкалась в себе, переставала служить средством социальной связи, что парадоксальным образом расходилось с теми прагматическими задачами, которые преследовала поэзия футуристов.
Если в эпоху барокко социальный обычай отчуждается от человека, то футуристами отчуждение было превращено в естественную норму общежития. Преобразование социальных отношений мыслилось Хлебниковым как раскол поколений, который узаконил бы педекратию — государство не признанной обществом молодёжи. Социальная позиция лирического субъекта для всей футуристической поэзии — это позиция вне общества (например, «Облако в штанах», «Вот так я сделался собакой» Маяковского, «Гонимый — кем, почём я знаю?» Хлебникова, «Пиры» Пастернака; ср. тему сумасшествия в футуристическом искусстве и маски великих безумцев западноевропейского барокко — Дон Кихота и Гамлета — в стихах Маяковского и Пастернака). Мотивы социального отчуждения, проецируясь на художественную речь, входили в совокупность тех стимулов, которые подчиняли её строй теории самовитого слова. Отрываясь от референтов, речь замыкалась в себе, переставала служить средством социальной связи, что парадоксальным образом расходилось с теми прагматическими задачами, которые преследовала поэзия футуристов.
В искусстве русского барокко не существовало столь крайних форм “отчуждённой” речи. Но и там в ходу было слово, намекающее на обстоятельства, известные кругу посвящённых, — учёное, экзотическое и аллюзивное слово.54 Оно могло толковаться не только иконически, но и в качестве многозначного, так что его референтное значение оказывалось лишь маской истинных смыслов. Короче, и барочное слово нередко тяготело к трансрациональности, к превращению в знак, не зависящий от предмета обозначения, т.е. в собственное имя и, тем самым, сочетало в себе противоречивые тенденции (ср. выше о мотивации связи имя — человек в поэзии барокко). Не случайно, что одно из стихотворений Величковского представляет собой перечень семидесяти двух собственных имён, а в теории Кручёных собственное имя названо материалом “зауми” (ср. обсуждавшееся выше использование имён в «Облаке в штанах» или стихотворение Хлебникова «Усадьба ночью, чингисхань!»).55
Оно могло толковаться не только иконически, но и в качестве многозначного, так что его референтное значение оказывалось лишь маской истинных смыслов. Короче, и барочное слово нередко тяготело к трансрациональности, к превращению в знак, не зависящий от предмета обозначения, т.е. в собственное имя и, тем самым, сочетало в себе противоречивые тенденции (ср. выше о мотивации связи имя — человек в поэзии барокко). Не случайно, что одно из стихотворений Величковского представляет собой перечень семидесяти двух собственных имён, а в теории Кручёных собственное имя названо материалом “зауми” (ср. обсуждавшееся выше использование имён в «Облаке в штанах» или стихотворение Хлебникова «Усадьба ночью, чингисхань!»).55
Человек барокко и футуризма, терявший индивидуальный облик под ролевой маской и, в свою очередь, уклонявшийся от твёрдой роли в социальной жизни, находил себя как человек родовой.56 Для Хлебникова
Для Хлебникова
‹...›
Человек
Тоже двурукое государство
Шариков кровяных и тоже соборен.57 [55: т. 3, 20]
[55: т. 3, 20]
В XVII в. всечеловек пытался основать мировую религию. Феофан Прокопович, отвергая как несвоевременный проект богословов из Сорбонны о слиянии восточной и западной церквей, всё же назвал такое намерение „достохвальным” [39: 41]. Поэты барокко обсуждали тему первородного греха, за который должен был расплачиваться каждый житель земли, и тему искупления первородного греха Христом, который был знаменательно назван в «Успенской драме» Дмитрия Ростовского “двойной единицей”:
‹...› в лице едино сберет естеств двое:
Бога с человеком вместе совокупит;
та двойная единица род земной искупит.
Русская драматургия последней
четверти XVII и начала XVIII в. М. 1972. С. 174
Один из самых ожесточённых споров XVII в. — спор о пресуществлении святых даров — разгорелся вокруг таинства евхаристии, которое символизирует приобщение человека к родовому телу.
Список близких фактов было бы легко продлить, но ценнее упомянуть о том, что мировоззрение XVII в. и здесь не избежало парадоксов, о которых свидетельствует, в частности, старание старообрядцев удержать национальные традиции.
Всечеловек XX в., конструировавший универсальный язык, тем самым возрождал идею “lingua Adamica”, свойственную барокко. По словам Кручёных, „художник увидел мир по-новому и, как Адам, даёт всему свои имена” [17: 43].58 Речь, состоящая из новых имён, по Хлебникову, должна была отвечать социально-уравнительным целям: ‹...› заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей [55: т. 5, 236]. Поскольку, однако, сырьём для вселенских средств коммуникации, как говорилось, выступал родной язык, постольку художественная система футуризма испытывала колебания, толкавшие её то к этнической замкнутости, то к мысли о нивелировке национальных коллективов. Для братьев Бурлюков „‹...› путь искусства — через национализацию к космополитизму” [53: 84].59
Речь, состоящая из новых имён, по Хлебникову, должна была отвечать социально-уравнительным целям: ‹...› заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей [55: т. 5, 236]. Поскольку, однако, сырьём для вселенских средств коммуникации, как говорилось, выступал родной язык, постольку художественная система футуризма испытывала колебания, толкавшие её то к этнической замкнутости, то к мысли о нивелировке национальных коллективов. Для братьев Бурлюков „‹...› путь искусства — через национализацию к космополитизму” [53: 84].59
Смешение категорий национального и интернационального было подтверждено в стилистике футуризма обращением поэтов этого лагеря к макароническим стихам (Маяковский), традиция которых берёт начало в веке барокко (на русской почве — Симеон Полоцкий [30: 64]; ср. замечания о макаронической поэтике [29: 41–42]). Впрочем, появление макаронических форм в стихотворной культуре барокко было связано с тем, что эстетическое сознание XVII в. уравнивало различные естественные языки в их отношении к универсальному слову, творящему и организующему мир. Вразрез с этим футуристы использовали макаронический стиль, превращая национальный язык в универсальный (любопытно, что иноязычные вкрапления в «Бане» Маяковского напоминают по звучанию русские обороты речи). Как и во всех перечисленных выше случаях, это родство двух систем было родством противоположностей. Если прибегнуть к принципу барочного “остроумия”, то можно сказать, что выросшая из парадокса эстетика барокко не потеряла этого качества и тогда, когда нашла продолжение в истории.
————————
Примечания 1
1 О восприятии барокко итальянскими футуристами см. [63].
 2
2 Так называемое “спонтанное барокко” [69], существовавшее в России наряду с придворным барокко, не сложилось в систему с эксплицитными эстетическими правилами и потому не ощущалось в дальнейшем как целостная художественная традиция.
 3
3 Таким образом, семиозис барокко отличается от семиозиса и романтизма, и символизма тем, что в барокко как денотативное, так и десигнативное содержание “текстов бытия” фактически сведено к нулю. Ср. сопоставление барокко и романтизма у Ж. Руссэ: „Барокко не идентично романтизму ‹...› барокко ищет истину в маскировке и в орнаменте, романтизм объявляет войну всяческим маскам; барокко украшает то, что романтизм обнажает; “я” в барокко — это интимность, выставленная на обозрение, “я” в романтизме — тайна одиночества; барокко стремится перевести бытие в кажимость, романтизм движется к сущности от бытия; барокко выражает себя посредством театра, романтизм — посредством доверительного общения” [74: 251].
 4
4 В поэзии декадентов перевод хроникального кода в топологический предполагал, что пространственно-временной континуум не может быть преодолён по ходу естественного времени, превращённого в “дурную бесконечность”, в длительность без качественных градаций. Проницание физической среды осуществится только благодаря передвижению в иную, идеальную систему пространственных координат, символами которой являются тела эмпирического мира. Поэтам барокко и футуризма кажется вполне вероятным преодоление именно физического времени — ускорения, разрывы и революции на исторической оси.
 5
5 О парадигматической модели времени в научном творчестве XVII в. см. [50: 589 и далее].
 6
6 Относительно объединения эмпирического и универсального планов времени в поэзии западноевропейского барокко см. [71: гл. «Time as a Means of Structure»]. Ср. замечания В.Н. Топорова о двойном видении времени в творчестве Т.С. Элиота и Дж. Донна [51: 174].
 7
7 Ср. апологию настоящего у Паскаля: „Мы так неразумны, что блуждаем во временах, нам не принадлежащих, не думая о том, которое нам дано” [36: 38].
 8
8 Это обстоятельство было вполне осознано носителями барочной идеологии: ср. регламентированный львовской поэтикой XVII в. список предпочтительных тем для школьных декламаций, в котором, в частности, подчёркнуто, что наиболее желателен предмет, взятый из близкой обстановки [41: 8]. У футуристов концепция преодолимого времени вызывала первоочередной поэтический интерес к вещам, недавно введённым в утилитарный обиход, т.е. по преимуществу к материальной культуре урбанистического мира.
 9
9 О фольклорных вариантах этой метафоры см. [1: 53 и далее]. Ср. анализ метафоры битва — жатва, предпринятый Д.И. Чижевским на материале стихотворения Есенина «Песнь о хлебе» [64, 319–336].
 10
10 Ср. оксюморон Хлебникова
Лежит суровый запорожец /
Часы столетий под курганом [55: т. 2, 237]. О понимании времени Хлебниковым и Пастернаком см. [13, 46 и далее].
 11 Лишь бессмертновею Я
11 Лишь бессмертновею Я, — писал Хлебников [55: т. 2, 49]. Аналогично изменение героя во времени (старение) исключается из поэзии Маяковского, или возможная старость отодвигается на неопределённо долгое время. Ср. замысел Каменского „писать большую вещь для театра — представленье жизни, изображающее Переселение Души, где земная жизнь — лишь мимолетное звено пролетающей Птицы Странствий” [16: 134]; ср. также сходные идеи в творчестве близкого к футуристам художника Чекрыгина.
 12
12 Кроме стихов Величковского, все остальные тексты XVII в. воспроизводятся по правилам современной орфографии ввиду разнобоя, существующего в изданиях одних и тех же авторов.
 13
13 “Пространственное время” Хлебникова, как показал Цв. Тодоров, сформировано циклической повторяемостью историко-культурных данных, влекущей за собой обратимость хроникального движения. В качестве одной из главных единиц измерения чередующихся периодов Хлебников выдвигает число 365 — “естественное” число (второе “магическое” число — 317 — Хлебников выводил из “естественного” числа 365); законы мирового времени отчуждаются от субъекта, “натурализуются”; с “естественной” мотивировкой исторического хода событий согласуется отрицание произвольной связи между знаком и обозначаемым объектом [75: 103–105].
 14
14 Эти мотивы находим нс только в футуристическом искусстве («Журавль» Хлебникова, «Беженцы» Д. Бурлюка и пр.), но и в творчестве других поэтов, начинавших в период 1910-х годов (тема “marche finèbre” у Ахматовой).
 15
15 Об аналогичных явлениях в драматургии польского барокко см. [49: 78].
 16
16 См. подробнее [73: 5–7 и 44]. Здесь же, в главе «Монтаж», Н.О. Нильссон проводит аналогии между поэзией имажинистов и киномонтажом Эйзенштейна.
 17
17 В динамическом мире барокко преобладают, как известно, изогнутые траектории, тогда как литературный футуризм и родственные ему течения в живописи и архитектуре канонизировали прямую линию. В истории сознания наблюдается тесная зависимость между понятиями кривизны и смерти: простейшие примеры из этого ряда — изображения смерти с косой или удержанные позднемифологическим мышлением названия смерти: ‘загибаться’, ‘Загиб Иваныч’ и т.п. [23: 63].
 18
18 Ср. о стилистической антисимметрии в стихах Пастернака [66].
 19
19 Стремление барокко изменить пространственное соотношение человека и мира нашло своеобразный отзвук у Дж. Донна: „Мало назвать Человека малым Миром, Человек не есть уменьшенная копия чего бы то ни было, за исключением Бога. Человек состоит из большего числа частиц, из большего числа частей, чем мир ‹...›” [65: 312].
 20
20 Ср. популярность больших стихотворных форм в литературной практике барокко (Мардарий Хоников, Симеон Полоцкий, Белобоцкий) и футуризма (Хлебников, Маяковский).
 21
21 С историко-литературной точки зрения “диссонансные” рифмы в ранней силлабике, вероятнее всего, представляют собой неизжитое наследие раёшного стиха.
 22
22 Ср. популярную в России XVII в. идею “Москва — третий Рим”.
 23
23 Ср. тему всевидящего бога у Симеона Полоцкого, которая может быть понята как тема наблюдателя, обозревающего мир с разных точек зрения.
 24
24 Ср. пространственную организацию поэмы Белобоцкого «Пентатеугум»: „Прощайте, жильцы земные, вся под мною оставшася” [9: 59]. О целостном взгляде на мир в поэзии славянского барокко см. [58: 15 и далее].
 25
25 В архитектуре барокко этому соответствуют мотивы прикрытия [7: 26].
 26
26 О футуристическом отношении к акростиху см. [60: 65–66]. В творчестве Вадима Шершеневича акростихи, как и в эпоху барокко, принимают иногда весьма вычурную форму — см., например, акростих «Тост», адресованный Брюсову [40].
 27
27 „Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы — разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями ‹...›” [20: 12]. Ср. также развитую Кручёных теорию “сдвига”: „Слияние двух звуков (фонем) или двух слов как звуковых единиц в одно звуковое пятно назовем звуковым сдвигом, например — голос
нежный ‹...›” [20: 5]. Об использовании “сдвига” поэтами ОБЭРИУ см. [62, 15].
 28
28 Подробнее см. в этой связи [48: 225 и далее]. Ср. проповедь стихийности в поэзии Каменского:
Ведь все равно — сколь ни проси я —
Судьба случайности верна.
Кругом мой дом —
Моя Россия —
Моя стихийная страна.
[15: 100]  29
29 Ср. сходный взгляд Хлебникова на языковую синтагматику:
Первый звук, в отличие от других, есть проволока, русло токов судьбы [53: 80].
 30
30 Ср. тему судьбы в таком памятнике XVII в. как «Повесть о Горе-Злочастии», где личная судьба — результат изначальной вины, тяготеющей над всем человеческим родом.
 31
31 Ю.М. Лотман определяет игру как „‹...› особое воспроизведение соединения закономерных и случайных процессов. ‹...› Исходные правила не дают возможности предсказать все “ходы”, которые предстают как случайные по отношению к исходным повторяемостям” [24: 135]. Ср. выше о мотивах игры у Сологуба.
 32
32 Об игровых моделях в поэтике европейского литературного барокко см. [76: 90 и далее].
 33
33 Ср. тему шахматной игры в прозе XX в. (Стефан Цвейг).
 34
34 Уподобление мира книге в поэзии барокко рассмотрено А.М. Панченко в [34: 173 и далее, здесь же, 179 — литература вопроса]. О судьбах этой метафоры в творчестве Маяковского и Хлебникова см. [35: 46 и далее]. Ср. некоторые варианты мотива мир-книга в творчестве Хлебникова:
Весны пословицы и скороговорки
По книгам зимним проползли,
Глазами синими увидел зоркий
Записки стыдесной земли.
[55: т. 3, 31]
Пришёл и сел. Рукой задвинул
Лица пылающую книгу.
[55: т. 3, 33]
‹...› То грозное ущелье
Встало вдруг каменной книгой читателя другого,
Открытое для глаз другого мира.
Аул рассыпан был, казались сакли
Буквами нам непонятной речи.
[55: т. 3, 136]
 35
35 Свидетель занятий Хлебникова в Харькове вспоминает: „Продолжал исторические сочетания с числами. Метод — доставался энциклопедический словарь, даты великих людей, тут же всевозможные сочетания на обрывках. Но больше всего мечтал о формуле зависимости из области астрономии, формула эта должна была связать астрономические явления со словом, алфавитом” [цит. по: 197: 54]. Ср. в этой связи интерес Хлебникова к научному творчеству Лейбница.
 36
36 Ср., например, театрализацию мира в поэме Белобоцкого: „Потешние комедие, / с творцами и зрителями, / Век пременил в трагедие, / вся днесь лежат под ногами” [9: 64], и обратную трактовку этого мотива у Игоря Северянина: „Я трагедию жизни претворю в грёзофарс” [44: 7].
 37
37 Ср. ту роль, которую отводила сновидениям поэтика сюрреализма: в “текстах” сновидений операции над означаемыми совершаются на основе сходства (различия) означающих.
 38
38 Стихотворение Симеона Полоцкого «Глас народа» цит. по: [25: 119].
 39
39 Теме метаморфоз в барокко посвящено уже цитированное исследование Ж. Руссэ «Литература века барокко во Франции. Цирцея и Павлин».
 40
40 Русская живопись именно в XVII в. овладевает миметическими приёмами при передаче внутреннего пространства помещений [31]. Каждое деяние, по идее барочной эпохи, в принципе, допускает самоопровержение — поэтому стихотворная речь может представлять собой в XVII в. нарастание парадоксов; таков плач Богородицы в декламации Сильвестра Медведева «О страстях господа бога и спаса нашего Иисуса Христа»: „В место великих благ ти умыслиша, в благодеяний место се воздаша. За мертвых воставших тебе укоряют, смертию страшно умерщвляют. За очесами людей просвещенных, и от различных недуг свобожденных, — Телесны твоя очеса смежиша, пресладкого ми света обнажиша. О чадо мое, мне прелюбезное, радование земных небесное!” (цит. по:
А.М. Панченко. Декламация Сильвестра Медведева на тему страстей Христовых // Рукописное наследие древней Руси. По материалам Пушкинского Дома.
Л. 1972. С. 132).
 41
41 Объединение словесного и живописного текстов могло обретать у футуристов различное выражение: ср. подписи к плакатам у Маяковского и альбом аппликаций Кручёных, в котором, по словам автора, „заумный язык ‹...› подаёт руку заумной живописи” [19]. Ср. об иконичности вербального знака в барокко [56: 14].
 42
42 Ср. другие явления из этого ряда: употребление в функции иконических таких абстрактных символов, как числовые, в творчестве Маяковского: „‹...› везде по крышам танцевали трубы, и каждая коленями выделывала 44” [28: т. 1, 71], „‹...› пухлые губы бантиком сложены в 88” [28: т. 1, 48]; слияние букв и фонем в теоретических построениях Хлебникова; превращение моторных особенностей авторского почерка в выразительное средство стихотворного письма (в частности, в книге Асеева «Зор»); стремление футуристов к семантизации топографских шрифтов («Железобетонная поэма» Каменского); перевод графем в изобразительную плоскость у Большакова: „Одеваются в ночную мглу дни. / Перегнувшиеся наподобие Z’a. / Ах, сегодня только пополудни / Вышли утренние газеты” [3: 7–8].
 43
43 Воздействие изобразительного искусства на поэзию русских кубо-футуристов исследовано в статье Н.И. Харджиева «Маяковский и живопись» [54]. См. также [68: 36–39].
 44
44 О “поэтических этимологиях” футуристов см. [61: 45; 35, 194–195].
 45
45 Один из многочисленных примеров — немотивированное вторжение церковнославянизма у Хлебникова:
Края пенного стакана широки и облы, — О, не хотите ли, сфинксы, кусочка воблы? [55: т. 4, 223].
 46
46 См. также [57: 100–103].
 47
47 Ср. ориентацию на код в живописи XX в., откуда: появление незакрашенной плоскости полотна, нанесение жидкого красочного слоя на проступающие из-под него линии предварительного наброска, популярность темы “художник и его модель”, демонстрирующей самый процесс изображения, и т.п. В графике та же тенденция может проявляться в продлении линий рисунка за пределы оконтуренной фигуры или предмета.
 48
48 Согласно М.В. Панову, стихи Маяковского „‹...› представляют собой поэтический монолог, созданный средствами бытовой диалогической речи” [32: 105]. Ср. проникновение “чужого” (объектного) слова в авторскую речь у Хлебникова:
Народ отчаялся. Заплакала душа.
И бросил сноп ржаной о землю.
В Киргизию пошел с жаной,
Напеву самолёта внемля.
[55: т. 3. 199]
 49
49 Непрямая коммуникация казалась футуристам отрицательным явлением: ср. чрезвычайно недоброжелательное отношение Д. Бурлюка к художественной критике: „‹...› только в рядах искренних зрителей возможно искать поддержку и сочувствие” [5: 13].
 50
50 Ср. другие маски в стихах Маяковского, напоминающие маски commedia del’arte: „рот один без глаз, без затылка” [28: т. 1. 84]; „тронул губу, а у меня из-под губы — клык” [28: т. 1, 88]; „в лысине — тот — это большой, носатый плачет армянский анекдот” [28: т. 1, 98]; „облысевшую голову разрисует ‹...› в рога или в сияние” [28: т. 1, 166]; „‹...› в ужасе стрелки волос подымались на лысом темени времени” (124: т. 1, 163].
 51
51 Такие особенности художественной речи Маяковского, как преодоление синтаксиса за счет семантики, синтаксическая компрессия, изученная еще Б. Арватовым [2: 101 и далее], звуковая редакция (ср.: „баарбей” в «150 000 000») и некоторые другие, совпадают с признаками внутренней речи (по Л.С. Выготскому). Стилистику Маяковского, стало быть, определяет легализация внутренней речи, с чем корреспондирует и тот факт, что его поэзия отправляет нас к темам, в наибольшей степени подвергающимся социальному табуированию (бунт, телесная любовь), т.е. к семантике, относящейся к ведению внутренней речи. Ср. сходные суждения Ежи Фарыно о Цветаевой [52: 161].
 52
52 Ср. учение Эйзенштейна о пафосе.
 53
53 Ср.: „‹...› Душа влечётся в примитив” у Игоря Северянина [45: 126] и другие аналогичные примеры в поэзии Хлебникова, Каменского, Асеева.
 54
54 О связи между социальным отчуждением и аллюзивным словом, производящим „эффект утаённой информации”, см. [67: 44 и далее].
 55
55 Интересный анализ хлебниковского подхода к собственному имени предпринят в [12].
 56
56 По замечанию Д.С. Лихачева, в русской литературе XVII в. „человек живописуется в своих связях ‹...›с другими людьми, вступает с ними в “ансамблевые группы” [22: 206].
 57
57 Ср. уподобление золота в государственной жизни кровообращению у Гоббса.
 58
58 Ср. “адамизм” акмеистов; ср. также установку поэтов ОБЭРИУ смотреть „на предмет голыми глазами” (манифест ОБЭРИУ цит. по: [70: 70]).
 59
59 Это противоречие обсуждает З. Матхаузер в [27: 150].
————————
Литература1.
Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля древней Руси.
М., Л. 1947.
8.
Арватов Б. Социологическая поэтика,
М. 1928.
3.
Большаков К. Поэма событий.
М. 1916.
4.
Бурлюк Д. Биография и стихи. К 25-летию художественной деятельности.
Нью-Йорк. 1924.
5.
Бурлюк Д. Галдящие “бенуа” и новое русское национальное искусство.
СПб. 1913.
6.
Величковський Iван. Твори.
Kиiв. 1972.
7.
Вельфлин Г. Ренессанс и барокко.
СПб. 1913.
8. Второй сборник Центрифуги.
М. 1916.
9.
Горфункель А.X. «Пентатеугум» Андрея Белобоцкого // Труды Отдела древнерусской литературы (далее — ТОДРЛ). Т. XXL
М., Л. 1965.
10.
Декарт Р. Избранные произведения.
М. 1950.
11. Демократическая поэзия XVII века.
М., Л. 1962.
12.
Дуганов Р.В. Краткое “искусство поэзии” Хлебникова // ИЛЯ. 1974. Т. XXXIII. № 5.
воспроизведено на www.ka2.ru13.
Иванов Вяч.Вс. Категория времени в искусстве и культуре XX века // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве.
М. 1974.
14.
Игнатьев И.В. Эго-футуризм // Засахаре Кры. Эго-футуристы.
СПб. 1913.
15.
Каменский В. Девушки босиком.
Тифлис. 1917.
16.
Каменский В. . Его — моя биография великого футуриста.
М. 1918.
воспроизведено на www.ka2.ru17.
Кручёных А. Апокалипсис в русской литературе.
М. 1923.
18.
Кручёных А. Возропщем.
Пг. (б. г.).
19.
Кручёных А. Вселенская война.
Пг. 1916.
20.
Кручёных А., Хлебников В. Слово как таковое.
М. 1913.
21.
Кульбин Н.И. Свободное искусство как основа жизни. Гармония и Диссонанс // Студия импрессионистов.
СПб. 1910.
22.
Лихачёв Д.С. Развитие русской литературы X–XVII веков.
Л. 1973.
23.
Лихачёв Д.С. Черты первобытного примитивизма в воровской речи // Язык и мышление. Ill–IV.
М, Л. 1935.
24.
Лотман Ю.М. Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» // ТЗС. Вып. 3, 1967.
25.
Майков Л.Н. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII столетий.
СПб. 1889.
26.
Майков Л.Н. Симеон Полоцкий о русском иконописанни.
СПб. 1889.
27.
Матхаузер З. Логика нелогичности. К некоторым взаимосвязям русского футуризма // Probldmy literamej avantgardy.
Bratislava. 1968.
28.
Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. Т. 1.
М. 1955; Т. 4.
М. 1957.
29.
Мейлах M.Б. Язык трубадуров.
M. 1975.
30.
Морозов А.А. Основные задачи изучения славянского барокко // Советское славяноведение. 1971. № 4.
31.
Нечаев В.И. Нутровые палаты в русской живописи XVII в. // Русское искусство XVII века.
Л. 1929.
32.
Панов М.В. Стилистика // Русский язык и советское общество. Проспект.
Алма-Ата. 1962.
33.
Панченко А.М. Несколько замечаний о генологии книжной поэзии XVII века // ТОДРЛ. Т. XXVII.
Л. 1972.
34.
Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века.
Л. 1973.
35.
Панченко А.М., Смирнов И.П. . Метафорические архетипы в русской средневековой словесности и в поэзии начала. XX в. //ТОДРЛ. Т. XXVI.
Л. 1971.
36.
Паскаль. Мысли о религии.
М. 1902.
37.
Пастернак Борис. Охранная грамота.
Л. 1931.
38.
Пастернак Борис. Стихотворения и поэмы. Библиотека поэта (Большая серия).
М., Л. 1965.
39.
Пекарский П. Наука и литерагура в России при Петре Великом. Т. I.
СПб. 1862.
40. Пир во время чумы // Мезонин поэзии. Вып. 2.
М. 1913.
41.
Резанов В.И. К вопросу о старинной драме. Теория школьных “декламаций” по рукописным поэтикам // ИОРЯС. 1913. Т. XVIII. № I.
42.
Робинсон А.И. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследования и тексты.
М. 1963.
43. Русская силлабическая поэзия XVII–XVIII вв..
Л. 1970.
44.
Северянин Игорь. Ананасы в шампанском. Поэзы.
М. 1915.
45.
Северянин Игорь. Громокипящий кубок. Изд. 2.
М. 1913.
46.
Симеон Полоцкий. Избранные сочинения.
М., Л. 1953.
47.
Скрипиль М.О. Повесть о Савве Грудцыне (Тексты) // ТОДРЛ. Т. V.
М., Л. 1947.
48.
Смирнов И.П. Причинно-следственные структуры поэтических произведений // Исследования по поэтике и стилистике.
Л. 1972.
49.
Софронова Л.А. Некоторые проблемы поэтики польского барокко // Советское славяноведение. 1974. № 1.
50.
Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 2.
Киев. 1917.
51.
Топоров В.Н. К отзвукам западноевропейской поэзии у Ахматовой (Т.С. Элиот) // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1973. V. XVI.
52.
Фарыно Е. Некоторые вопрсоы теории поэтического языка (Язык как моделирующая система. Поэтический язык Цветаевой) // Semiotyka i struktura tekstu.
Wroclaw–Warszawa–Kraków–Gdańsk. 1973.
53. Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1–2.
М. 1914.
54.
Харджиев Н., Тренин В. Поэтическая культура Маяковского.
М. 1970.
55.
Хлебников Велимир. Собрание произведений. Т. 1–5.
Л. 1928–1933.
56.
Чернов И.А. Литературная культура русского барокко (пути и методы изучения). Автореф. канд. дисс.
Тарту. 1975.
57.
Чернов И.А. Опыт типологической интерпретации барокко // Сборник статей по вторичным моделирующим системам.
Тарту. 1973.
58.
Чижевский Д. К проблеме литературного барокко у славян // Literárny Barok.
Bratislava. 1971.
59.
Шептаев Л.С. Стихи справщика Савватия // ТОДРЛ. Т. XXI.
М., Л. 1965.
60.
Шершеневич Вадим. Футуризм без маски.
М. 1913.
61.
Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Виктор Хлебников.
Прага. 1921.
воспроизведено на www.ka2.ru62.
Bjorling F. «Stolbcy» by Nicolaj Zabolockij. Analyses.
Stockholm. 1973.
63.
Clough T.R. Futurism.
New York. 1961.
64.
Čiževskij D. Aus zwei Wilten.
s’Gravenhage. 1966.
65.
Donne John. Poetry and Prose.
New York. 1967.
66.
Feinberg L.E. The Grammatical Structure of Boris Pasternak’s Gamlet // Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky.
The Hague; Paris. 1973.
67.
Kugel J.L. The Techniques of Strangeness in Symbolist Poetry.
New Haven; London. 1971.
68.
Markov V. Russian Futurism: A History.
Berkeley; Los Angeles. 1968.
69.
Mathauzerova S. Baroko v ruské literature XVII stoleti // Československé prednášky pro VI mezinárodní sjezd slavistů v Praze.
Praha. 1968.
70.
Milner-Gualland R.R. “Left Art” in Leningrad: the OBERIU Declaration // Oxford Slavonic Papers. New Series. 1970. Vol. III.
71.
Nelson L. Baroque Lyric Poetry.
New Haven; London. 1961.
72.
Nilsson N.Å. Russian Heraldic Virši from the 17th Century.
Stockholm. 1964.
73.
Nilsson N.Å. Russian Imaginists,
Stockholm. 1970.
74.
Roussel J. La littdrature de 1’age baroque en Françe. Circé et la Paon.
Paris. 1964.
75.
Todorov Tz. Le nombre, la lettre, le mot // Poétique. 1970. № 1.
76.
Wamke F.J. Versions of Baroque. European Literature in the Seventeenth Century.
New Haven; London. 1972.
Воспроизведено по:
И.П. Смирнов. Смысл как таковой. СПб.: Академический проект. 2000.
С. 118–138, 200–206, 211–222.
Изображение заимствовано:
Михаил Шемякин (род. 1943). Два метафизических персонажа.
1978. Бум., смеш. техника. 25×32 см.


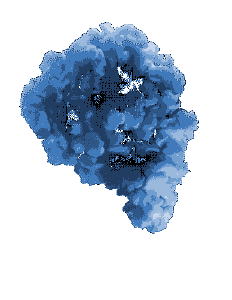 ема “барокко и футуризм” — лишь один из аспектов широкой темы “барокко и культура первой половины XX в.”. Впрочем, если ограничиться материалом русской литературы, то необходимо признать, что наиболее показательные схождения между искусством XVII в. и художественной практикой нашего столетия прослеживаются именно в футуристическом творчестве.1
ема “барокко и футуризм” — лишь один из аспектов широкой темы “барокко и культура первой половины XX в.”. Впрочем, если ограничиться материалом русской литературы, то необходимо признать, что наиболее показательные схождения между искусством XVII в. и художественной практикой нашего столетия прослеживаются именно в футуристическом творчестве.1![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()