

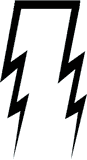 режде чем попытаться определить основные эстетические первоначала такого сложного и такого малоизученного явления, как русский футуризм, необходимо хотя бы предварительно условиться о его специфике и границах.
режде чем попытаться определить основные эстетические первоначала такого сложного и такого малоизученного явления, как русский футуризм, необходимо хотя бы предварительно условиться о его специфике и границах.Дело в том, что понятия футуризма в Европе и футуризма в России не совпадают ни по эстетическому содержанию, ни по объёму. Русский футуризм, в отличие от итало-французского или английского, не ограничивался рамками какой-то группы или школы, но очень рано приобрёл характер широкого художественного и даже общеэстетического движения, захватывавшего множество разноречивых групп, школ и отдельных художников и распространявшегося почти на все виды искусства. В связи с чем и то общее, что безусловно связывало это движение с европейским футуризмом, получало на русской почве иной смысл и иной отклик. Россия расширенный материк / И голос запада громадно увеличила, / Как будто бы донесся крюк / Чудовища, что больше в тысячи раз, — писал Хлебников в стихотворении «Бурлюк».1![]()
Сама множественность направлений и группировок, зачастую отрицавших друг друга (а равно и европейских собратьев) и утверждавших собственное исключительное право представлять “идею футуризма”, как нельзя лучше свидетельствовала о том, что дело шло не просто о выражении той или иной художественной концепции, но о воплощении какого-то общего духа времени, в отношении к которому каждый, конечно, имеет исключительное право голоса и каждый может, подобно Маяковскому, провозглашать: „Из меня слепым Вием время орёт: / Подымите, подымите мне веков веки!”2![]()
Поэтому как раз для русского авангарда так характерна была программа “всёчества”, выдвинутая художниками ларионовского круга, но изначально и внутренне свойственная всему движению. Всякая школа, всякая группа, заметил Тынянов в связи с Хлебниковым, живёт запретом и ограничением. Суть же футуристического движения состояла, прежде всего, в отрицании всяческих эстетических запретов и любых художественных ограничений, вплоть до отрицания искусства вообще как системы правил и условностей. Но только вплоть. Ибо это движение, несмотря на весь свой художественный произвол, всё-таки оставалось искусством, хотя бы только с собственной точки зрения. Оно могло как угодно перестраивать любые художественные системы, как угодно раздвигать границы эстетического, — настолько, что некоторые открытия, скажем, Хлебникова или Малевича до сих пор остаются какими-то геркулесовыми столпами современной эстетики, — тем не менее, оно не покидало эстетических пределов (как это произошло позже, например, в конструктивизме). И это очень точно выразил Маяковский в старой династической формуле, взятой эпиграфом к одной из его статей 1914 года, но которую можно отнести ко всему движению: „Искусство умерло... Да здравствует искусство!” (ПСС I: 302). Вот этот промежуток, вот это эстетическое многоточие, когда прежняя “бедная красота” уже распалась, а новая ещё не воплощена и лишь сама идея или какой-то категорический императив прекрасного витает, как дух над бездной, вот это и есть исходное самоощущение русского футуризма.
Конечно, оно давало художнику чувство небывалой свободы, но, как и всякое подлинное чувство свободы, оно было окрашено трагически; уже тогда было совершенно ясно, что жить и развиваться в таком состоянии довременного хаоса искусство не может, однако и избежать его тоже было невозможно.
Вопрос ставился так: что есть чистая живопись? чистая поэзия? чистая музыка? чистый театр? наконец, чистый кинематограф?3![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Поэтому, очевидно, следует различать футуризм в узком значении и футуризм в широком значении, или, так сказать, физику и метафизику футуризма, имея в виду в первом случае определённую художественную концепцию, стоящую в одном ряду с кубизмом, фовизмом, роялизмом, орфизмом, примитивизмом, симультанизмом, лучизмом, супрематизмом и т.п. общеевропейскими школами и течениями, а во втором случае — общеэстетическую концепцию и широкое движение, опиравшееся на единое переживание мира, но принципиально открытое любым системам выразительности и даже требовавшее их множественности, поскольку всякая иная система есть необходимая крайность относительно других. В этом случае футуризм уже оказывается в одном ряду с такими явлениями, как символизм или конструктивизм, но, в отличие от них, принадлежит почти исключительно России. При этом весьма показательно, что собственно футуристической живописи, как указывал ещё Н. Харджиев, в России по существу не было, тогда как центральное место в движении занимало такое противоестественное соединение крайностей, как кубофутуризм.8![]()
Что же касается самого термина, то здесь перед нами редкий в истории искусства случай, когда термин соответствует не узкому, а как раз широкому, и сколь угодно широкому его толкованию (в противоположность, например, таким терминам, как импрессионизм или кубизм). По существу ведь всякое искусство, да и вообще всякое творчество обращено к будущему, оно — по слову Хлебникова — родина творчества, и в этом смысле всякое творчество — футуризм.9![]()
![]()
В свете такого разграничения становится яснее, во-первых, отношение русского футуризма к европейскому: в качестве художественной концепции он был прямо заимствован с Запада, тогда как в качестве общеэстетической концепции он вполне самостоятелен и зародился значительно раньше. Нам незачем было прививаться извне, так ‹как› мы бросились в будущее от 1905 г., — писал Хлебников в связи с визитом Маринетти в Россию (НП: 368). А, следовательно, во-вторых, становится яснее и отношение футуризма к национально-культурной и социально-исторической действительности: в качестве общеэстетической концепции футуризм несравненно глубже обусловлен и резче ограничен как по своему смыслу, так и фактически 1910-ми годами, то есть поворотной эпохой войн и революций в России.
Именно поэтому при всех очевидных крайностях, при всём стремлении к, казалось бы, неограниченной свободе искусства русское движение, тем не менее, было ответом на вполне определённые и даже жёсткие требования. Хлебников прямо утверждал, что свобода искусства слова всегда была ограничена истинами, каждая из которых частность жизни. Эти пределы в том, что природа, из которой искусство слова зиждет чертоги, есть душа народа. И не отвлечённого, а вот этого именно (НП: 334). Но как раз исходя из этой природы слова он и настаивал на свободе словотворчества:
Ни о каком искусстве для искусства, ни о каком бессодержательном формотворчестве тут, конечно, и речи не могло быть, поскольку в футуризме искусство выходило из себя, а не замыкалось на себе. Все эти новые слова, все эти новые формы, о которых так много говорили и которых так много изобретали футуристы, напротив, были призваны к тому, чтобы выразить, закрепить, овеществить художественно новые ощущения, переживания, осмысления мира.
С такой точки зрения, чтобы ответить на занимавший нас вопрос о специфике этого искусства и вообще этой эстетики, нужно, прежде всего, понять, что вся эта действительность в целом переживалась здесь особым образом, а именно как живая, безличная, стихийная, творящая сила, так сказать, natura naturans. И, следовательно, как ни странно это может показаться, эстетика футуризма с его машинностью, урбанизмом, рационализмом и т.д. и т.п. в конечном счёте, или, вернее, в своём первоначале была эстетикой природы. Но природа здесь — не храм и не мастерская, то есть не символ иного мира и не бессмысленная неоформленная материя, природа здесь вполне и окончательно субстанциальна. Всё есть природа, и человек со всей его историей, культурой и искусством не противостоит природе, а продолжает её в новых формах.
Но если в новой живописи субстанциальность природы постепенно осознавалась уже с Сезанна и Ван Гога (да живопись и всегда сохраняла более непосредственную связь с природой, хотя бы в качестве натуры, и потому естественно, что новая эстетика утверждалась, прежде всего, в живописи), то в литературе это происходило гораздо позже, труднее и драматичней, и лишь в творчестве Хлебникова природа впервые полновластно вошла в художественное сознание. Откровение природы, её грозное явление и торжество в столкновении с историей стало магистральным сюжетом основных хлебниковских произведений от ранних романтических драм, вроде «Гибели Атлантиды», до последних революционных поэм, вроде «Ночи перед Советами» и «Ладомира», в которых не только какие-то баснословные события, но и живая современная история выступает в качестве функция природы.12![]()
Что же это значит, если вся без исключения действительность переживается как единая творящая сила? Это значит, что природа открывается не в вещественном и не в духовном, а в каком-то более общем аспекте, в котором снимается их противопоставленность, это значит, что природа открывается как энергия.
Вот тут, наконец, мы подходим к самой сути футуристической эстетики. Хлебников учил о молнийно-световой природе мира (молния в его терминологии — энергия) и, следовательно, об энергийной природе истории и культуры, этики и эстетики. Нужно помнить, что человек в конце концов молния, что существует большая молния человеческого рода — и молния земного шара (СП V: 231, 240). В его мистерии «Сёстры-молнии» энергия — основа и источник, начало и конец всего многообразия мировых явлений, предстающая в качестве единой общей меры, сохраняющейся во всех бесконечных взаимопревращениях материя и духа:
Так же последовательно взгляд на природу, как „энергийное действо”, которое в то же время является и „эстетическим действом”, утверждал и Малевич:
В свою очередь футуризм в широком смысле, как общеэстетическая концепция, в реализации которой так или иначе принимали участие столь разные художники, как, скажем, Ларионов и Якулов, Филонов и Татлин и т.д. вообще может быть понят как стремление к „постижению законов энергии, заложенной в материи, и переводу их в плоскость красоты” — по определению С. Исакова, высказанному по частному поводу, но применимому ко всему движению в целом.14![]()
Но если, например, В.В. Розанов, развивавший учение об органически-энергийной природе красоты, говорил о прекрасном как „вечно завершающемся”,15![]()
Художнику нет необходимости подражать бесконечно изменчивым формам природы, поскольку он сам природа в её становлении, и через него самого проходит путь движения этой единственной нерушимой реальности — энергии мира, которую он познаёт и выражает в своём творчестве, продолжая природу в „энергийном действе”.
Итак, в самом общем виде можно было бы предложить следующую формулу эстетики русского футуризма: это эстетика бесконечного материально-энергийного становления. Но это действительно лишь самый общий, так сказать, онтологический аспект футуризма, который ещё требует проверки и разработки на конкретном художественном материале, открывавшем массу увлекательных возможностей.
Так, если искусство является выражением и оформлением мировой энергии, то из всех способов такого выражения, очевидно, предпочтительнее будет наиболее простой и непосредственный (экономный — по Малевичу). Из подобного умозаключения, по всей вероятности, и возникло стремление к прямому выражению, то есть так называемая заумная поэзия и беспредметная живопись — характерные крайности футуристического искусства. Возьмем, к примеру, знаменитый чёрный квадрат Малевича. Часто говорят, что квадрат этот попросту ничего не выражает, хотя сам художник говорил о „лице квадрата”, о квадрате как „иконе своего времени”, подчёркивая вместе с тем, что на этом „квадрате никогда не увидите улыбки милой Психеи”.19![]()
![]()
Супрематизм вообще можно, по-видимому, считать философией искусства на языке самого искусства и его универсальность оказывается более наглядной в сопоставлении с эстетикой совсем иных традиций. Например, среди рисунков известного дзенского мастера Сенгая (1760–1837) мы найдём композиции из круга, треугольника и квадрата, имеющую, к тому же, и название «Первооснова дзен». В толковании Судзуки это изображение природы, где круг — бесформенная форма — представляет высшую реальность, основу всего сущего; треугольник — начало всех материальных форм — символизирует человека в трёх его аспектах (физическом, умственном и духовном); квадрат — первоформа, из которой возникает всё бесконечное множество вещей, — означает объективный мир с его четырьмя стихиями (земля, вода, воздух, огонь), причём круг превращается в треугольник, в квадрат, а тот порождает все многообразие форм реального мира.21![]()
С другой стороны, имеем ли мы право говорить об изображении мировой энергии в таких произведениях, как контррельефы Татлина, где в противоположность запредметному миру Малевича мы видим мир в его неоформленно-материальном состоянии? Очевидно нет, ибо энергия есть полная выраженность смысла, ясная заданность меры и ритма смыслового движения. Однако в контррельефах мы всё-таки находим уже не просто бессмысленный материал, а именно “материальный подбор”, то есть соотношение, столкновение и как бы завязь материальных стихий, в результате чего возникает возможность материально-энергийного становления. Это ещё не живая смысловая энергия, но уже как бы оплодотворённая материя, земля, в которую брошено семя. Поэтому тут мы должны, вероятно, говорить об изображении мировой потенции, или, вернее, об изображении мировой энергии в её потенциальном состоянии.
Иное дело не менее знаменитая, чем квадрат Малевича, татлинская башня, непосредственно вырастающая из этих контррельефов, но несущая в себе уже вполне осуществлённый образ „энергийного действа”, законченное выражение материально-энергийного становления. Правда, как раз в её монументальной завершённости скрыто глубокое противоречие, знаменовавшее завершение и конец всей футуристической эстетики, так что можно даже сказать, что башня явилась последней футуристической энергемой и первым конструктивистским проектом.
Потенция и энергия в некотором отношении, по-видимому, соотносятся как число и имя: число есть только возможность выражения сущности, тогда как имя её уже фактически выражает. На этом построено одно из программных стихотворений Хлебникова:
Лицо здесь, несомненно, то же самое, что и на квадрате Малевича, но оно взято ещё более отвлечённо, и сказать о нём можно лишь то, что оно есть, что оно существует на холсте каких-то соответствий. Но что это за соответствия? Хлебников разъяснял следующим образом:
Как раз в этом стихотворении мы и видим такое соединение и превращение одной материальной стихии в другую, в данном случае — цветовой в звуковую, причём данные цветозвуковые соответствия (б — красный, в — зелёный, м — синий, п — чёрный, л — белый, г — жёлтый, з — золотой) не имеют, разумеется, всеобщего значения. Здесь важен, во-первых, сам принцип соответствий, дающий возможность взаимопревращений при сохранении незыблемого единства, и, во-вторых, метод таких превращений. Они осуществляются посредством пения, то есть не хаотически, не случайно, а ритмически, закономерно и стройно, и это-то пение молний (ср. хор сестёр-молний) и есть стих, поэзия, вообще искусство, задача которого и состоит в том, чтобы найти и выразить вот эту единую общую меру мира, дать ей имя. В результате перед нами возникает картина материально-энергийного становления, но данная вне пространственной и временной протяженности, как чисто смысловое становление.
Возьмём теперь эстетику русского футуризма совсем с другой точки зрения, а именно в социально-историческом плане. Наше общее понимание этой эстетики предполагает, что такое искусство, для которого, прежде всего, прекрасна динамика мира, где все вещи и формы, в том числе и социально-культурные, находятся в непрерывном движении и изменении, когда ни одна форма не остаётся самой собой, и когда всё это не просто течёт и изменяется, но катастрофически гибнет и возникает вновь, когда дело идёт о жизни и смерти, очевидно, могло с необходимостью возникнуть только на почве революционного переживания действительности. Причём связи действительности с искусством тут устанавливались самые непосредственные. Нас не удивляет, что для Маяковского высшей оценкой художественного произведения было определение “катастрофа”, то есть буквально — конец, гибель, переворот, но ведь то же самое мы находим, к примеру, даже у такого спиритуалистически настроенного художника, как Кандинский:
Что же касается Хлебникова, то вся его философия вообще, и в частности философия истории, была ни чем иным, как учением о мировых катастрофах, больше того — учением о закономерности мировых войн и революций. Так, ещё в 1912 году в результате своих математических исследований истории он предсказывал революцию 1917 года, и это имело непреложный авторитет для всего движения, независимо от убедительности самих вычислений, потому что таково было их общее стихийное переживание, опережавшее историческую действительность. Мировой рокот восстаний страшен ли нам, если мы сами — восстание более страшное? — писал Хлебников в 1917 году. Об этом же позже говорил и Малевич: „Кубизм и футуризм были движения революционные в искусстве, предупредившие и революцию в экономической, политической жизни 1917 года” (ОНСВИ: 10). Однако понимая, что вся футуристическая эстетика была, прежде всего, эстетикой природы, мы сейчас ясно видим, что и революционность её имела характер по преимуществу стихийный и утопический. А потому её стремление прямо отождествить „энергийное действо” с эстетическим очень скоро привело, наоборот, к несовпадению этого искусства с наличной социально-исторической действительностью.
Наиболее непосредственно и ярко эта эстетика в её социально-историческом и даже социально-антропологическом аспекте воплощалась, конечно, в Маяковском. В нём не было той всеобщности и космичности, что отличала, скажем, Хлебникова и Малевича, но зато тут на первый план выступала эстетика личности и судьбы. Своё вступление на это поприще он описывал так:
И чем меньше тут было объективной истории, тем больше сказывалось верное самоощущение. Маяковский был не просто одним из участников движения и даже не просто одним из ведущих, — он занимал совершенно особое место именно в эстетической системе футуризма. Если рассматривать это движение как „энергийное действо”, как своего рода театр жизни (а для этого у нас есть основания), то именно Маяковский — не как поэт, художник или публицист, а как живой человек со своей судьбой, в данной исторической обстановке, во всей цельно-раздельности своей личности, со своей жёлтой кофтой и бархатным голосом, с неотразимым полемическим даром и естественным демократизмом, со всей разносторонностью устремлений в живопись, поэзию, театр, кино и т.д., окажется в центре такого театра, корифеем этой трагедии. И в то же время этот человек-катастрофа, человек-переворот был столько же действующим лицом, сколько и ареной „энергийного действа” природы, совершавшегося в нём самом.
Эпический хлебниковский сюжет выворачивания природы сквозь историю дан в нём лирически, как внутренний конфликт. В чём он заключался? Человек не равен самому себе: он меньше природы, потому что он сотворён ею, и, вместе с тем, он больше её, потому что он сам творит новую природу и, вырастая сам из себя, он умирает и рождается вновь. Таков сквозной сюжет его лирики и его судьбы: „‹...› чувствую — “я” для меня мало. Кто-то из меня вырывается упрямо” (ПСС I: 179). Причём выход из себя в нового себя с неизбежностью осуществлялся через искусство. В той же поэме «Облако в штанах» есть чудовищный образ: „как в гибель дредноута от душащих спазм бросаются в разинутый люк — сквозь свой до крика разодранный глаз лез, обезумев, Бурлюк” (ПСС I: 186). Это образ рождения нового видения, нового искусства, вообще новой эстетики.
Так строится сюжет его первой трагедии, которую Хлебников называл хвалой молнии. Здесь нет буквально ни одного момента, который бы многократно не переворачивался и не выворачивался наизнанку, начиная с её титула «Владимир Маяковский» (что здесь автор и что здесь название?) и кончая её постановкой на сцене петербургского «Луна-парка» в декабре 1913 года, где Маяковский выступал в качестве режиссёра собственной трагедии, в которой сам же исполнял роль самого себя (что здесь искусство и что здесь жизнь?). Обратим внимание на самый, пожалуй, характерный момент: в соответствии с поэтикой монодрамы все действующие лица трагедии суть различные ипостаси его личности, в которых он как бы выходил из себя, и в то же время это не живые люди и даже вообще не люди, а говорящие картины (актёры носили перед собой картонные щиты, на которых был изображён соответствующий персонаж). Но этого мало. Те же проекции его личности вместе с тем были в некотором отношении и портретами его ближайших соратников по футуристическому движению, но портретами опять-таки вывернутыми наизнанку. Например: Человек без уха (то есть музыкант) — М. Матюшин, Человек без головы (то есть заумный поэт) — А. Кручёных,23![]()
В итоге всех этих превращений перед нами вырисовывается имя в своём конкретном и одновременно всеобщем значении. «Владимир Маяковский» означает не только имя автора, не только название художественного произведения, не только „фамилию содержания” (по выражению Пастернака) и даже не только имя какого-то собирательного Я футуризма, а гораздо шире — это, подобно квадрату Малевича или хлебниковскому Лицу, имя мировой энергии, но в отличие от них это имя собственное, имя живого человека, имя осуществления смысла в реальной личности и судьбе. И точно так же, как личность здесь тождественна миру (юноша Я-Мир — по формуле Хлебникова), искусство в трагедии совпадает с действительностью. А потому Маяковского можно и даже необходимо рассматривать в качестве живого воплощения эстетики энергийного становления, и с такой точки зрения он предстаёт едва ли не самым замечательным и уж во всяком случае самым убедительным произведением футуристического искусства. Тут даже можно было бы говорить о своего рода каноне, если понимать канон как самопорождающую эстетическую модель. Ведь во всём этом движении дело шло, в конечном счёте, не только об искусстве, а вообще о новом сознании, о новом человеке. „Будетляне, — говорил Маяковский, — это люди, которые будут. Мы накануне” (ПСС I: 329). Недаром вся его трагедия пронизана образами беременности и рождения: „На улицах, где лица — как бремя, у всех одни и те ж, сейчас родила старуха-время огромный криворотый мятеж!” (ПСС I: 162).
И, таким образом, в социально-антропологическом аспекте эстетику русского футуризма можно было бы определить как эстетику трагического рождения, что, по-видимому, вполне согласуется с её стихийной и утопической революционностью в социально-историческом аспекте и с её утверждением материально-энергийного становления в аспекте онтологическом.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 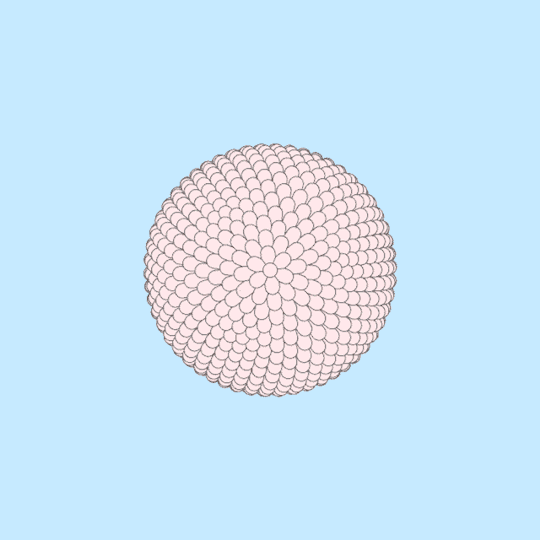 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||