Р.В. Дуганов
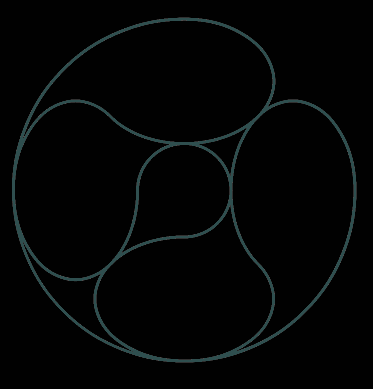
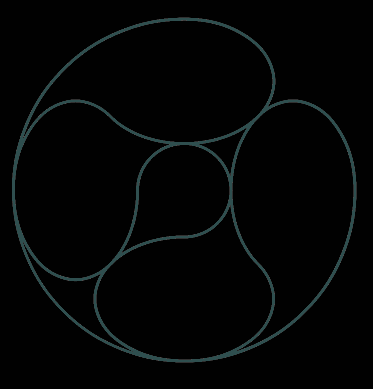
 нешне по всем признакам новая книга Н. Харджиева и В. Тренина «Поэтическая культура Маяковского» должна была бы, как принято говорить, подводить итог многолетней работы авторов над изучением творческого метода Маяковского и его современников. В ней отобрана бóльшая часть статей, написанных В. Трениным и Н. Харджиевым совместно и порознь в 30-х годах, а также Н. Харджиевым в 50–60-х. Здесь хорошо известные специалистам, усвоенные несколькими поколениями читателей работы В. Тренина и Н. Харджиева «Поэтика раннего Маяковского» (1935), «Маяковский и “сатириконская” поэзия» (1934), «Работа Маяковского над поэмой «Про это» (1933), фундаментальное исследование Н. Харджиева «Маяковский и живопись» (1940), статья В. Тренина «К истории поэмы «150000000» (1940) и «Заметки о Маяковском» Н. Харджиева, частью печатавшиеся в «Литературном наследстве» (1958) и сборниках «День поэзии» (1968 и 1969), частью новые, и его же большая статья «Маяковский и Хлебников», впервые ставшая доступной широкому читателю.1
нешне по всем признакам новая книга Н. Харджиева и В. Тренина «Поэтическая культура Маяковского» должна была бы, как принято говорить, подводить итог многолетней работы авторов над изучением творческого метода Маяковского и его современников. В ней отобрана бóльшая часть статей, написанных В. Трениным и Н. Харджиевым совместно и порознь в 30-х годах, а также Н. Харджиевым в 50–60-х. Здесь хорошо известные специалистам, усвоенные несколькими поколениями читателей работы В. Тренина и Н. Харджиева «Поэтика раннего Маяковского» (1935), «Маяковский и “сатириконская” поэзия» (1934), «Работа Маяковского над поэмой «Про это» (1933), фундаментальное исследование Н. Харджиева «Маяковский и живопись» (1940), статья В. Тренина «К истории поэмы «150000000» (1940) и «Заметки о Маяковском» Н. Харджиева, частью печатавшиеся в «Литературном наследстве» (1958) и сборниках «День поэзии» (1968 и 1969), частью новые, и его же большая статья «Маяковский и Хлебников», впервые ставшая доступной широкому читателю.1Но, несмотря на то, что все статьи, вошедшие в книгу, заново отредактированы, некоторые основательно переработаны («Маяковский и живопись», «Заметки»), книга ничего не завершает и окончательного итога не подводит. Больше того, собранные вместе, работы стали еще “шероховатей” и “занозистей”, обнаружив новую актуальность. (Исключение составляют две статьи «Маяковский о языке» и «Маяковский о качестве стиха»: они несколько теряют вне контекста литературной полемики 30-х годов. В отношении последней необходимо сделать одно уточнение, не меняющее, впрочем, её общего смысла. Пометки на сборниках молодых поэтов конца 20-х годов, послужившие материалом статьи «Маяковский о качестве стиха», не все принадлежат “руке” Маяковского, — частью они были сделаны при коллективном обсуждении секретарем Рефа П. Незнамовым.)
Книга невелика но объёму, но, благодаря внимательному отбору, чрезвычайно насыщена разнообразнейшими и ценнейшими сведениями из различных областей культуры, которые в ряде случаев можно рассматривать на уровне первоисточника. Однако в целом книга никоим образом не является простым собранием “материалов к проблеме”, ибо во всех отдельных работах, написанных на протяжении более тридцати лет, всегда угадывался, а в книге стал совершенно очевиден, единый обширный исследовательский замысел.
Чтобы в нём сориентироваться, нужно иметь в виду, что предшествовало этой книге и что за ней следует. Другими словами, то, что не включено в книгу, но властно в ней присутствует. Вспомним, например, известную статью Н. Харджиева «Турне кубофутуристов 1913–1914 гг.» (1940) или книгу В. Тренина «В мастерской стиха Маяковского» (1937), широко использованные во всех биографиях и очерках творчества Маяковского. Вспомним, наконец, огромную работу по подготовке первого посмертного собрания сочинений Маяковского и особенно самого трудного — первого тома. Достаточно сравнить его с первым томом прижизненного собрания, чтобы увидеть, что едва ли не третью всего материала мы обязаны В. Тренину и И. Харджиеву. Причём материал был не только впервые собран, но впервые филологически обработан на уровне образцовом и сегодня. Участь всей этой работы — безымянность. Как речь поэта поглощается языком культуры, так работа историка поглощается речью поэта, покрывается его именем. Но что может быть завиднее такой участи? И именно тяжесть этой работы и даёт книге “остойчивость”.
С другой стороны, книга очень беспокойна и насквозь полемична. Почти в каждой статье и особенно в «Заметках» пересматриваются и уточняются факты и выводы (равно свои и чужие), прямо или косвенно намечаются темы и задачи предстоящих работ, даются первые твёрдые координаты, завязываются “узелки на память” будущим исследователям.
Эта книга — своего рода “гроссбух”, где отчётливо виден сам процесс работы, соотношение сделанного и не сделанного, где исследователи не „торопятся с расходом свесть приход” — у них есть время „шутить… иль спорить о стихах”.
Что находится в центре внимания исследователей? И. Уткин говорил, что когда Маяковский читает стихи, он как бы стоит позади стихотворения. Нечто подобное здесь: на первом плане — не поэт, а поэзия, поэтический факт, понимаемый, правда, очень широко — буквально от запятой (см. заметку «Пунктуация и смысл») до поэтической системы в целом. И не просто поэтический факт, но динамика поэтического факта, и прежде всего его становление. Почему основной интерес исследователей сосредоточен на ранних стихотворениях 1912–1913 годов, на первых опытах социальной сатиры 1914–1915 годов, на первом эпическом опыте «150000000» (1920) и на “энциклопедии по Маяковскому” — поэме «Про это» (1923), где „сведены все элементы его поэтического метода”? Очевидно, потому, что это важнейшие моменты в формировании системы Маяковского, моменты кризисные, сопровождавшиеся резкими разломами, обнажавшими механизм поэтики. В моменты возникновения или изменения явления особенно наглядно выступают его устойчивые видовые и родовые признаки и одновременно — акт изобретения, то есть обнажается взаимодействие традиции и новаторства. Отсюда характерный для всей книги взгляд на поэтическое явление в профиль и вровень. Но это не “мелочность”, а особая пристальность и последовательность взгляда, поскольку каждый элемент поэтики — ритм, рифма, метафора и т.д. — берётся в „диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности смысловых и звуковых элементов” и в соотнесении со всей системой и смежными системами.
Несомненно, намеченными в книге “основными линиями” формирования раннего Маяковского (урбанистическое ответвление символизма, кубистическая живопись, французские “проклятые поэты”… и “сатириконцы”) вопрос далеко не исчерпывается, но так же несомненно, что выделены наиболее действенные и отчётливые “образующие” его поэтики. При этом особое внимание обращено не столько на сам набор элементов, сколько, во-первых, на их функциональные перестройки в новой системе. В связи со стихотворением «А всё-таки», в котором Маяковский впервые „нащупал свою индивидуальную поэтическую форму”, авторы указывают, что
Два наиболее значительных “и”, поставленных в книге, — это «Маяковский и живопись» и «Маяковский и Хлебников». По существу обе статьи представляют собой очень сжатые конспекты самостоятельных книг, так сказать, “книг в книге”. Особенно это относится к первой, которая, конечно, вопреки лукавому замечанию автора, далеко выходит за рамки „частного случая взаимодействия живописи и поэзии на примере художественной практики раннего Маяковского”. В нашей литературе она остаётся единственным серьёзным источником, позволяющим ориентироваться в сложнейших процессах взаимодействия искусств в России и в Европе 10-х годов.
Вторая статья также гораздо шире простого сопоставления Хлебникова и Маяковского. Она богата конкретным аналитическим материалом, опровергающим неподвижную схему “учитель — ученик” и приводящим к непреложному выводу о том, что,
В статье, кроме того, намечен ряд важных тем. Приведу только один пример. Сопоставляя утопические произведения Хлебникова и Маяковского и их общее увлечение идеями Эйнштейна, тогда ещё совсем новыми, Н. Харджиев указывает, что в поэтических замыслах Маяковского идеи Эйнштейна переплетались с «Философией общего дела» Н. Фёдорова, с которой Маяковский, по-видимому, познакомился через посредство художника В. Чекрыгина, в своих композициях вдохновлявшегося идеями Н. Федорова. Таким образом, завязываемся сложный узел: Маяковский — Чекрыгин — Фёдоров — Эйнштейн — Хлебников, где, казалось бы, совершенно несовместимые миры поэтов, художника, философа, учёного обнаруживают органическую связь. Нашему времени это уже не кажется парадоксальным. Недаром не так давно В. Шкловский в «Литературной газете» в связи с космическими полётами напомнил о Н. Фёдорове как учителе Э. Циолковского. И недаром на последней выставке В. Чекрыгина вдруг стало очевидным глубокое родство, при абсолютном внешнем различии, „космического эпоса” В. Чекрыгина и… «Окон РОСТА» Маяковского.
“Поэтическая культура” взята в книге не статически, не как “литературный пантеон”, а как динамическая система. Общий замысел, таким образом, открывается как исследование проблемы новаторства, точнее говоря, культуры новаторства, ибо всякое новаторство всегда означает лишь отрыв от одних традиций и ориентацию на другие, то есть перестройку эстетической системы. Самые крайние новаторы, самые решительные революционеры в искусстве, как хорошо показано в книге, оказываются и самыми верными и глубокими продолжателями. Но их традиции лежат вне обычного эстетического кругозора: они или много дальше, или совсем рядом.
Постоянный интерес к культуре новаторства определяет не только исследования о Маяковском, но вообще почти все работы В. Тренина и Н. Харджиева. Приведу ещё один пример, но не из этой книги, а из небольшой статьи Н. Харджиева о теперь уже знаменитом портрете Ахматовой работы Модильяни.2![]()
Анализируя рисунок, исследователь с поразительной проницательностью увидел его происхождение от скульптурной фигуры «Ночи» Микеланджело. Вне этой связи художника XX века с культурой Ренессанса смысл рисунка, создающего образ поэта, погружённого в творческий сон, не может быть понят. Если же вспомнить ещё «Идеал» Бодлера, любимого поэта Модильяни, то станет понятен и механизм этой связи. В сонете поэт говорит, что не отдаст своего сердца современным „щебечущим красоткам”, „виньеточным сиренам”, предоставляя их карандашу Гаварни; его же привлекают другие образы:
И, может быть, рисуя свой «Идеал», именно „дочь Микеланджело” имел в виду Модильяни, когда говорил Ахматовой: „Великие люди не должны иметь детей. C’est ridicule d’etre le fils de Michel-Ange”.3![]()
В книге о Маяковском подобных далёких связей сравнительно немного, внимание авторов преимущественно обращено на близкие и ближайшие, которые часто труднее разглядеть.
Эта инициативная, движимая тыняновским „беспокойством в осмыслении материала” книга очень своевременна. Через адекватное отношение к поэтическому факту в ней восстанавливается конкретный Маяковский в его поэтической культуре. Перебрасывая мост от времени первоначального научного освоения Маяковского к сегодняшнему дню, книга побуждает работать — дальше.
| Персональная страница Р.В. Дуганова | ||
| карта сайта | 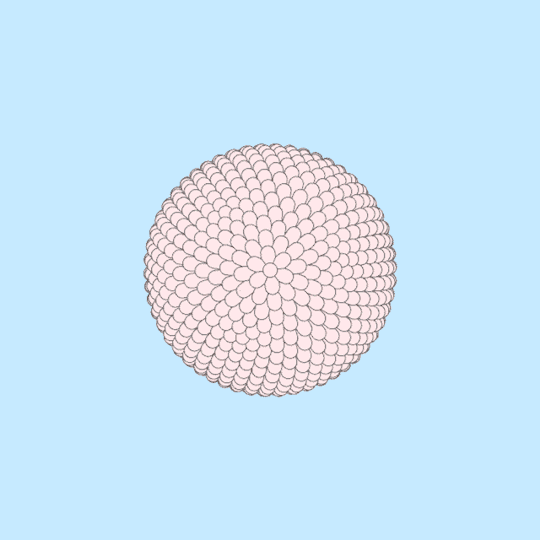 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||