Владимир Фёдорович Марков
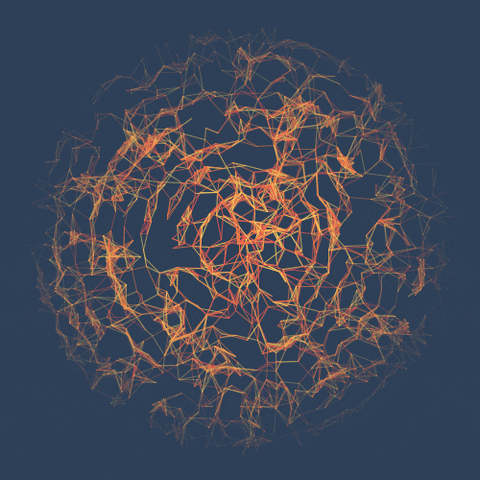
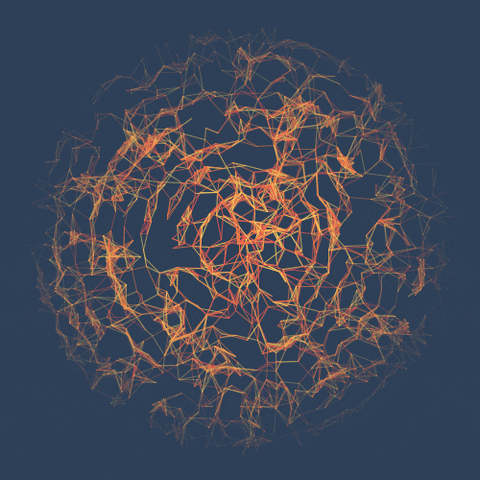
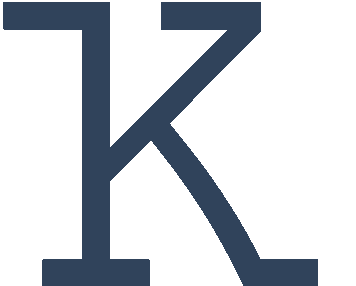 ак правило, русский футуризм считают своего рода поэтическим радикализмом — движением, руководимым агрессивными и шумными людьми. Оно, по мнению многих, ненадолго взбудоражило Россию, но вскоре исчерпало себя, породив множество гораздо менее значительных и даже эфемерных литературных групп, влачивших призрачное существование. Изучение русского футуризма всегда было спорадическим, и сейчас, спустя полвека после его появления, нет работы, которая могла бы претендовать на солидность. И это вполне объяснимо: в России футуризм уже почти тридцать лет полузапрещён, а в эмиграции бойкотируется, ибо элита русской зарубежной литературы его не приемлет.
ак правило, русский футуризм считают своего рода поэтическим радикализмом — движением, руководимым агрессивными и шумными людьми. Оно, по мнению многих, ненадолго взбудоражило Россию, но вскоре исчерпало себя, породив множество гораздо менее значительных и даже эфемерных литературных групп, влачивших призрачное существование. Изучение русского футуризма всегда было спорадическим, и сейчас, спустя полвека после его появления, нет работы, которая могла бы претендовать на солидность. И это вполне объяснимо: в России футуризм уже почти тридцать лет полузапрещён, а в эмиграции бойкотируется, ибо элита русской зарубежной литературы его не приемлет.Велимир Хлебников (1885–1922), чьё имя зачастую ошибочно пишется Велемир, в этом смысле не исключение. Это загадочный, трудно постигаемый поэт, у которого горстка почитателей; некоторые считают его чудаком, большинство просто игнорирует. Есть основания полагать, однако, что сейчас в России Хлебникова ценят больше, чем можно судить по тому, что просачивается в печать. Обещанное издание его произведений, после двадцатилетнего перерыва, — тому подтверждение. Поэты и критики редко понимают подлинный масштаб Хлебникова, а его влиянию на русскую поэзию слишком часто не придают значения даже ответственные учёные. Случайность ли, что недавно славист с мировым именем сделал три ошибки в однострочной библиографической записи, относящейся к основному изданию сочинений Хлебникова? Очевидно, “вводный курс” по его творчеству стоит на повестке дня первым, ибо ни одно из наличных изданий этому критерию не отвечает. Ни одна антология (включая составленную мной в 1952 году) не предлагает добротной подборки его поэм, кстати говоря. Столь желанное введение должно содержать, например, как можно больше писем Хлебникова, снабжённых лучшими, нежели предлагаемые, комментариями. Увы, на родине поэта это маловероятно, а за её пределами невозможно.
Отдельное издание всех поэм Хлебникова могло бы стать разумным разрешением этого недоразумения. Они стоят в его творчестве наособицу, но гораздо полнее раскрывают истинную поэтическую природу автора, нежели честолюбивые сверхповести, на которые он возлагал такие надежды. То же самое в отношении множества экспериментальных набросков, независимо от их реальной ценности восхваляемых его поклонниками. Ни в одном другом литературном жанре, опробованном Хлебниковым, нет такого единства, спонтанности и органического развития. Именно в поэмах он выказывает свою истинную оригинальность, блестящий артистизм и бесконечное разнообразие. Словом, поэмы со всей очевидностью показывают, кто есть Хлебников на самом деле: крупнейший русский поэт и гигант мировой поэзии ХХ в.
Вероятно, первой из них в подлинном смысле этого слова является «Царская невеста», написанная Хлебниковым предположительно в 1908 году. Это любопытный финал традиции романтических поэм о временах Ивана Грозного. У истоков её стоит лермонтовская «Песня про купца Калашникова» (1837), а пик популярности пришёлся на “грозниану” А.К. Толстого. Несмотря на ассоциации с Л. Меем вследствие названия, произведение Хлебникова — парафраз «Царицы Марии Долгорукой» А.A. Навроцкого (1839–1914), забытого третьесортного поэта 70-х гг. XIX в. (факт, упущенный литературоведами). Каждый из её эпизодов (числом пять) напоминает один из актов обобщённой русской оперы, пересказанный ребёнком. Здесь Хлебников предстаёт вполне состоявшимся художником с оригинальной техникой. Мелодраматический сюжет очаровательно тронут инфантильностью, а сцена, где героиня тонет, полна странного очарования.
«Внучка Малуши» (1909) знаменует устремление Хлебникова в седую древность, подальше от политических центров Российской империи Москвы и Петербурга (тяга к децентрализации вообще характерна для него). Этот наполненный славянским язычеством отголосок «Повести временны́х лет» о временах князя Владимира чем-то напоминает «Руслана и Людмилу» Пушкина. Хотя «Внучка Малуши» и является сколком увлечения символистов русским язычеством (см. работы А. Ремизова, С. Городецкого и К. Бальмонта 1907–1908 гг.), она принадлежит к великой традиции русской поэмы XVIII и XIX вв., связанной с именами Радищева, Востокова, Жуковского, Батюшкова, Пушкина (см. его план поэмы «Мстислав») и Катенина. Поэма показывает неплохое владение автора древнерусским языком. Вторая часть её вполне в духе сюрреализма переносит героиню в Петербург ХХ в., и заканчивается острой сатирой на современное университетское образование.
«Внучка Малуши» открывает период в жизни и творчестве Хлебникова, который можно назвать петербургским: от зачисления в университет переводом из Казани (1908) до призыва в армию (1916). В биографическом плане Хлебников то и дело путешествовал, однако неизменно сюда возвращался, окунаясь в литературную жизнь столицы. В ряде поэм Петербург фигурирует прямо («Внучка Малуши», «Журавль») или косвенно («Гибель Атлантиды»).
Ещё одна поэма 1909 года «Журавль» — сюрреалистическая петербургская фантазия, достойная войти в обойму соответствующего — Пушкин–Гоголь–Достоевский–Белый — направления. Хотя поэма и отдаёт дань символизму брюсовской атмосферой апокалиптического урбанизма, её стержневая тема — бунт неодушевлённых предметов — предвосхищает Маяковского: «Владимир Маяковский» (1913), «Мистерия-буфф» (1918) и «150 000 000» (1919–1920) — птенцы «Журавля» как тематически, так и ритмически. Подобным же эсхатологическим настроением проникнут написанный в 1910 году «Змей поезда» с видением чудовищного дракона, пожирающего едва ли сознающих опасность пассажиров. Этот любопытный образчик дидактического символизма с посылом “возвращения к природе” как был, так и остаётся без внимания литературоведов. А ведь перекличка с «Драконом» Алексея К. Толстого и «Комедией» Данте очевидна.
В том же 1910 г. Хлебников написал поэму, которая стоит особняком: она пронизана неологизмами. Его страсть к словоновшествам общеизвестна, поэтому единственная поэма с образчиками таковых достойна удивления. Поэма озаглавлена — по-видимому, не самим автором — «Война-смерть», и опять-таки выпадает из ряда хлебниковских былин лирическим, по сути, характером. Напоминает она и величественную оду XVIII в., а её отчасти неясный посыл полон мрачных пророчеств. Заглавие не соответствует содержанию, носящему революционный, а не военный оттенок; налицо глубокое разочарование Хлебникова расколом его страны на два идейно непримиримых лагеря.
С 1911 г. начинается то, что допустимо назвать расцветом хлебниковского примитивизма. Доисторический фон привлекает его и сейчас: в «Лесной деве» мы находим эдакий русский каменный век с нагими влюблёнными в дремучем лесу. Главные герои — часть природы: у них даже нет имён. Поэма начинается страстным свиданием, заканчивается поединком соперников и смертью одного из них. Тем не менее, это не лишает её неповторимой лёгкости и обаяния. Ближайшим подобием в живописи ей были бы картины Анри Руссо.
Каменный век «И и Э» менее абстрактен, Хлебников даже использует мифологические и антропологические детали в попытке достоверно изобразить религию и жречество, охотничьи и рыболовные навыки первобытного общества. В истории двух влюблённых, которые ищут смерти, но обретают счастье и славу, есть поэтическое обаяние редкой силы. Одновременно с нескольких точек зрения эту вещь можно расценить как один из ранних шедевров Хлебникова. Метрическая уравновешенность, тонкость сопряжения эпизодов, разнообразие примитивистской техники, необыкновенная свежесть и лёгкость слога делают поэму неоспоримым достижением автора.
Первая поэма Хлебникова, вышедшая отдельным изданием (1912), написана в соавторстве с Алексеем Кручёных. Эта гротескная картина карточной игры в аду, которой предаются черти и грешники, называется «Игра в аду» и берёт своё начало в пушкинской «Сцене из Фауста» (1825).
Возврат к трагедии, при сохранении примитивистского колорита, очевиден в другой поэме 1912 г. — «Гибель Атлантиды». Два главных действующих лица, Рабыня и Жрец, олицетворяют инстинкт и рационализм. После того как спровоцированный девушкой Жрец убивает её, наступает возмездие: поэма заканчивается эсхатологическим зрелищем потопа. Что-то от мрачной красоты пушкинского «Медного всадника» есть в трагико-фантастической атмосфере этого произведения, в преобладании классической канвы событий и, наконец, в описании наводнения. Стих более-менее стабилен, а композиция отличается редкой для хлебниковской поэзии простотой и завершённостью.
После «Гибели Атлантиды» в творчестве Хлебникова устанавливается мир и покой. В наиболее чистом виде эту идиллию воплощает поэма «Вила и леший». В этой русской версии «Послеполуденного отдыха фавна» Малларме очень мало действия, и бóльшая её часть состоит из рондо озорной и кокетливой славянской нимфы, поддразнивающей престарелого лентяя-лесовика. Подначки перемежаются описанием полдневного зноя. В отличие от предыдущей, эта поэма выглядит как черновик, лениво набросанный в жаркий — подобный описываемому — день.
Очередная идиллия, созданная в том же 1912 г. и озаглавленная «Шаман и Венера», имеет много общего с предыдущей. Здесь Венера, наскучив современным Хлебникову Западом, нисходит в пещеру бесстрастного сибирского знахаря, которого женские прелести гостьи ничуть не соблазняют. Это пародийно-героическая поэма ХХ в. с упором на абсурдный контраст, бессмыслицу и неуместность. Поэма полна логических противоречий, гротескных преувеличений, тавтологических конструкций и литературного пародирования.
Перекличка русского футуризма с XVIII в. отмечена рядом литературоведов, но исследований этого явления пока нет. Наиболее ранние поэмы Хлебникова созданы в рамках традиций “века Екатерины”: пародийно-богатырская поэма, “русская” поэма, высокая ода. В «Хаджи-Тархане» (1913), где Хлебников переносится мыслью в город своих предков Астрахань, он возродил ещё один жанр, которому в XIX в. не уделялось должного внимания: описательную поэму. Это череда пейзажей, исторических эпизодов и размышлений о былом, которые следуют один за другим в произвольном порядке. Воспеваются бескрайние просторы, стыкующие Россию с Индией, Древним Египтом и Ассирией. Эта величавая панорама в сочетании с какой-то золотой истомой, покрывающей всё и вся, как патина, делают поэму неповторимым произведением, едва ли не шедевром. Стихи движутся, как Волга, которая начинает и заканчивает поэму, незримо катя свои волны на всём её протяжении. Хлебников мастерски подбирает эпитеты, умеет уложить мысль в одну строку, играет цветом и освещением, а сила и точность некоторых его образов поражают.
“Столетнего вина” чуть меньше в «Сельской дружбе», написанной, вероятно, в 1913 году. Это романтическая поэма, сюжет которой отдаёт мистикой. Действие происходит в западной части России. Это фактически пародия на русскую байроническую поэму 1820-х и 1830-х гг., хотя рука об руку с ней идут отдельные элементы иконописи, которые мало сочетаются со сложно построенными сравнениями, тропами и вычурной рифмовкой.
Более короткая «Сельская очарованность», будучи к тому же идиллией, знаменует поворот к реализму как в изображении главных героев, так и в богатстве деталей быта, иной раз напоминающем полотна малых голландцев. Впервые Хлебников не перекраивает историю на романтический или мифологический лад, не фантазирует — налицо срез современности, лишённый, однако, социального подтекста. Таким, видимо, и должен быть мост от раннего “пассеизма” Хлебникова к его “повороту лицом к реальности” в годы революции и гражданской войны.
Время создания первых шести поэм Хлебникова, написанных после октябрьского переворота, можно назвать харьковским периодом (1919–20). Все шесть единообразны не только тематически или стилистически, но и географически. Хлебников продолжает писать в отработанной манере, но заметны попытки отказаться от усвоенных привычек, обновить стиль. Новацией оказывается обращение к традиции XIX в. — и в рифме, и в мелодике, и в образах, и в звуке. Алогичный примитивизм и персифляж уступают место лиризму и медитации, проблемы ставятся уже не только на эстетическом уровне. Однако летописью текущих событий поэму не назовёшь, реалии современности вводятся с некоторой опаской, да и старая манера всё ещё господствует.
«Ночь в окопе» (1919) — типичное произведение переломного периода: остатки прошлых наработок, растущий консерватизм, незначительные новшества и отправные пункты для разработки очередных тем. Это поэма о революции и гражданской войне 1917–1920 гг., причём злоба дня растворена во вневременности: “военными корреспондентами” оказываются скифские “каменные бабы”. Эпическая, до последней запятой выдуманная кавалерийская атака напоминает — по духу, если не по содержанию — «Слово о полку Игореве». Хотя симпатии поэта на стороне красных, изложение событий бесконечно далеко от клише советской поэзии о гражданской войне. Разница подхода ещё более очевидна в хлебниковском Ленине — многомерном, неортодоксальном и намного превосходящем выписанный Маяковским образ, не говоря о потугах менее крупных поэтов.
«Каменная баба» — младшая сестра предыдущей поэмы, лирическая вариация на ту же тему, незаслуженно обойдённая вниманием почитателей Хлебникова. То же поле битвы с древними статуями, только битвы нет, а поэт, последний живописец Земли неслыханного страха, оплакивает гибель тысяч в гражданской войне, как в поэме «Война-смерть» времён Первой мировой. Вторая часть поэмы, однако, представляет собой великолепный танец, “голубой гопак”, достигающий вселенских масштабов, сверкающий богатством цвета, размеров и рифм.
Важнейшая поэма этого периода, на мой взгляд, «Поэт». Здесь Хлебников предаётся любимый идиллии, достигая при этом синтеза примитивизма с выдвинувшимися на передний план элементами классики. Великолепные вступительные строки, весомые и лёгкие одновременно, живописуют осень, которая оказывается частью сложного сравнения с весенним (святочным) карнавалом. «Поэт» написан с подспудной небрежностью в использовании рифм и ритмических вариаций. Карнавал оказывается лишь задником для поэта, водяной нимфы (русалки) и Богоматери — трёх одиноких и печальных фигур на подмостках поэмы. Язычество, христианство и поэзия — явные изгои в постреволюционном мире толп и науки.
Отголоски кризиса и разочарования слышны в «Лесной тоске», последней мифологической поэме Хлебникова и последней его идиллии. Написанная в форме оперного либретто — звучаль в полном смысле слова — она под звуковым великолепием скрывает глубокую печаль, печаль самого поэта: ни одно из фантастических существ, населяющих поэму, и не думает грустить. Прощание Хлебникова с обжитым миром языческой мифологии завершается очевидной иронией: утренним рассветом. Утро как утро, и своей обыденностью оно гонит вон симпатичных вил, водяных нимф и леших.
С засильем славянской мифологии покончено, язычество теплится разве что в акварельных «Трёх сёстрах» Хлебникова, самой короткой его поэме. С портретов трёх его приятельниц глядят водяные нимфы и былинные воительницы, которые только притворяются современными девушками. Эту пантеистическую идиллию может счесть бегством поэта от мрачных реалий гражданской войны. Он здесь лирик с головы до пят, а небывалая в количественном отношении у Хлебникова религиозная образность своей усложнённостью контрастирует с простотой замысла и стиля.
Последняя и самая пространная из харьковских поэм «Ладомир» — амбициозная энциклопедия идей и чаяний автора о будущем человечества. Она считается „итогом поэзии” Хлебникова (Тынянов) и представляет собой несколько запоздалое, именно футуристское произведение поэта, чья любовь к прошлому до сих пор делала его противоречивой фигурой: мрачное пророчество «Журавль» — едва ли не единственное исключение. Если Хаджи-Тархан (Астрахань) была городом любимого прошлого, то Ладомир — городом будущего, где посредством прогресса науки и техники достигается всеобщая гармония, т.е. высшее, по мнению Хлебникова, счастье. Утопист, автор фантастических проектов, революционер, рационалист-идиллист, он выказывает здесь бесконечное разнообразие и глубину своих диковинных идей, давая поэтическое воплощение всему разнообразию своих мечтаний. Поэма кое-кому покажется собранием отрывков с хаотичной смесью прошлого и будущего, назойливых и чрезмерно длинных; но этому громозду придано весьма отчётливое направление движения. Налицо нечто вроде процессии, где каждый сам по себе, но шаг за шагом она продвигается в цели. Это провозвестие будущего, отождествляемого с социализмом, переслоено антирелигиозными пассажами и плакатными проклятьями царизму, что наверняка вызвало крики „браво!” советской критики. Гораздо любопытнее другое: выспренним языком оды XVIII в. излагаются идеи философа Николая Фёдорова (1828–1903) и математика Николая Лобачевского (1792–1856), и вдруг — игра именами собственными, диалектизмами, сленгом и — впрочем, в умеренных количествах — заумью. Во многом правы те, кому подумалось, что Хлебников проводит итоговый смотр прежним пристрастиям. Это действительно так: десять поэм, написанных после Харькова, знаменуют новый этап в творчестве Хлебникова.
Здесь царит злободневность. Более того, большинство поэм — показания очевидца. Былые фантазии уступают место пристальному вглядыванию в окружающее. Можно назвать это “реализмом”, но интенсивность такового заставляет вспомнить знаменитые слова Достоевского о том, что надо быть „реалистом в высшем смысле”. Примитивистская техника почти полностью заброшена; вместо литературного спора, игры или мечты, как это было прежде — объективный подход к действительности. Сам факт скитаний Хлебникова по Кавказу и Ирану в 1920–1921 гг. может отчасти объяснить эту перемену: здесь он был один как перст, а не сочлен литературных кругов Москвы и Петрограда.
Однако «Разин», первый набросок которого появился ещё в Харькове, свидетельствует: навык литературной игры изжить не так-то просто. Вероятно, это самый длинный в мире палиндром: каждая из 408 строк одинаково читается слева направо и справа налево. Хотя «Разин» среди поэм Хлебникова и стоит особняком, это лишь попытка довершить то, что с гораздо меньшим размахом предпринималось и прежде. «Разина» легко поместить в контекст русского футуризма, русского фольклора и даже — ныне в значительной степени игнорируемого — барокко. Но для Хлебникова это не только — и не столько — “встречно-возвратное плетение словес”. Налицо построчное сравнивание двух судеб: Степана Разина и его собственной — равновеликих, но движущихся в противоположных направлениях. Кроме того, это ещё и цикл великолепных картин, изображающих историю Разина. Несмотря на то, что структура палиндрома должна, по всей видимости, препятствовать естественному течению поэтических эмоций, некоторые части поэмы кипят страстями, а смысло-звуковая сторона по-настоящему груба и варварски живописна.
Одним из высших достижений Хлебникова является «Труба Гуль-муллы», поэтический дневник его пребывания в Персии (1921). Едва ли в русской поэзии найдётся что-либо подобное по непосредственности поэтического ви́дения. Окоём ширится на символическом и реалистическом уровнях одновременно, все детали повествования — увиденное впервые, широко открытыми глазами. Хлебников всю жизнь мечтал о Востоке, и вот он перед ним. Трубный глас оглашает поэму от её начала до конца, ибо мечта всей жизни автора исполнена. Его заметки полны особого лиризма, который оставляет очертания и краски окружающей действительности нетронутыми, но делает их более насыщенными, чем в “настоящей жизни”. Чистое наслаждение такого рода можно найти только в произведениях европейских поэтов, впервые посетивших Италию.
Следующие три поэмы иногда называют хлебниковским “триптихом возмездия” (тема, разрабатываемая Хлебниковым смолоду), и все они о русской революции 1917 г. По существу, это черновые наброски, две из них даже трудно разграничить: это версии одного и того же замысла. Следующий за харьковским период ознаменован высшими достижениями и провалами Хлебникова; эти три — из числа худших. Они полны откровенной пропаганды; ощутим холодок авторского равнодушия. Смысл революции для Хлебникова прост: родовая знать и толстосумы расплачиваются за свои грехи. Наиболее отчётлива эта тема в многословной «Ночи перед Советами». Содержание поэмы незамысловато: ночью пожилую дворянку (добрую, сострадательную и даже с левым политическим прошлым) запугивает её старая прислужница: тебя повесят. Далее ночная гостья рассказывает о своей бабке, кормящей грудью щенка по приказу барина. Эта часть невыносимо длинна, написана небрежно и полна дешёвой мелодрамы. Достойна внимания единственная подробность: ощутимо влияние поэта Н.А. Некрасова. Вторая поэма «Прачка» представляет собой нагромождение сырого материала, из коего следует, что автор не разделяет ортодоксальную точку зрения о движущих силах революции. По Хлебникову, таковая совершается люмпен-пролетариатом — и для него. Сочувственно изображён мир нищих и уголовников, которые греются в кучах конского навоза на городской свалке Петербурга. Противоположная сторона конфликта представлена в поэме «Настоящее» — наиболее законченной и удачной вещи триптиха. Свергнутая власть представлена трагической фигурой Великого князя, отчасти наивной, однако воистину благородной в своём стоическом принятии возмездия. Разительный контраст его монологу — последующая серия хоров. Эта часть поэмы богата интонациями и декламационными формами, предвосхитившими позднейшие попытки советских поэтов (фонетические опыты Ильи Сельвинского и песни в «Хорошо!» Маяковского, например).
Темой «Ночного обыска» по-прежнему остаётся революция как справедливая кара, но уровень исполнения далеко превосходит “триптих возмездия”. «Ночной обыск» — вершина творчества Хлебникова-трагика. Революционные матросы обыскивают квартиру “контры”, находят, допрашивают и расстреливают молодого офицера, который держится с завидным бесстрашием, после чего мать смельчака сжигает его убийц заживо. Ни один советский поэт не посмел бы написать такое, приди оно ему в голову: красный учится мужеству у белого, дабы вступить в ницшеанскую схватку с Богом, исход которой отнюдь не предрешён. В роли судьи Хлебников беспристрастен: тяжущиеся стороны друг друга стоят. Метафизические последствия такого приговора как бы сами собой напрашиваются: бытовая зарисовка (ахинея пьяного матроса) перерастает в мистическое видение гибели белых и красных в пламени анархии. Неожиданный для автора строго выверенных утопий эсхатологический финал, не так ли.
С другой стороны, «Берег невольников» — самая неудачная поэма Хлебникова. Эта пропагандистская мелодрама, где не чувствуется внутреннего убеждения, повествует о новобранцах Первой мировой. Их “забривают” совершенно в духе работорговли, а домой возвращают калеками.
Среди поздних поэм «Уструг Разина» высится подобно «Ладомиру» харьковского периода. Взяв трагическую ноту в произведениях на злобу дня, Хлебников здесь внезапно расслабляется в изжитом, казалось бы, примитивизме. Динамизм поэм о революции уступает место станкóвому портрету костюмированной персоны. Описание — вполне “классическое” по своей краткости и смысловой компактности — являет контраст “романтическим” порывам, рондо и “лирическим отступлениям” поэм типа «Ночной обыск». Рапсодической раскованности нет и в помине: цель — сделать “под старину” — оправдывает средства. Разумеется, изобразить буйство ватаги речных пиратов, которых завтра могут вздёрнуть, навыки позднего периода помогают; в наибольшей степени они проявляются в двух пассажах, где голод 1921 года проецируется на времена Разина. Поэма следует сюжету популярной песни «Из-за острова на стрежень» (основой заимствования исследователи полагают произведения А.К. Толстого и ряд исторических песен о Разине); более того, четырёхстопный хорей этой песни доминирует и здесь. Звуковая инструментовка поэмы изобилует интереснейшими аллитерационными эффектами.
Следующие поэмы Хлебникова занимают особое место среди поздних его произведений. Обе знаменуют период, оборванный смертью поэта спустя полгода. Оригинальность их состоит главным образом в особенностях использования свободного стиха, которые мы проанализируем позже. Поэмы написаны в Москве зимой-весной 1922 г. «Переворот во Владивостоке» повествует о японской оккупации Приморья со слов друга Хлебникова, поэта Асеева, находившегося там в 1918–1919 гг. Энтузиазм Хлебникова в отношении Востока на Японию никогда не распространялся. На этот раз поэт с явным увлечением живописует воплощённое в фигуре японского воина иноземное зло, расточая при этом едва ли не самые сложные из когда-либо созданных им образов.
«Синие оковы» — самая длинная и местами самая непонятная поэма Хлебникова. Сведения о Дальнем Востоке налицо и здесь, но в основном поэт описывает или только намекает на мелкие подробности его визитов на дачу сестёр Синяковых близ Харькова (три из них — героини поэмы «Три сестры»). Хлебниковская теория повторяемости исторических событий плотно вплетена в канву повествования. В целом это разовый, но развёрнутый синтез пристрастий Хлебникова. Жизненные установки, мечты, прозрения и искусство здесь сливаются воедино; поэма движется, как речной поток, от ассоциации к ассоциации, едва не на каждой меняя русло. Она удивительно оптимистична и полна здорового — хотя и не обязательно тонкого — юмора. В былых стилизациях под архаику, теоретических или трагических произведениях Хлебникова посыл жизнеутверждения никогда не был столь определённо выражен — и удивляешься, обнаружив безоговорочную умиротворённость в больном человеке, после долгих лет лишений вернувшемуся в Москву, где его ждало разочарование и страшная смерть.
В двери, распахнутые Хлебниковым напоследок, никто не вошёл. Русские поэты (Н. Тихонов, Заболоцкий) только-только примерили на себя его ранний примитивизм, а уже социалистический реализм всей тяжестью навалился на русскую литературу, остановив её свободное развитие. Освоение поздних достижений Хлебникова — задача далёкого будущего. Даже и таким вот образом Хлебников отказывается стать прошлым русской поэзии.
Внимательный читатель поэм Хлебникова чувствует себя первооткрывателем. Он входит в новый, удивительный мир не только поэзии, но и множества идей. Остановимся на двух из возможных выводов. Во-первых, Хлебников не только — и не в первую очередь — бунтарь и новатор. Он человек уникального поэтического ви́дения и создатель поэтической вселенной, ключ от которой следует искать в его поэмах. Именно здесь его поэтическая энергия самым естественным образом находит себе выход, тогда как более известные (или печально известные) экспериментальные наброски — всего лишь лаборатория. Она может быть увлекательна для учёных, особенно лингвистов, и поэтов — далеко не всех, — но остаётся поиском, а не свершением. Вероятно, точно так же знаток Брюсова предпочтёт «Urbi et Orbi» «Опытам». Причина того, что Хлебников в течение многих лет не получает должного признания, проста: в центре внимания оказалась не та часть его творчества. Автора трагедии «Ночной обыск» слишком уверенно объявили инженером от поэзии, а филигранное «И и Э» сочли невнятицей чудака, если не безумца. Я не хочу сказать, что эксперименты Хлебникова не представляют интереса — просто входить в эту реку следует с другого берега.
То, что во весь рост предстаёт в творчестве Хлебникова и делает его великим поэтом — не словоновшества, не интуиция, не прозрения. Именно в поэмах эксперимент сведён к минимуму, а действительно внятное разъяснение его национальных, исторических, математических и лингвистических идей лучше искать в другом разделе собрания сочинений. Оказывается, полный совершенства и безмятежности мир принадлежит прошлому или будущему. Хлебников был певцом идиллии, жившим в трагическое время. Он не пытался избежать этой трагедии, в его произведениях она переслаивает идиллию, но гармоничное бытие он считал более естественным и, безусловно, более желанным для человечества. Это делает Хлебникова куда бóльшим футуристом, чем всех его коллеги.
Второй вывод, который сам напрашивается при знакомстве с поэмами Хлебникова, таков: занимаясь основными проблемами русской поэзии, можно серьёзно ошибиться в оценке ряда её важнейших отраслей, лишив Хлебникова кредита доверия. Манкируя Хлебниковым, изучать современную русскую эпическую традицию или эволюцию основных размеров и рифм в XVIII–XX вв. — то же самое, что на карте русской литературы намалевать белое пятно в наиболее значимой области. Ниже мы попытаемся показать, почему это именно так.
Эпическая суть Хлебникова отмечена многими проницательными критиками и литературоведами. Н. Гумилев ещё в 1914 г. писал: „Многие его строки кажутся обрывками какого-то большого, никогда не написанного эпоса”. Тынянов назвал его „единственный наш поэт-эпик XX века”. Роман Якобсон сказал: „Велимир Хлебников дал нам новый эпос, первые подлинно-эпические творения после многих десятилетий безвременья. ‹...› Хлебников эпичен вопреки нашему антиэпическому времени”. Сэр Морис Боура говорил о „обломках эпоса Хлебникова”.
Те, кто пытался анализировать эту особенность, обычно упоминали две черты. Одну из них часто называли “безличностью” или “объективностью”. Д.С. Мирский писал:
Другое слово, которое часто всплывает в суждениях о Хлебникове, — “мозаика”. Советский ученый А. Метченко подметил “мозаичность” даже крупных произведений Хлебникова. Друг Хлебникова, поэт Д. Петровский, говорил о „мозаике его биографии”. Роман Якобсон заметил: „Даже его небольшие стихотворения производят впечатление эпических обрывков, и Хлебников без всякого труда соединял их в поэму”. Очевидно, имея в виду это, Владимир Маяковский даже парадоксально провозгласил: „У Хлебникова нет поэм”. Сам Маяковский при любых обстоятельствах оставался лирическим поэтом, даже в своих попытках создать эпос, и поэтому отказывался считать стихотворными лишённые психологического единства произведения. Но у Хлебникова была врожденная склонность к поэзии крупного формата; именно поэтому он мог воспринимать стихотворение только фрагментом чего-то большего. Во время своего более тесного сближения с футуристическим движением у него могло возникнуть желание разрушить традиционные формы, но на самом деле его высшим идеалом пребывала сверхгармония: разнородные элементы должны слиться в единое целое на более высоком уровне — таком, например, как сверповесть. Непременным же условием лирики является единство чувства или настроения.
Практически то же самое обычно имеют в виду, когда говорят о хлебниковском методе “нанизывания”, столь характерном для многих его поэм. По всей вероятности, впервые этот приём опробован в «Игре в аду», где и выкристаллизовался. “Нанизывание” — подстыковка строк и фрагментов текста друг к другу — особенно заметно в «Хаджи-Тархане». Сочинительные союзы кажутся случайными, заменяемыми любыми другими. Например, в строке Но звук печально горловой союз но не имеет отношения к сказанному выше, а лишь соединяет. Таким образом, поэма течёт, как упоминаемая в ней Волга, не имея структуры, а одно только направление. Это качество заставило Осипа Мандельштама дойти до явного преувеличения, заявив о Хлебникове: „Каждая его строчка — начало новой поэмы”. В том же контексте и замечание итальянского исследователя А.М. Рипеллино: „Tuttie i poemi di Chlebnikov si vanno construendo con una sorte di fatalità vegetale” („Все поэмы Хлебникова превосходнейшим образом и неизбежно самовоспроизводятся, как трава”). Наиболее показательные примеры “нанизывания” даёт поэма «Ладомир». Элементы этого поистине эпического приёма налицо в произведениях некоторых русских прозаиков XIX в., у Н. Лескова, например. Они очевидны и в «Мёртвых душах» Гоголя, и в «Войне и мире» Льва Толстого.
В новейших исследованиях (А.Н. Соколов. Очерки по истории русской поэмы XVIII и первой половины XIX в. М. 1955) делается попытка в качестве основного посыла поэмы постулировать восхваление персонажа или события. В более глубоком, поэтическом смысле это сформулировано Райнером Марией Рильке как необходимое условие всякой поэзии: „O sage, Dichter, was du tust? — Ich ruhme” („О скажи, поэт, чем ты занимаешься? — Я хвастаю”). Однако при такой постановке вопроса за скобки эпической традиции придётся вынести не только Хлебникова, но и пародийно-богатырскую поэму, роман в стихах, повесть в стихах, дидактическую поэму и басню.
Для Хлебникова определяющим признаком поэмы был крупный формат (хотя в английском языке слово протяжённость больше подходит к поэзии, формат — более широкое понятие). Формат мало кто считает важным эстетическим фактором, на самом же деле он является решающим. Габариты, например, без лишних слов объясняют разницу между статуэткой и монументом. Никакие чудеса типографской репродукции не воссоздадут «Явление Христа народу» Александра Иванова, ибо невозможно воспроизвести размер подлинника. Некоторые исследователи уже признали, что в русской прозе разница между романом и повестью часто сводится к простому листажу. Лирические жанры, как правило, меньше по размеру, чем эпические.
XVIII в. был в России веком поэзии крупного формата. Даже ода, лирический жанр, имела такие размеры, которые позже сочли бы принадлежащими эпической поэме (здесь, кстати говоря, скрыты предпосылки лирической поэмы, которая разовьётся позже). Но средних размеров ода XVIII в. никогда не была длиннее средней эпической поэмы. В XIX в. мы наблюдаем как уменьшение размеров поэмы, так и тенденцию к отмиранию этого жанра. Даже в лирическом плане крупному формату был нанесен смертельный удар Ф. Тютчевым, разбившим оду на фрагменты. В области же истинного эпоса достаточно сравнить объём «Руслана и Людмилы» (1820) Пушкина с «Медным всадником» (1833), или многочисленные поэмы, написанные Лермонтовым в юности, с теми, что созданы в годы его поэтической зрелости. Несмотря на ряд второсортных стилизаций, удачная поэма во второй половине XIX в. стала редкостью из ряда вон. Отнюдь не случайно «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова в окружающем пейзаже высится Вавилонской башней, незаконченным гигантским сооружением, несмотря на истинный эпический гений автора. Парадоксально, но другой поэт эпической складки, Алексей Константинович Толстой, проявил свои наклонности главным образом в сравнительно коротких балладах. Отметим, что в эпоху усиления эпической традиции лирическая баллада Жуковского маскировалась под эпопею, а свои поэмы А.К. Толстого драпировал в баллады. Эпоха символизма фактически упразднила поэму, хотя многие символисты пробовали себя в этом жанре. Но очень скоро поиски нового вида поэзии крупного формата возобновились. Александр Блок прибегает к нему как в «Возмездии» (1910–1921), так и в «Двенадцати» (1918), где успешно сливает “мозаичную” структуру с предметностью трагедии как таковой (классическое единство, минимум персонажей и даже, если хотите, deus ex machina в финале), не утрачивая при этом лирического размаха. Ещё одна удачная — в смысле стилизации — попытка предпринята Андреем Белым в его «Первой встрече» (1921). Показательно, что в обоих случаях написание поэмы относится к периоду творческой зрелости автора, причём именно в то время, когда вновь стала ощущаться потребность в поэзии крупного формата.
В удовлетворении таковой Хлебников предстаёт фигурой уникальной. Совершенно не замеченные большинством его современников и в значительной мере недооцененные его друзьями, последователями и даже им самим, три дюжины его поэм фактически составляют костяк этой важной отрасли русской поэзии того времени. Только принимая их во внимание, можно понять расцвет поэмы в 1920-е годы, который показал, что поэтический ренессанс в России начался лирически, а закончился эпически. Едва ли не каждый значительный крупный поэт пытался (чаще всего безуспешно) освоить крупный формат. Примечательно, что эти попытки датируются в большинстве случаев тоже более поздним периодом творчества. Достаточно вспомнить В. Маяковского, С. Есенина, Н. Тихонова, И. Сельвинского, Э. Багрицкого, Н. Клюева, Н. Заболоцкого, С. Кирсанова, Н. Асеева. Даже у лирических по „строчечной сути” Б. Пастернака и О. Мандельштама проявилась подобная тенденция.
Поэмы Хлебникова — эпицентр возрождения поэзии крупного формата в ХХ в. — обнаруживают черты родства с русской поэзией как XVIII-го, так и XX вв. Здесь не место для подробного анализа совпадений, в противном случае следовало бы проработать многие детали, в том числе цветовую инструментовку «Хаджи-Тархана» и «Поэта». В своём очерке о Тютчеве (Л.: Урания. 1928) Л. Пумпянский развивает любопытную мысль о русской традиции колористики, начатой Державиным и, через Тютчева и Фета, унаследованной Вячеславом Ивановым. А Вячеслав Иванов, заметим, оказал мощное влияние на молодого Хлебникова. Можно также добавить, что Хлебников продемонстрировал безошибочное чувство традиции XIX в., ответив на „поставленный напрямик” вопрос Романа Якобсона, каких русских поэтов он любит. „Хлебников отвечал: Грибоедова и Алексея Толстого”.
Зачатки примитивизма у Хлебникова можно найти в балладах «Любовник Юноны» и «Алчак», подражающих бесхитростным народным песням. «Царская невеста» — вероятно, самая ранняя из его поэм с обилием проявлений этого тренда; однако все они укладываются в понятие “инфантилизм”. Немотивированные переходы от одной картины к другой, эллиптические предложения, полные грамматических и стилистических ляпов, смысловая несуразица и метрическая чехарда, нарушение стандартов правописания — всё это не позволяет отделаться от впечатления: перед нами книга для взрослых, написанной ребёнком, которой одно излагает вполне ясно, а в другом безнадёжно путается. Интересно отметить, что когда рукопись «Царской невесты» была включена в план «Садка судей II», Хлебников настойчиво просил её не публиковать, предлагая напечатать стихи малороссиянки 13 лет, на что издатель, в конце концов, согласился. В данном случае Хлебников мог отстаивать приоритет подлинного инфантилизма над искусственным. Интерес к инфантильной поэзии он не утратил и в дальнейшем, а в последние годы практиковал и развивал (ср.: «Море»: Судну ва-ва, море бяка,/ Море сделало бо-бо).
Расцвет примитивизма в поэзии Хлебникова начинается с “каменного века” — поэм «Лесная дева» и «И и Э» (обе 1911). Их появление вполне отвечает настроениям общества, зачарованного полотнами Н. Рериха и оперой «Весна священная» (1913) Игоря Стравинского. В том же 1911 г. вышел русский перевод романа Жозефа Анри Рони-старшего «Человек каменного века». Вероятно, этот общий подъём интереса к архаике и помог Н. Гумилёву по достоинству оценить «И и Э». Он писал в «Аполлоне», что Хлебников „любит и умеет говорить о давно прошедших временах, пользоваться их образами”. Далее, цитируя монолог героя о схватке со зверем, критик заметил: „и в ритмах, и в путанице синтаксиса так и видишь испуганного дикаря, слышишь его взволнованные речи…”.
Своих примитивистских целей Хлебников достигает самыми разными путями. Детали повествования в «Лесной деве» полны наивности, иной раз в духе парижского таможенника Анри Руссо. Битва соперников столь яростна, что от вывернутых с корнем пней в ямах вся поверхность почвы. Но героиня спит здоровым сном после утомительного рандеву. Победитель же
Вполне естественно, что всякий раз, когда действие разнообразят идеологические моменты — как, например, в «И и Э» и «Гибели Атлантиды», — таковые неубедительны, расплывчаты или запутаны. И и Э готовы отдать свои жизни, но читатель так и не узнаёт, за что именно. Ещё больше сбивает с толку включение в эту доисторическую поэму отголосков христианства. Жреца и Рабыню во второй поэме мы точно так же воспринимаем с толикой недоумения: у каждого из них своя “идеология”, но она не до конца ясна и отнюдь не является посылом поэмы.
Некоторые приёмы лубка применены сознательно, например, протекающая раскраска в И персей белизна струится до ступеней. Кручёных, соавтор Хлебникова по «Игре в аду», назвал её “подражанием лубку”, а первое издание поэмы проиллюстрировал Михаил Ларионов, который в то время исповедовал примитивизм.
Из арсенала примитивизма и хлебниковское упреждение события, и нагнетание цвета. Событие часто предсказывается до того, как оно произойдёт, и обычно в этом нет необходимости. Это простирается от общепринятого словоупотребления, вроде Сейчас вкруг спящей начнётся сеча или Предтечею утех дрожит цевница до неожиданного С ней вдвоём ‹...› / Сидел певец — чрез час уж труп. Нагнетание цвета достигается усиленным повторением. Например, в начальных шестнадцати строках «Царской невесты» прилагательные белый и нежный вместе со словами, обозначающими то же качество, перетекают из строки в строку. Гласные и согласные здесь также следуют этому методу нагнетания путём простого повторения. То же самое можно наблюдать в зачине «Внучки Малуши», где прилагательные с оттенками веселья и радости сбиты в несколько строк. Все эти приёмы усиливаются особыми ритмическими “сдвигами”, которые в данном случае могут умышленно создавать впечатления беспомощного версификаторства.
Преобладающий жанр хлебниковского примитивизма — идиллия. В «Виле и лешем», «Шамане и Венере» и «Лесной тоске» это чисто мифологическая идиллия; в «Сельской очарованнности» и «Трёх сестрах» она включает элементы реальности. Однако после революции Хлебников утвердился в трагическом восприятии мира, идиллия практически сошла на нет.
Идиллическому примитивизму Хлебникова подражал и развил это направление советский поэт Николай Заболоцкий (1903–1958), особенно в «Торжестве земледелия»; но история русского примитивизма отнюдь не сводится к его хлебниковской разновидности. Примитивистами были поэты-эмигранты Юрий Одарченко (р. 1890) и отчасти Виктор Мамченко (р. 1901). Элементы лубка можно выявить в «Левше» Н. Лескова и некоторых его рассказах. Русская идиллическая традиция Гнедича–Дельвига–А. Майкова примитивизму чужда, но таковая налицо в «Гансе Кюхельгартене» Н. Гоголя, который до сих пор незаслуженно игнорируется. Тщательный анализ позволил обнаружить здесь подлинный примитивизм, соседствующий с условным романтизмом. Не только отдельные строки, но и целые пассажи с их нелепой образностью, смысловыми оксюморонами и “неправильной” просодией кажутся принадлежащими Хлебникову или Заболоцкому. О преемственности в данном случае не может быть и речи, что позволяет сделать вывод о “вневременности” примитивистских приёмов. Интересно было бы поискать их в творчестве зрелого Гоголя. Во всяком случае, значение «Ганса Кюхельгартена» возрастает, если рассматривать его с позиций примитивизма, и “обнаруженное в нём отсутствие литературного мастерства” оборачивается сознательным использованием литературного приёма.
Современник Хлебникова Д. Варравин подметил в 1916 («Московские мастера») две выдающиеся особенности его метрики: сочетание бинарных и троичных размеров в одном произведении (часто даже в строфе) и привычку ставить два ударения подряд (т.е. пользоваться спондеями). Оба наблюдения верны, но метрика Хлебникова обширнее, чем подметил критик. Более того, ни то, ни другое не является новинкой в русском стихосложении. Первое изредка практиковал Тютчев, а спондеи в русской поэзии XVIII в. встречаются в изобилии.
Хлебников — более крупный и последовательный “миксер”, чем едва ли не все его предшественники; возможными соперниками оказываются только Державин и Тредиаковский (включая смешивание в других областях, уже не метрических). Что касается метрики хлебниковских поэм, она базируется на сочетание пяти основных русских размеров. Однако троичные метры позволительно считать одним кластером: они менее различимы на слух при использовании в смеси, нежели двоичные. Это приводит к столкновению или взаимодействию не всех пяти метров, а только трёх: ямба, хорея и “троичного кластера”, в котором обычно доминирует амфибрахий — вероятно, в силу его промежуточной природы. С меньшей уверенностью можно было бы даже утверждать тождество ямба и хорея, что и доказано Тредиаковским, но в русской поэзии, за очень редким исключением — вроде некоторых частушек — трудно было бы подобрать соответствие этому. Факт остается фактом: обычно ямб и хорей для русского уха сочетаются плохо. С другой стороны, в английской просодии это общепринятая процедура, так называемое “усекновение главы”. В целом у Хлебникова отчётливо выделяются три указанные выше метрические группы, и считать их сознательное смешение типом акцентного стиха, подобного дольникам или стиху Маяковского, было бы неправильно.
Известно немало попыток дать метрике Хлебникова определение. Поэт Н. Асеев писал: „Хлебников почти в каждой строке меняет метр”, это явное преувеличение. Критик Д. Тальников упомянул о хлебниковской „ориентации на метрический стих с постоянными сдвигами”, это неплохая формулировка. Юрий Тынянов писал о „вариативной системе хлебниковского стиха”, которую позже повторил ведущий хлебниковед России Н. Харджиев. Покойный Б. Томашевский, отказываясь от метрической терминологии, называл это явление «кусковой композицией», добавляя, что она „свободно сочетает строки, удовлетворяющие разным метрическим нормам, но соединяет их так, что метрическая норма каждой строки равно легко различима”. С последней частью этого утверждения вряд ли можно согласиться, учитывая, чтò происходит в этой смеси с троичными метрами. Однако в этой проблеме больше единства, чем кажется на первый взгляд, особенно если рассматривать тождество ямба и хорея по крайней мере как возможность. Ссылаясь на Хлебникова, советский критик Иннокентий Оксёнов пытался ввести термин „всеметрический ритм”. В том же контексте критик-эмигрант Л. Гомолицкий употребил термин “синтетический метр”. Однако с гораздо большей определённостью этот метр можно назвать “вариационным ямбом”, ибо такой термин предполагает, что в этой структуре ямб не только доминирует, но и ассимилирует инородные элементы.
Если сравнить стих “метрических” поэм Хлебникова (т.е. исключить верлибры), нельзя не заметить, что подавляющее большинство их написано одним преобладающим размером, классическим русским четырёхстопным ямбом, который почти всегда начинает и заканчивает поэму, устанавливая, тем самым, “тональность” и оснащая произведение кодой. В этом значение поэм Хлебникова. С одной стороны, они показывают разрушение традиционного стиха, шаг к свободному стиху; с другой — являются развитием основного на протяжении двухсот лет метра русской поэзии. Хлебников обладал удивительной способностью оставаться важным звеном традиции даже тогда, когда был новатором.
Всё это не исчерпывает метрики хлебниковского стихосложения. То, что происходит внутри его строки, в большинстве случаев уникально или чрезвычайно редко употребляемо. Назовём это ритмическим сдвигом; наиболее важные разновидности его таковы:
1) переносное ударение, или синкопа, которая обычно допускается в первой стопе русского ямба только в том случае, если таковая начинается с односложного слова (как в пушкинском „Бой барабанный, вой и скрежет”). Робкие попытки начать такие строки с двусложного слова в русской поэзии XIX и даже XX в. если можно найти, то с большим трудом. Хлебников использует его постоянно, и такие вот ямбические строки заурядны в его практике:
2) подстановка, или тройная стопа в бинарной строке:
Метрика и ритм Хлебникова образуют сложную картину. Ни одна из трёх десятков его поэм не повторяет метрических узоров предшественниц, от начала и до конца оставаясь завораживающим зрелищем самореализации ритма. Попытки отказаться от прежней системы “вариационного ямба” особенно заметны в харьковский период. Тогда Хлебников в некоторых поэмах приблизился к традиционному стиху (вплоть до соблюдения строгой цезуры не только в александрийских строках, но и в пятистопных ямбах) и отказался от любого рода “сдвигов”, в других место ямба заступают хорей и амфибрахий, в третьих налицо возврат к “вариационному ямбу”.
Поздние поэмы, за небольшим исключением, написаны верлибром, величайшим и разносторонним практиком которого Хлебников оказался. Без Хлебникова изучать русский верлибр просто невозможно. Первыми образцами свободного стиха на русской почве были переводы («Нордзее» Г. Гейне, например), и эти переводы породили юмористическую поэзию (см. письмо Тургенева к А. Фету). Таким образом, фактическое введение верлибра в русскую поэзию под влиянием французских символистов — заслуга В. Брюсова. Вслед ему верлибр опробовали и другие столпы русского поэтического ренессанса ХХ в. Пожалуй, самый разительный пример — «Она пришла с мороза» А. Блока (1908). «Александрийские песни» М. Кузмина, появившиеся в 1906-м, полностью написаны верлибром. Блок, Ахматова и Кузмин — более никого из верлибристов не упоминает профессор Б. Унбегаун («Русское стихосложение»), который к тому же счёл верлибр частным случаем нерифмованного стиха, почти метрическим уродством, — может быть, и не стихом даже, а ритмической прозой. Гумилёв («Мои читатели») и Мандельштам («Нашедший подкову») блистают в этом труде своим отсутствием, Хлебников тем паче. А ведь он-то как раз и доказывает своими поэмами, что поэзия вполне обходится без рифмы.
Итак, главная черта поэм Хлебникова — преобладание какого-либо классического размера — четырёхстопного ямба, как правило — в метрически неоднородной среде. Это костяк, на прочих нововведениях, какими бы новаторскими те ни были, внимания заострять не обязательно. С другой стороны, элементы свободного стиха выявлены в ранних поэмах («Журавль»). Подходы к верлибру весьма заметны и в ряде харьковских поэм, особенно в использовании необычных видов цезуры («Ночь в окопе») и в комбинациях двух- и трёхсложного размера в одной строке («Поэт», «Каменная баба»).
Под занавес жизни Хлебников отказался от прежней манеры совершенно, и строил свой стих на строке как единстве, что в верлибре самое главное. Свободный стих, основанный на произвольном сочетании всевозможных размеров, преобладает в «Трубе Гуль-муллы». В более ранних произведениях тот же приём приводил к “сдвигам”: контрастирующие размеры обнаруживали свой антагонизм и сталкивались друг с другом в устойчивом, “идеальном” метрическом каркасе четырёхстопного ямба. Отныне изменение метрического рисунка происходит почти в каждой строке, но вся идея метра теряет смысл, ибо нет метрического преобладания. Строки свободно следуют ритму предложений, но верлибр, как правило, стилизован. Иногда это некий дактильный ритм, производящий впечатление русского дактильного гекзаметра с его эпическими коннотациями. В поэмах “триптиха возмездия” и в «Ночном обыске» имитируются различные виды раёшника в сочетании с определёнными типами обиходного языка — ораторским или разговорным.
Значительный объём (почти десять поэм) и разнообразие (четыре типа свободного стиха, по меньшей мере) должны сделать Хлебникова центральной фигурой в любом исследовании русского свободного стиха. В этом отношении он гораздо важнее М. Кузьмина, которого обычно ставят первым. Спору нет, начатки свободного стиха Хлебникова восходят к Кузмину, его признанному мастеру. Первая попытка такого рода (1909) не только подражает Кузмину, но к нему и обращена («К Вам»). Не избежал Хлебников и влияния Уолта Уитмена, часто и не без оснований упоминаемого в связи с ранним произведением Хлебникова «Зверинец». Хлебников наверняка знал Уитмена в русском переводе К. Чуковского (1907), и пантеистический настрой американского поэта не мог его не привлечь. В 1921 году, на закате жизни, Хлебников „очень любил слушать Уитмана по-английски, хотя и не вполне понимал английский язык” (из воспоминаний).
Именно в двух последних своих поэмах Хлебников достигает предельной свободы владения верлибром. Это не вкрапления и не стилизация, как прежде. Теперь стих просто движется, меняя темп по мере надобности поэта. Любой метр может появиться и даже задержаться на какое-то время — как в чистом виде, так и наполненный “сдвигами”, — но, в конечном счёте, всё это сливается воедино в мощный поток. Тематический анализ вскрывает фрагменты, отдельные картины и эпизоды, но уже как части развития целого; больше нет никакой “натяжки”. Анализ отдельных строк показывает, что и здесь доминирует ямб, но в этом типе “сверхстиха” такие строки не имеют большого значения и не ассоциируются ни с какими ямбическими формами. Возможно, здесь решающее значение приобретают единицы крупнее строки, но средств для их акцентирования, по-видимому, нет. Во всяком случае, преобладание ямба можно счесть естественной наклонностью к наиболее гибкому из русских размеров. Важно, однако, что это как небо и земля отличается от господствующего ямба ранних поэм. Там классический ямб распирало изнутри всевозможными “сдвигами”, стих звучал то традиционно, “красиво”, то впадал в невнятицу. В последней поэме, если анализировать строку с прежней точки зрения, даже “сдвиги” столь же звучны, как и чисто метрические строки, неожиданная лёгкость обнаруживается и в них. Всё находится в движении, и даже если какой-то ритмический рисунок устанавливается на относительно продолжительное время, создаётся впечатление, что в любую минуту может произойти что угодно, что стих полон скрытых возможностей, каждая из которых может реализоваться прямо сейчас. Это, наверное, самый “свободный” свободный стих в мировой поэзии. Никто в России не пытался подражать ему. Разработать его мог только Хлебников. Это уникальное достижение, которое трудно анализировать и ещё труднее подкрепить примерами, так как анализ отдельных строк ничего конкретного не даёт. Определение “синтетический метр” здесь более уместно, чем для предыдущих периодов, ибо достигается единство: метры теряют свои индивидуальные характеристики, не переставая наличествовать.
В своей рифмовке Хлебников свёл воедино две важные тенденции развития современной русской рифмы. Прежде всего, это стремление к максимальной консонансной идентичности. Идентичность т.н. “опорной согласной”, т.е. согласной, непосредственно предшествующей ударной гласной, становится строгим правилом, в результате получается “богатая” рифма. Вот примеры из «Царской невесты»:
Вторую важную особенность своей рифмовки Хлебников разделяет с русскими поэтами второй половины XIX в. В это время „безударные гласные перестали ощущаться как разные” (Томашевский). Это изменение обычно связывают с именем Алексея К. Толстого — не потому, что он ввёл новый тип рифмы или практиковал исключительно его: это был самым последовательный сторонник “неточной” рифмы. Главной особенностью — назовём её “толстовской” — рифмы является игнорирование гласных, следующих за ударной гласной. Частью движения в этом направлении оказываются различные виды усечённой рифмы. Известно, что этой рифмой интересовались русские символисты, в частности, А. Блок. Именно поэтому многие его рифмы производят впечатление неопределённости — если не принадлежностью к иному миру, столь созвучному его темам. У Хлебникова и перенасыщенность, и незавершённость предполагают примитивизм, в котором яркие лубочные краски сочетаются с нарочитой “топорностью” исполнения. Вот несколько “неточных” рифм из той же «Царской невесты»:
Эти основные тенденции сочетаются или расходятся в поздних поэмах Хлебникова, каждая из которых имеет свою, индивидуальную систему созвучий. Появляются и другие виды рифмовки: разносложная, гетеротоническая и пр. Интересно отметить, что сложносочинённая рифма Маяковского практиковалась Хлебниковым ещё в 1909 г., в той же «Внучке Малуши»:
Однако общей тенденцией в послереволюционной поэзии было предельно свободное обращение с рифмой. В «Поэте», например, создаётся впечатление, что Хлебникову плевать на рифму. Он рифмует наугад, беря всё, что приходит ему в голову под влиянием момента. То он вообще не рифмует, то использует тройную рифму или даже то, что можно назвать “двух-с-половинной”:
В этом контексте следует также отметить индивидуальные нарастания, направленные на максимальную звуковую идентичность и распространяющие идею рифмы на “оркестровку” всей строки. Таковы, в частности, «Лесная тоска» и «Уструг Разина». В первой настоящий парад “корневых аллитераций”, тавтологических структур, омонимических рифм, внутреннего склонения, а иногда рифма занимает всю строку, как в
Цель данной статьи ограничена: во-первых, показать, где следует искать ключ к творчеству Хлебникова, во-вторых — попытаться раскрыть значение корпуса его поэм в современной русской эпической традиции, а также в истории русского примитивизма и развитии русского ритма и рифмы.
Говорить об отдельных особенностях этих поэм и анализировать поэтический “почерк” Хлебникова можно бесконечно. В его смешении стилей и наслаивании образов бездна оригинального. Особый интерес представляет употребление Хлебниковым смысловых “сдвигов”, что делает его непревзойдённым мастером “не того слова” и, вероятно, величайшим представителем поэзии, которая строится из не лучших слов и не в лучшем их порядке. Заслуживают внимания и многочисленные примеры “литературного эха” в его творчестве. Однако всё это — предмет другой статьи.
| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||