Владимир Фёдорович Марков
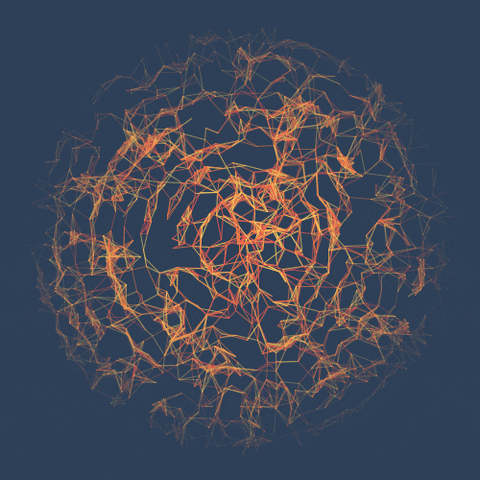
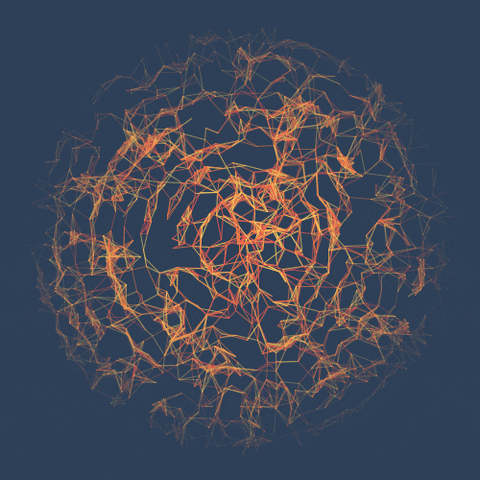
Why brook’st thou, ignorant horse, subjection?
John Donn
Поле деятельности для “оценочного” творчества необъятное. Ведь наши оценки очень многих русских поэтов, например, до сих пор строятся на шаблонах, да ещё введённых каким-нибудь “деятелем” XIX века, ничего в литературе не смыслившим. Однако, новые оценки не должны ограничиваться одной эстетической стороной. Если реалисты в своё время чуть не выбросили искусство за борт, то формалисты (в широком смысле) удобно занялись эстетическим фактом, позабыв о существовании творческой личности. Принимая же во внимание оба фактора, нельзя не перейти от “хорошо-плохо” в эстетическом плане к “хорошо-плохо” иного порядка — нравственного. Наше время не напрасно имеет этическую окраску и направленность. Априорные возражения могут быть умилительны в своей логике, обвинение в дихотомии тоже легко сделать. Однако, старая методология вряд ли одолеет новую жизненную потребность. Зато задача — объединить, в оценке, творца и произведение, создать предпосылки этико-эстетического подхода к искусству — увлекает своими перспективами, какой бы невозможной или чреватой эклектизмом она ни казалась.
Как творчество, так и личности Есенина и Маяковского очень интересно сравнивать. Тщательный анализ, отбрасывая мякину партийности, поклонения и чистого недоразумения, может привести к неожиданным выводам. Сходства у этих двух вершин плебейской1![]()
Недостаток места не позволяет сейчас предпринять такой анализ во всей широте, но остаётся возможность ограниченного подхода. Человеческий план сложен. Он может, к тому же, увести нас в болота политики, пустыни социологии и пустыри биографии и психологии. Поэтому, чтобы всё-таки остаться в поставленных нами этико-эстетических рамках, мы разберём отношение обоих поэтов к животным. Такое сравнение будет и удобным и справедливым,2![]()
В стихах и поэмах Есенина животные часто встречаются. Иногда это отдельная краска, реалистическая деталь — как собачонка, лающая на возвратившегося в родную деревню поэта. Иногда это символ, почти аллегория, как знаменитый „красногривый жеребёнок” из «Сорокоуста», бегущий за поездом.
Животные у Есенина не столько “крестьянский фон”, сколько важный элемент общего течения есенинского лиризма. Настроение безысходности и той особенной, “есенинской”, грусти, которая окрашивает его стихи, как нельзя лучше воплощается в образах животных — молчаливо страдающих, беззащитных:
Пожалуй, любимое животное есенинской музы — собака. Все помнят три его популярнейших стихотворения — Сукин сын, «Собаке Качалова» и «Песня о собаке».
«Сукин сын» (1924) — стихотворение позднего Есенина. Оно обманчиво своею кажущеюся весёлостью и на первый взгляд выглядит голо повествовательным. Но Есенин не так прост, как любят утверждать его поклонники (и хулители). Название стихотворения может только ввести в заблуждение. Уже во второй строфе собака (не та, что в заглавии!) перекочёвывает из главного предложения в придаточное (в главном оказывается девушка), в третьей — от пса остаётся один ошейник, в четвёртой и пятой собака совершенно отсутствует (зато появляется любимый герой стихов Есенина — „известный поэт”). “Герой”, давший название стихотворению, даёт о себе знать „лаем ливисто ошалелым” только в шестой строфе. Но в седьмой строфе уже ясно, что дело не в нём, а в “боли души”. Восьмая и последняя строфа, несмотря на поцелуи поэта, не оставляет сомнений: целуют не собаку, а невозвратное прошлое. Очень характерны запятые, окружающие „как друга” (запятых могло и не быть, и тогда собака была бы другая, а не “как другом”). К концу стихотворения мы убеждаемся, что дело и не в девушке. И собака, и девушка важны поэту не сами по себе, а своей причастностью, косвенной или прямой, к тому времени, когда он был „моложе”. Тема почти всего Есенина — невозвратная юность, утрата себя, обречённость в будущем. Всё остальное меньшего значения. От девушек остается только цвет их платья, человеческие черты исчезают.3![]()
Подсобность конкретных деталей стихотворения, какими бы основными они ни казались, ясно выступает во втором известном стихотворении «Собаке Качалова» (1925), таком же многослойном, как и «Сукин сын». Здесь, от первой до последней строки, всё стихотворение обращено к собаке Джиму. Описана его внешность — „лапа”, „бархатная шерсть”. Но уже в первой строфе видно, что стихи — об одиночестве („давай с тобой полаем при луне”) и о несчастливости („на счастье лапу”), а Джим — бессловесный наперсник постоянного и единственного героя трагедии, самого Есенина, который всю жизнь промаялся, не в силах найти из своей „души глухой” пути к чужому сердцу (он и здесь наивно и самонадеянно считает, что Джим „не знает, что такое жизнь”). Не нужно думать, что и „она”, которая ещё „сюда не заходила” — героиня стихотворения. Мы не узнаем даже про цвет её платья. Последняя строфа даёт нам ложную надежду на то, что это стихи о прощении и раскаянии. Но всей тяжестью заключительного члена русской синтаксической конструкции „не был виноват” явно перевешивает „был” — и только увеличивает безысходность: ведь даже если бы она и „зашла сюда”, разрешения, “катарсиса”, не было бы, потому что не было бы сознания своей вины.
В ранней лирике Есенин как будто подходил к животным иначе. Его корова и лисица в «Голубени», а также собака в «Песне о собаке» (1915) из «Трерядницы», заполняют собой всё стихотворение. Стихи эти — о них, о животных. Но взглянув во второй раз, мы убеждаемся, что символика в этих стихах перевешивает конкретность и приводит нас снова к знакомой личной теме. Умирающая, окровавленная лисица напоминает нам загнанного волка из стихотворения «Мир таинственный, мир мой древний», где Есенин не скрывает, что волк это он. Корове „свяжут... петлю на шею и поведут на убой”, — мотивы (особенно „петля”), знакомые по множеству стихов, где говорится от первого лица. У собаки отняли щенят, как у коровы „отняли телка” — круг замкнулся; животные во всех этих стихах символизируют личную тему поэта.
«Песня о собаке» (один из есенинских шедевров) написана с классической сдержанностью. Привести в гармонию натуралистические детали („обсиженный шесток”, „тёплый живот”) и абстрактный цветовой узор, почти уайльдовский в своей изощрённости, мог только большой мастер. На более общем цветовом фоне большой протяженности (белый снег, „синяя высь”) вкраплены здесь и там более “конкретные” точки-краски („месяц над хатой”, „рыжий щенок”). В то же время “рамка” стихотворения, его начало и конец, блестят нереальным золотым цветом („златятся рогожи” и слезы собаки — „золотые звёзды”). Камень, брошенный „в смех” собаке, перекликается с Лермонтовым («У врат обители», «Пророк») и только подчёркивает личную тему в стихотворении.
Однажды Есенин обмолвился строчкой — „каждый стих мой душу зверя лечит”. Как ни ироничен этот факт, но Есенин всякий раз, употребляя слово “душа”, делает смысловую ошибку. В данном случае всё утверждение неправильно. Как мы видели, “конкретные” животные в есенинских стихах всегда подсобные образы для личной темы, когда же они становятся символами, то перестают быть животными,4![]()
Правда, Есенин оставил знаменитые строки:
Маяковский, если брать количественно, писал о животных меньше. Его любовь к зверям не столь подчёркнута и более проста. Собственная личность, с её горестями, не вмешивается в любовь, и горести не символизируются в образах животных. Если Есенина тянет к животным, чтобы приобщиться к стихии, где цветёт для него невозвратимая юность, где нет чувства надвигающейся смерти, то для Маяковского собаки — друзья; когда они страдают, он стремится активно помочь им. Есенин, как мы видели, ощущал бессознательно и другое: что судьба зверей в этом мире печальна, он чувствовал их беззащитность, большую подверженность страданиям; но использовал это как удобный образ для символической интенсификации собственных мук. Его собственные страдания, перенесённые на животных, внушали больше жалости, начинали больше заслуживать эту жалость. Маяковский более ясно сознает эту разницу между людьми и животными:
В «Моём открытии Америки» есть описание боя быков, на который поэт случайно попал. Когда первая часть зрелища кончается тем, что затравленный бык ранит одного из своих многочисленных преследователей, Маяковский пишет: „Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков”. Когда близится конец расправы, поэт уходит. „Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце, и он втыкал её в бычье сердце”. В конце Маяковский жалеет, что у быка нет пулемётов на рогах. В этом отрывке очень верно почувствована глубокая аморальность боя быков, который принято оправдывать с эстетической и даже с философской точки зрения (по Хемингуэю). Верно почувствована и потребность наказания людей за тысячелетия издевательств над животными. Сам Маяковский вряд ли даже во сне мог бы „стегать по лошажьим спинам”.
Трудно выяснить, что именно тянуло к животным Маяковского. Может быть, отсутствие в них ненавистного ему социального быта. Скоре же всего, просто любовь к зверям, без философских оснований. Впрочем, Маяковскому свойственна отдача себя чему-то другому, почти средневековая верность — как Лиле Брик, так и коммунизму. Интересно, что в момент отчаяния, в одном из ранних стихотворений, он сам становится собакой (футуристическая метаморфоза), а не приглашает собаку вместе „полаять при луне”. Есенину эта способность отдачи себя не была свойственна ни в какой мере. Перейти через оболочку себя ему не удалось, и в этом его трагедия.
“Конкретные” собаки у Маяковского, на первый взгляд, так же случайны, как у Есенина. Такова собака в поэме «Хорошо», едва промелькнувшая в главе о зимних холодах. Тем не менее, она значительнее, чем кажется.
Если искать в стихах Маяковского о животных более высокого или широкого плана, нужно говорить не о собаках, а о лошади.
Каждый из нас легко может припомнить многочисленных лошадей из литературы и искусства всех веков. Свифт, описывая государство лошадей-гуигнгнмов, хотел создать сверхчеловеческую утопию, мечту о строе, на который человеческий род не способен. Лошади у него — пример для людей. Но чаще всего лошадь выступает символом человеческого страдания. Этим как бы признаётся, что лошадь “человечнее” человека, а в образе её страдания больше благородства и художественной силы. Здесь можно вспомнить Фру-Фру как прообраз Анны, из наших современников отметить коня в «Торжестве земледелия» Заболоцкого и столь запоминающуюся лошадь с «Герники» Пикассо. Но в русской литературе есть и более сильные картины.
Может быть, первое, что вспоминаешь, это „безобразный сон” Раскольникова перед убийством (часть I, гл. 5). Пожалуй, трудно найти в литературе более страшную сцену расправы над беззащитным существом. Пьяный хозяин „маленькой, тощей, саврасой крестьянской клячонки” заставляет её для забавы везти тяжёлый воз, на который он ещё сажает целую ватагу собутыльников и толстую бабу, лузгающую семечки. Достоевский не жалеет красок и подробностей. Сцена описана на нескольких страницах. Лошадь бьют сперва в три кнута, потом в четыре, в шесть, наконец, в дело идет оглобля (четыре удара) и, в конце концов, клячонку убивают железным ломом (два удара). Читатель чувствует себя избитым после этой сцены — и убийство старухи уже не производит впечатления. Может даже пропасть охота читать самый роман. Трудно себе представить, как Достоевский мог не то что написать, а дописать этот эпизод. В нагромождении деталей истязания есть сладострастие, от которого не спасает, что маленькому Раскольникову „так жалко, так жалко на это смотреть” или что он под конец „пробивается... сквозь толпу к савраске, обхватывает её мёртвую окровавленную морду, целует её, целует в глаза, в губы”. Сладострастие убийства сменяется сладострастием жалости, но ничего этим не разрешается. „Слава Богу, это только сон”, — говорит Раскольников, просыпаясь. Однако, вся последующая “реальность”, вся символика и соотносительность этой сцены с дальнейшим ходом романа и его идеей теряют значение и силу, потому что конкретная картина оказывается сильнее и приводит к выводу, для романа ненужному: истязания животных больший грех, чем насилие над людьми.
Ещё ранее, в 1859 г. («Преступление» писалось в 1865-66 гг.), другая подобная сцена была описана Некрасовым в его замечательных стихотворных фельетонах «О погоде». Для Некрасова избиение хозяином внезапно остановившейся лошади — одна из красок „дня безобразного”, в который поэт бродит по улицам Петербурга. Большинство деталей у Достоевского и Некрасова буквально совпадают. У Некрасова лошадь „чуть жива, безобразно тоща” (у Достоевского „тощая... клячонка”). Когда хозяин бьёт её поленом
В «Хорошем отношении к лошадям» (1918) Маяковского пейзаж — уже не душное лето в провинциальном городке (Достоевский) и не мозглая петербургская осень (Некрасов), а зимний Кузнецкий („льдом обутый”). Как и в есенинской «Собаке», уже это придает некую абстрактность, уводит от натурализма. Абстрактность усилена тем, что “страшный мир” тоже рисуется не бытовыми красками, а приёмом “самовитого” слова:
Но, может быть, самое своеобразное — это решение Маяковским проблемы страдания. У Достоевского мальчик „плачет... сердце в нём поднимается, слёзы текут”. Окружающие пробуют осудить истязателя („креста на тебе нет”), но, не вступаясь, досматривают убийство до конца (как и мальчик, как и Достоевский). Только в конце мальчик „вдруг вскакивает и в исступлении бросается со своими кулачонками на Миколку”, но отец уводит его („не наше дело”). У Некрасова появляется мысль вступиться, но он отделывается софистикой:
Проблема ставится здесь не так наивно, как может показаться. Вся подчас сложная (и нужная) символика, вся вообще эстетическая обоснованность не могут снять одного: в образе, как бы ни был он широк, содержится конкретное — и эта конкретность остаётся даже тогда, когда под нею или за нею стоит широчайшее обобщение. В рассматриваемых нами эпизодах и образах, несмотря на всю их символичность, конкретно содержится конкретное страдание конкретных животных, что бы оно ни означало. Маяковский единственный что-то с этим страданием сделал, как-то активно к нему отнёсся.
Художественно конец его стихотворения и неубедителен, и неудачен. Он сам это сознает:
„Может быть, и мысль моя ей казалась пошла” (т.е. эстетически невысокого уровня). Но Маяковский сознательно изменяет эстетике, мирящейся со страданием или со своим бессильем ему помочь, и становится на сторону чистой этики. Он чувствует потребность упразднить жестокость хотя бы в подвластной ему иной реальности художественного произведения, если уж она, эта жестокость, неуничтожима в “эмпирической” реальности. Ради уничтожения жестокости и страдания он идёт на эстетическое преступление — на happy end. Этому можно отказать в глубине, но это колумбово яйцо по этической гениальности.5![]()
Маяковский понял простую вещь: истинное сострадание не в констатировании факта, а в активном вмешательстве; не в „уж бил её, бил её, бил”, а в „остановите это”. И он страдание уничтожает — пусть глуповато, примитивно, нехудожественно, неубедительно. Это огромный шаг вперед в нравственном отношении по сравнению с другими. Тут уже есть ощущение нашей человеческой вины перед зверем, которого мы убиваем и мучим в течение тысячелетий. Охотник Некрасов этого шага сделать не мог; он мог быть только “певцом горя”, тогда как Маяковскому удалось в этом стихотворении стать “преодолителем горя” (вещь более трудная). Интересно, что Маяковский останавливает страдания лошади, как поэт (и как футурист), не чем иным, как словом.
Поэт должен ставить себе этот вопрос каждодневно: должен ли я убить стихотворение, спасая щенят, или же утопить щенят ради „золотых звёзд” собачьих слёз в последней строке? Выбор в моей власти, потому что реальность лирического стихотворения мне подвластна.
Если художник что-либо оставляет в строке и не выбрасывает, значит, он с этим мирится, а то и любит это. Вспомним, например, у В. Сирина в «Возвращении Чорба» пуделя, нагадившего на афишу «Парсифаля». Автору именно так хотелось. Если б захотелось иначе, он мог бы, в лучшем случае, заставить пуделя по-другому приобщиться к немецкой культуре, в худшем — не связывать их в один образ (пуделю — пуделево, Парсифалю — Парсифалево).
Но мы отвлеклись в сторону. Давно пора кончать.
Мораль (если нужна): в стихах о животных Есенин выше Маяковского эстетически, но Маяковский выше Есенина нравственно. Есенин сложнее, художественнее, даже утонченнее, но Маяковский добрее и лучше.
| персональная страница В.Ф. Маркова на ka2.ru | ||
| карта сайта |  | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||