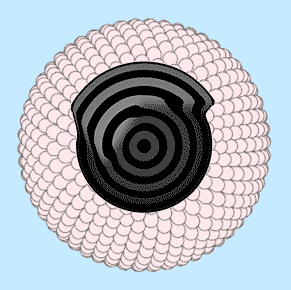Владимир Марков
К вопросу о границах декаданса в русской поэзии
(и о лирической поэме)
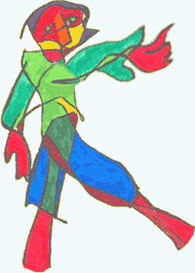
личка “декадент” редко выражает одобрение, хотя, по меньшей мере, сами ранние декаденты носили свою кокарду с гордостью. Однако очень скоро положение изменилось. Зинаида Гиппиус, которую часто — и напрасно — преподносят как стопроцентную декадентку, начала систематически нападать на декадентов уже в 1900 г. («Критика любви»), а позже Вячеслав Иванов окончательно закрепил разделение русского модернизма на “плохой” декаданс и “хороший” символизм. Правда, к этому времени подошёл так называемый “кризис символизма” и стали даже поговаривать о его смерти.
Что же, тем временем, произошло с декадансом? Его начало мы можем условно датировать первым выпуском «Русских символистов» (март 1894), а то и лекцией Мережковского «О причинах упадка...» (концом октября 1892 г.); но когда декаданс кончился?
Осенью 1913 г., через два десятилетия после возникновения русского декаданса, «Очарованный странник», петербургский журнал-альманах первоначально эгофутуристской ориентации, начал своего рода кампанию по реабилитации декаданса. Может быть, наиболее ярко это было сформулировано в №1 в подписанной инициалами Н.О. статье «Pour épater les bourgeois». Там находим такие строки: „‹...› декаденты, окрылённые новыми видениями, пафосом отчуждённости и борьбы, были созидательным, вдохновенным течением”. В том же номере, в статье Виктора Ховина «Всероссийский литератор», декаданс „назван золотыми воротами, которые ведут в таинственный мир свободных блужданий поэта в томительных, но радостных путях воплощения своего творческого я”. По мысли автора, декаданс победил, но победа его погубила, так как „подполье сменилось болотом журналистики”. В эгофутуризме,
1
к тому времени почти кончившемся, «Очарованный странник» видел новое подполье, а у Игоря Северянина Ховин находил второе воплощение блоковской Прекрасной Дамы.
2
К этой дискуссии на страницах полузабытого дореволюционного журнала легко отнестись как к факту, возможно, и интересному, но малозначительному — забавной попытке литературного реставраторства. Впрочем, «Очарованный странник» хотел даже не возврата к декадансу, а желал вернуть декадансу “чистоту риз”. Картина получается несколько запутанная. Сперва декаденты звали себя то декадентами, то символистами; потом сами декаденты-символисты начали бороться с декадансом уже под знаменем символизма, а Брюсов с Блоком, согласно учебникам, только и делали, что этот декаданс “преодолевали”.3 Символизм же подвергся атакам более молодых футуристов и акмеистов, и по этой или иной причине рухнул. И вдруг в 1913 г. (год официального появления акмеизма и самых громких разговоров о футуризме) всеми дискредитированный, побеждённый и “преодолённый” декаданс оказывается не только в полном здравии, но и укрепляющимся в недрах самого футуризма. У нас нет оснований не доверять редактору «Очарованного странника» Ховину, тем более, что в его статьях4
Символизм же подвергся атакам более молодых футуристов и акмеистов, и по этой или иной причине рухнул. И вдруг в 1913 г. (год официального появления акмеизма и самых громких разговоров о футуризме) всеми дискредитированный, побеждённый и “преодолённый” декаданс оказывается не только в полном здравии, но и укрепляющимся в недрах самого футуризма. У нас нет оснований не доверять редактору «Очарованного странника» Ховину, тем более, что в его статьях4 попадаются курьёзные примеры уже не критики и полемики, а прямого репортажа, вроде того что на одном диспуте критик-марксист Неведомский приветствовал в акмеизме возврат к реализму, на что акмеист М. Зенкевич обиженно заявил: мы декаденты (а вождь Гумилёв на это промолчал).
попадаются курьёзные примеры уже не критики и полемики, а прямого репортажа, вроде того что на одном диспуте критик-марксист Неведомский приветствовал в акмеизме возврат к реализму, на что акмеист М. Зенкевич обиженно заявил: мы декаденты (а вождь Гумилёв на это промолчал).
Однако и не обращаясь к Ховину, легко найти примеры стирания границ между основными течениями и группами серебряного века». При этом можно и не говорить о часто отмечаемом символистско-декадентском влиянии на раннюю поэзию, например, Мандельштама, Хлебникова, Шершеневича и др. (или о том, что Гумилёв и начал, и кончил символистом).
* * *
Вероятно, нигде “общая база” не выступает так ясно, как в малоизученном и до сих пор не имеющем удачного определения “урбанизме”. Сильно упрощая, можно сказать, что Брюсов взял свой урбанизм у Верхарна и передал Блоку. Об этом урбанизме достаточно писалось, но не было настоящей попытки связать его с футуризмом, а между тем, урбанизм находишь не только у Маяковского, но и у Гуро, у Хлебникова, у обоих Бурлюков, у Каменского. Есть он, в несколько ином аспекте, и у поэтов “эго” и Мезонина поэзии. Мало того, именно урбанизм чуть не послужил основой для создания ещё одной футуристской группы вскоре после отъезда из России урбаниста Маринетти,
5
турне которого повело к распаду кубо-футуризма. В «Охранной грамоте» Пастернака (III, 3) имеется эпизод, описывающий “конфронтацию” двух футуристских группировок: Пастернак— Бобров, с одной стороны, и Маяковский — Большаков — Шершеневич, с другой. Даже если учитывать блок Мезонина с гилейцами приблизительно в это время, состав второй “партии”, на первый взгляд, более чем странен. Однако он легко объясняется, если предположить, что названная тройка хотела создать в русском футуризме урбанистическое крыло. Такое предположение поддерживается сходством поэм и стихотворений всех трёх поэтов в 1913–1915 гг.
6
Наконец, ещё одна заметная вспышка урбанизма наблюдается уже после революции — в образности и тематике имажинизма, особенно у Шершеневича и Мариенгофа.7 Имажинизм перекликается с декадансом не раз. Яснее всего это выступает в заключительный, “мариенгофовский” период, когда издавался журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1922–1924). Несмотря на эклектическое переплетение с неоклассицизмом (проповедь канонов, похвалы Академии), Мариенгоф в передовой статье к первому номеру журнала делает ударение на “прекрасном” (от которого один шаг до «Красоты» Бальмонта) и прибегает к образности, сильно напоминающей декаданс. В “прекрасном” выделяются, например, признаки опасности (излюбленное у декадентов „бездны мрачной на краю”) и высоты (человек на вершине). Слово ‘декаданс’, разумеется, не в употреблении, но иногда поздние имажинисты проговариваются. Например, Иван Грузинов в статье «Пушкин и мы» (октябрь 1923),8
Имажинизм перекликается с декадансом не раз. Яснее всего это выступает в заключительный, “мариенгофовский” период, когда издавался журнал «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1922–1924). Несмотря на эклектическое переплетение с неоклассицизмом (проповедь канонов, похвалы Академии), Мариенгоф в передовой статье к первому номеру журнала делает ударение на “прекрасном” (от которого один шаг до «Красоты» Бальмонта) и прибегает к образности, сильно напоминающей декаданс. В “прекрасном” выделяются, например, признаки опасности (излюбленное у декадентов „бездны мрачной на краю”) и высоты (человек на вершине). Слово ‘декаданс’, разумеется, не в употреблении, но иногда поздние имажинисты проговариваются. Например, Иван Грузинов в статье «Пушкин и мы» (октябрь 1923),8 декларируя связи имажинизма с XVIII веком, особенно с Тредиаковским, тут же называет последнего „декадентом восемнадцатого века”.
декларируя связи имажинизма с XVIII веком, особенно с Тредиаковским, тут же называет последнего „декадентом восемнадцатого века”.
* * *
Пожалуй, самая интересная проблема в рамках настоящей статьи — это жанр “лирической поэмы”. Перефразируя Ремизова («Огонь вещей»), можно сказать, что начинается всё с Белинского, а пошло от Владимира Соловьёва. Белинский первым обронил этот термин, обозначив им в 1841 г. разновидность романтической поэмы;
9
Соловьёв в 1894 г. применил это обозначение (на мой взгляд, без достаточных оснований) к трём поэмам А. Голенищева-Кутузова.
10
Однако подлинным создателем этого жанра нужно считать Бальмонта, четвёртая книга стихов которого, «Тишина» (1898), подзаглавлена „лирические поэмы”.
11
Термин “лирическая поэма” и сейчас в большом ходу у исследователей литературы, и к этому жанру (часто справедливо, но редко с обоснованием) относят немалое число поэм двадцатого века.
12
Тем не менее, стоит обратить внимание на то, что только три поэта фактически обозначали так свои поэмы: Бальмонт, Брюсов и Мариенгоф.
«Тишина» Бальмонта открывается поэмой «Мёртвые корабли», по-видимому, вдохновлённой Кольриджем.13 Первое произведение в сборнике часто задает тон. Эта поэма об искателях нового и „безвестного”, обманутых далью и нашедших себе могилу среди вечных льдов и других кораблей-призраков, очень разнообразна по композиции и метрике. Однако в ней легко обнаружить признаки романтической поэмы, сформулированные Б. Томашевским:14
Первое произведение в сборнике часто задает тон. Эта поэма об искателях нового и „безвестного”, обманутых далью и нашедших себе могилу среди вечных льдов и других кораблей-призраков, очень разнообразна по композиции и метрике. Однако в ней легко обнаружить признаки романтической поэмы, сформулированные Б. Томашевским:14 ослабление фабульного элемента, фрагментарность и лирическое развёртывание. Остановимся на фрагментарности. Поэма состоит из семи стихотворений, из которых почти каждое могло быть напечатано самостоятельно. Тем не менее, эта вереница картин, монологов, лирических описаний и повествований, кончающаяся песней снежинок, складывается в подобие сюжета, осложненного обратными ходами типа flashback. Фрагментарность подчёркнута полиметрией:15
ослабление фабульного элемента, фрагментарность и лирическое развёртывание. Остановимся на фрагментарности. Поэма состоит из семи стихотворений, из которых почти каждое могло быть напечатано самостоятельно. Тем не менее, эта вереница картин, монологов, лирических описаний и повествований, кончающаяся песней снежинок, складывается в подобие сюжета, осложненного обратными ходами типа flashback. Фрагментарность подчёркнута полиметрией:15 кроме двух метрически идентичных стихотворений (которые и задуманы как “близнецы”), все остальные разнятся размером, причём Бальмонтом использованы все пять традиционных размеров.
кроме двух метрически идентичных стихотворений (которые и задуманы как “близнецы”), все остальные разнятся размером, причём Бальмонтом использованы все пять традиционных размеров.
Однако вывод о непременной фрагментарности и полиметричности лирической поэмы был бы преждевременным. Уже следующая “поэма” ставит исследователя в тупик. Хотя «Искры», как и «Мёртвые корабли», в семи частях,16 это уже не отдельные стихотворения, а строфы-восьмистишия одного размера и с протеканием темы без скачков и дробления. Если бы не длина (56 строк), «Искры» вряд ли можно было бы назвать поэмой.17
это уже не отдельные стихотворения, а строфы-восьмистишия одного размера и с протеканием темы без скачков и дробления. Если бы не длина (56 строк), «Искры» вряд ли можно было бы назвать поэмой.17 Дальше в лес, больше дров. Следующие семь разделов «Тишины»18
Дальше в лес, больше дров. Следующие семь разделов «Тишины»18 уже совсем не поэмы, а именно разделы, типичные для сборников Бальмонта. Хотя стихи в них и объединены тематически (что раскрыто в названии) и даже расположены так, чтобы получалось движение от стихотворения к стихотворению, фабульно-сюжетный элемент (даже в его лирическом понимании) в таком единстве отсутствует, и Бальмонт это явно сознавал, печатая стихотворения в разделах такого рода по одному на страницу.
уже совсем не поэмы, а именно разделы, типичные для сборников Бальмонта. Хотя стихи в них и объединены тематически (что раскрыто в названии) и даже расположены так, чтобы получалось движение от стихотворения к стихотворению, фабульно-сюжетный элемент (даже в его лирическом понимании) в таком единстве отсутствует, и Бальмонт это явно сознавал, печатая стихотворения в разделах такого рода по одному на страницу.
Тем не менее, все разделы книги как-то перекликаются с ключевыми «Мёртвыми кораблями». В последнем разделе («В царстве льдов») эта перекличка не только особенно ясна, но и усилена тем, что стихотворения перемешаны с поэмами (правда, эти поэмы однородны по метру и не фрагментарны по развитию темы).
К концу книги “лирическая поэма”, заданная Бальмонтом в начале, снова вступает в свои права. В трёх заключительных произведениях признаки, описанные выше, то ослаблены (полиметричность в «Дон-Жуане»), то усилены (фрагментарность в «Забытой колокольне»), но они всё время присутствуют.
Если отвлечься от трудноватого для анализа „лирического развёртывания”, то остальные признаки романтической поэмы, постулированные Томашевским, в лирической поэме качественно не изменяются, хотя и прогрессируют. Дальнейшее „ослабление фабульного элемента” налицо. В «Цыганах» Пушкина мы всё-таки знаем, кто кого убил и за что; в «Забытой колокольне» знаем лишь, что речь идёт о братьях, и что дело происходило в лесу. У Пушкина мы легко соединяем в фабулу то, что находим в двенадцати фрагментах; у Бальмонта в предпоследнем “стихотворении поэмы” появляется совершенно новая (хотя возможно, и связанная с братьями) и загадочная19 линия русалки, закапывающей ребёнка на речном дне, которую потом люди находят в виде статуи. У Пушкина философские заключения подаются, по меньшей мере, дважды, каждый раз дополняя или частично отменяя друг друга (через монолог старика и устами автора через эпилог) — но в любом случае эти выводы ясно вытекают из действия поэмы. У Бальмонта с убийством ясно связано только четвёртое стихотворение (о том, что у Бога нет ответа на преступления этого мира). Труднее связать сюжет с лирическим рассуждением о неспособности человека познать красоту идей или о мести за искажённую красоту. Если же обратиться к полиметричности (добавленной нами к признакам Томашевского), то и здесь ясно выступает количественная разница между Пушкиным, у которого только «Птичка Божия» и песня Земфиры выпадают из метра поэмы, и Бальмонтом, у которого (за одним исключением) все девять частей поэмы метрически разнородны.
линия русалки, закапывающей ребёнка на речном дне, которую потом люди находят в виде статуи. У Пушкина философские заключения подаются, по меньшей мере, дважды, каждый раз дополняя или частично отменяя друг друга (через монолог старика и устами автора через эпилог) — но в любом случае эти выводы ясно вытекают из действия поэмы. У Бальмонта с убийством ясно связано только четвёртое стихотворение (о том, что у Бога нет ответа на преступления этого мира). Труднее связать сюжет с лирическим рассуждением о неспособности человека познать красоту идей или о мести за искажённую красоту. Если же обратиться к полиметричности (добавленной нами к признакам Томашевского), то и здесь ясно выступает количественная разница между Пушкиным, у которого только «Птичка Божия» и песня Земфиры выпадают из метра поэмы, и Бальмонтом, у которого (за одним исключением) все девять частей поэмы метрически разнородны.
Однако между лирической поэмой декаданса и романтической поэмой XIX века есть и качественные различия. Полиметричность, фрагментарность, внутренние переключения от одной формы подачи к другой — все эти признаки для лирической поэмы характерны, но не обязательны. Если романтик в создании новой формы движим свободой-освобождением от классицистических уз и правил, то цель декадента — „гордо раздвинуть пределы земли” («Мёртвые корабли»). Смысл бальмонтовского подзаголовка „лирические поэмы” в книге, где далеко не всё подходит под жанр поэмы (как бы широко её ни понимать),— в новом качестве, которого у романтиков не было: “флексибильности”, необязательности, мерцания. В книге поэм встречаются и просто стихотворения, и целые разделы стихотворений, что не делает их поэмами,20 но превращает их как бы в потенциальные поэмы. Это — приближение к поэме, её возможный вариант. Свобода здесь не в разрушении старого и замене его новым, а в неуловимости и зыбкости границ.21
но превращает их как бы в потенциальные поэмы. Это — приближение к поэме, её возможный вариант. Свобода здесь не в разрушении старого и замене его новым, а в неуловимости и зыбкости границ.21 Кандидатами на поэму, таким образом, становятся и длинное стихотворение, и раздел в книге стихов, и, добавим, цикл стихотворений — жанр, который Бальмонт культивировал в течение всей жизни.
Кандидатами на поэму, таким образом, становятся и длинное стихотворение, и раздел в книге стихов, и, добавим, цикл стихотворений — жанр, который Бальмонт культивировал в течение всей жизни.
“Лирические поэмы” Брюсова — особый случай, и в рамках этой статьи они могут быть лишь упомянуты. Брюсов, писавший поэмы, по крайней мере, с 1894 г., называл их просто поэмами (если называл) и в своих ранних сборниках обычно выделял их в особый раздел. Однако в вышедших томах его «Полного собрания сочинений» и переводов все такие поэмы (их двадцать одна) получили наименование “лирических”. Ни длина,22 ни характер повествования, ни композиция, ни, наконец, метрика не дают основания для такого обозначения. Остаётся предположить, что в этот период в сознании переводчика «Энеиды» все более мелкое автоматически “лиризовалось”. Не исключено и то, что Брюсов, следуя Бальмонту (с которым он явно соревновался в поэме «Царю Северного Полюса»), тоже стремился стирать границы, но на свой лад. Во всяком случае, ещё раньше, начиная со «Всех напевов» (1909), обозначение „лирические поэмы” из его сборников исчезает.
ни характер повествования, ни композиция, ни, наконец, метрика не дают основания для такого обозначения. Остаётся предположить, что в этот период в сознании переводчика «Энеиды» все более мелкое автоматически “лиризовалось”. Не исключено и то, что Брюсов, следуя Бальмонту (с которым он явно соревновался в поэме «Царю Северного Полюса»), тоже стремился стирать границы, но на свой лад. Во всяком случае, ещё раньше, начиная со «Всех напевов» (1909), обозначение „лирические поэмы” из его сборников исчезает.
Второй (и, по-видимому, последний) раз книга стихов была названа „лирическими поэмами” поэтом-имажинистом, заставляя, таким образом, ещё раз предположить, что конечная граница русского декаданса проходит где-то в двадцатых годах. «Стихами чванствую» (1920) Мариенгофа состоит, если не считать вступительного стихотворения, из четырёх поэм, написанных в 1919–1920 гг. Их фрагментарность задана уже самой имажинистской идеей „каталога образов” (которую, отметим, Мариенгоф вовсе не безоговорочно разделял). Легко замечается и ослабление (если не отсутствие) прямых логических связей между строфами. Полиметричность у Мариенгофа относительная (иногда она, впрочем, вполне реальна, как например, местами во «Встрече») и скорее видима, чем слышима («Сентябрь», «Встреча»). Мариенгоф дробит ямбическую строку на неравные quasi-строки (“строчность” которых, тем не менее, опять-таки реальна, так как включает концевую рифму). Однако, если полиметричность поэм Мариенгофа и признавать иллюзорной, дробление строки всё же, на своём уровне, подчёркивает фрагментарность, имеющуюся в плане сюжетном. Как у Бальмонта в «Тишине», одни поэмы Мариенгофа («Кувшины памяти», «Сентябрь», «Встреча») не повествовательны; в других («Руки галстуком») есть элементы ослабленной фабулы. Обращает на себя внимание и перекликающаяся с декадансом сексуальная образность с заметным присутствием мотивов боли и безумия. Таким образом, если композиционно Мариенгоф в своих лирических поэмах (пусть того не ведая) идёт от Бальмонта, тематически он — внук Брюсова (и Белого). Отцом, конечно, следует считать Маяковского, в любовных поэмах которого находим то же сочетание секса, боли и безумия.23
Разрозненные наблюдения этой статьи (которую можно подзаглавить “догадка в трёх вариациях”)24 ведут в одном направлении, и сами собой напрашиваются выводы, хотя и заведомо робкие. Вполне возможно, что явление, возникшее в России в начале 1890-х гг. под названием “декадентства”, было и глубже, чем кажется, и не таким кратковременным, как думают. Его черты можно наблюдать в 1924 г., а если присмотреться, то и позже. Мы легко преувеличиваем голословные заявления манифестов и с большой лёгкостью повторяем кочующие из учебника в учебник утверждения о кризисе или даже смерти того или иного течения. О взаимоотношениях символизма и декаданса, этих доктора Джекилла и мистера Хайда русского модернизма, написана тьма, но воз и ныне там. Если придавать первостепенное значение борьбе Вячеслава Иванова (и Блока) с элементами декаданса в символизме (и в самих себе) или же восстанию акмеистских и футуристских детей против символистских отцов, картина только дробится, а подчас ясно выступающие очертания затемняются. Кстати, сам Вячеслав Иванов после своей антидекадентской кампании опубликовал скорее “декадентскую”, чем “символистскую” книгу «Cor ardens» (1911), куда он включил разделом более ранний и самый декадентский из своих сборников «Эрос» (1907).
ведут в одном направлении, и сами собой напрашиваются выводы, хотя и заведомо робкие. Вполне возможно, что явление, возникшее в России в начале 1890-х гг. под названием “декадентства”, было и глубже, чем кажется, и не таким кратковременным, как думают. Его черты можно наблюдать в 1924 г., а если присмотреться, то и позже. Мы легко преувеличиваем голословные заявления манифестов и с большой лёгкостью повторяем кочующие из учебника в учебник утверждения о кризисе или даже смерти того или иного течения. О взаимоотношениях символизма и декаданса, этих доктора Джекилла и мистера Хайда русского модернизма, написана тьма, но воз и ныне там. Если придавать первостепенное значение борьбе Вячеслава Иванова (и Блока) с элементами декаданса в символизме (и в самих себе) или же восстанию акмеистских и футуристских детей против символистских отцов, картина только дробится, а подчас ясно выступающие очертания затемняются. Кстати, сам Вячеслав Иванов после своей антидекадентской кампании опубликовал скорее “декадентскую”, чем “символистскую” книгу «Cor ardens» (1911), куда он включил разделом более ранний и самый декадентский из своих сборников «Эрос» (1907).
Короче говоря, декаданс — явление, плохо до сих пор описанное, малоизученное, неясное и запутанное, — может оказаться не только ключом к пониманию русской поэзии начала XX века, но и её скелетом. Декаданс простирается от ранних книг Бальмонта по крайней мере до «Гостиницы для путешествующих в прекрасном», и признать это мешает, возможно, только отрицательный, “упадочнический” оттенок слова (не объявить ли конкурс на более бодрое название?), гипнотизирующий не только самих поэтов, но и исследователей и не позволяющий им вполне осознать, что речь идёт чуть ли не о самом блестящем периоде в истории русской поэзии.
Борьба течений в литературе начала XX века — борьба внутренняя. Для сравнения: классицизм вёл войну с барокко как с врагом внешним; внутри романтизма наблюдается запутывающее многообразие, но оно, как правило, не порождало внутренней борьбы. В XX веке, однако, внутренняя борьба — не только неотъемлемый и характерный признак литературы, но и ее raison d’être. В основе этой борьбы лежит двойной процесс. С одной стороны, совершалось расширение пределов русской словесности (фраза Хлебникова), и только в этом смысле можно по-настоящему понять титанические усилия, например, Бальмонта, включить в русский окоём не только Мексику, Египет и Океанию, но и соседнюю Литву (или скачки Брюсова — уже не столько в пространстве, сколько во времени: от Атлантиды и Ассирии до Утопии; добавим сюда и мечты футуристов о раздвижении человеческого сознания). Другою же стороной процесса был мучительный переход (почти затяжные роды) от неоромантизма так называемого “модернизма” к так называемому “авангарду” с его принципом перераспределения элементов. И то и другое неотделимо от декаданса, но не в школьном его понимании.
————————
Примечания 1
1 Эго-футуризм во многом продолжает декаданс; эта же группа больше, чем Гилея, связана с остальным футуризмом: с Мезонином поэзии, который сам идёт прямо от декаданса, и с Центрифугой, идущей от позднего символизма. Это неплохой пример стирания границ в русском модернизме.
 2
2 См. его «Сквозь мечту» // Очарованный странник. Альманах весенний, №7 (1915). С. 7–8.
 3
3 Если Брюсов и преодолевал свой декаданс, то делал он это явно не торопясь и довольно странным образом, как об этом свидетельствует хотя бы стих. «На тёмной дороге» («Последние мечты. Стихи 1917–1919 гг». 1920), кстати, опущенное в последнем семитомнике.
 4
4 На этот раз в последнем эгофутуристском альманахе «Небокопы» (1913; «Модернизованный Адам»).
 5
5 Даже если с самого начала исключить из рассмотрения тему большого города как таковую (а то в урбанизм попадёт и гипотетическая древнегреческая комедия о провинциале, приехавшем в Афины) и, таким образом, не делать урбанистов (как нередко бывает) ни из Пушкина, ни из Некрасова, проблема и тогда остается двусторонней. Прежде всего, можно различить первую, “верхарновскую” волну (которую, может быть, уже поздно называть романтической) с поэтизацией города и постоянным набором мотивов (электрический свет, уличное движение, толпы, проститутки). Поэтизация означает и воспевание, и поэтому нельзя совершенно сбросить со счёта «Медный всадник», в то же время отдавая себе отчёт в том, что «Люблю тебя, Петра творенье» идёт от оды XVIII в., и что воспевает Пушкин Петербург не как “большой город”, а как дело рук Петровых. Поэтизация ведёт и к оживлению города (Гуро). Необходимо также сделать оговорку, что важной чертой первого урбанизма является неконкретность (ср. Брюсов: „Это не Париж, не Лондон, не Нью-Йорк: это город Будущего”. (Цит. по с. 637 СС в 7 тт., 1.
М. 1973). Таким образом, тут же коренится “город будущего” у таких поэтов как Хлебников. Впрочем, при оживлении города (Гуро) конкретность урбанизму не мешает. В этом смысле пушкинская деталь „И всплыл Петрополь, как тритон”, возможно, и урбанистична.
Вторая волна, “маринеттиевская” (которую, вероятно, ещё рано называть авангардистской), не только и не столько воспевает город (в этом совпадая с первой), сколько отождествляет его с “современностью”, которая требует новой, городской поэзии (ср.:
В. Шершеневич. Зелёная улица.
М. 1916. С45: „Самое важное не то, что пишешь о городе, а то, что пишешь по-городскому”). Этот урбанизм не отделён от первого (Маринетти и сформировался в символизме), и они частично наслаиваются друг на друга (например, в образе “города будущего”), да и под утверждением, что
есть городская любовь,
есть городская красота,
есть городская поэзия, подписались бы и те и другие урбанисты.
Первую волну на русской почве осложняет внешнее обстоятельство: она местами сливается с неурбанистичсской традицией конкретного Петербурга как особенного, призрачного города. Вторую волну осложняет обстоятельство внутреннее. В её пределах урбанистической становится даже поэзия не о городе, а на другую тему, как например, у Мариенгофа, с его подчёркнуто урбанистической образностью. Мало того, становится возможным считать урбанистической любовную лирику, если, например, местом действия выбран трамвай (как у П. Широкова в «Сонете» («Розы в вине»); см. также «В трамвае» Ады Владимировой в №10 «Очарованного странника») — и, таким образом, “машинная” поэзия противопоставляется лирике “на лоне природы” (даже если это городской парк). Современный поэт-ленинградец, влюбляющийся в девушку на трамвайной площадке, уже не урбанист, так как он ничего этим не хочет доказать. Для Шершеневича и Маяковского лифт был урбанизмом, теперь — нет.
 6
6 Знакомый “стих Маяковского” складывается у него к маю 1913 г. («Несколько слов о моей маме»). Однако кто “изобрёл” этот стих, пока ещё трудно сказать. Большаков, если судить по датам под его стихами, переходит к похожему стиху в июле 1913 г., но среди недатированных стихов его сборника «Сердце в перчатке» (конец 1913) могут быть и написанные раньше мая; к тому же “стих Маяковского” у Большакова как-то подготовлен стихом его поэмы «Le futur», написанной в мае 1912 г. Если же обратиться к Шершеневичу, то среди его урбанистических стихов, написанных “стихом Маяковского”, в «Экстравагантных флаконах» (конец 1913) есть датированные серединой февраля 1913 г., например, «Prélude» (кстати, заставляющий задуматься, не идёт ли “стих Маяковского” от Северянина); но приближения к “стиху Маяковского” можно найти и в более ранней «Романтической пудре» (того же года), где стихи не датированы.
 7
7 Не случайно Хлебников дал в имажинистский альманах «Харчевня зорь» именно свой «Город будущего». Интересным примером ещё более позднего (чем имажинизм) проявления урбанизма (причём в гораздо более декадентском роде — с переплетением оживлённого города и секса) может послужить стихотворение «Город» эмигрантской поэтессы, а в прошлом советской киевлянки Ольги Анстей («Дверь в стене. Стихи».
Мюнхен. 1949. С. 36–37).
 8
8 В №3 «Гостиницы для путешествующих в прекрасном» (1924).
 9
9 В «Разделении поэзии на роды к виды».
 10
10 «Старые речи», «Дед простил» и «Рассвет». „Эти три лирические поэмы, — пишет В. Соловьёв, — связаны между собой как последовательные ступени в развитии одного и того же настроения” (с. 433). Внешним признаком лиричности, в отличие от эпичности, Соловьёв считает безымянность персонажей (хотя это можно найти и в «Кавказском пленнике» Пушкина); но главное для него „не лица и не то, что с ними происходит, а настроение, которое воплощается в живых образах рассказа и остается после его чтения. Это настроение есть с начала и до конца — безнадёжность. Жизнь бессмысленна, а счастие — мгновенная и обманчивая случайность» (стр. 48). («Буддийские настроения в поэзии». 1894. Цит. по СС, VI.
СПб. 1901). Термин ‘настроение’ вряд ли устроит кого-либо в наши дни; кроме того, настроение, описываемое Соловьёвым, можно найти в повестях Тургенева (а частично и в «Медном всаднике»). Тем не менее, Соловьёву в этих трёх поэмах было явно видимо что-то, ускользающее от нас, потомков, которым все три могут показаться “повестями в стихах”, каких тогда писалось немало.
 11
11 Во второй половине XIX в. наблюдается общая тяга к употреблению прилагательного ‘лирический’. Аполлон Майков так назвал свою драму «Три смерти» (1851). Соловьёв в вышеуказанной статье не только назвал „лирическими” три поэмы, но и видел в них „лирическую трилогию” (стр. 447). Вспомним, что и П.И. Чайковский назвал своего «Евгения Онегина» „лирическими сценами”.
 12
12 См.:
Л.К. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX – начала XX веков (
М.–Л. 1964), где уделяется большое внимание «Тишине» Бальмонта и даётся очень полезный обзор поэм рассматриваемого периода, причём жанр лирической поэмы постоянно находится в поле зрения автора. Однако Долгополов (уже опубликовавший ряд ценных работ по русскому символизму), к сожалению, терпит неудачу с определением жанра и совсем не пробует установить его типологию. В его перечислении признаков лирической поэмы („зыбкость сюжетных линий, отсутствие исторической достоверности, аллегоричность, смена не картин, а настроений, взаимодействие не образов-типов, а лирических состояний, не повествование, а единый сплошной лирический монолог”, стр. 21) всё или неточно, или несущественно. Таков же разбор «Тишины» и многие последующие замечания о лирической поэме. Иногда Долгополов относит к жанру то, что лирической поэмой просто не является (например, «Листопад» Бунина, «Сон Мелампа» Вяч. Иванова).
 13
13 Когда идет речь о Бальмонте, нельзя игнорировать и Эдгара По, у которого в «MS Found in the Bottle» (кстати, переводившейся Бальмонтом) эти мотивы занимают меньше места, чем у Кольриджа. Сама идея лирической поэмы могла частично прийти к Бальмонту от По.
 14 Б. Томашевский
14 Б. Томашевский. Теория литературы // Поэтика, 4 изд. (
М.–Л. 1928). С. 206.
 15
15 Полиметрия в романтической поэме начинается не с Пушкина (у которого она всегда “коллажна”: включение инометрических песен в четырёхстопный ямб), а, возможно, с “самого” Хераскова, который, хотя и писал свои прославленные эпические поэмы каноническим александрийским стихом, но с приближением романтизма пустил в них полиметрию: «Пилигримы» (1795) написаны вольным ямбом (причём “кусковым”, а не “строчным”), а «Бахариана» (1802) — частью “русским размером”, частью четырёхстопным ямбом и хореем. В романтизме полиметрия встречается у Каролины Павловой (вплоть до включения прозы в стиховую ткань — на манер Новалиса), но особенно влиятельным в этом отношении был, по-видимому, «Иоанн Дамаскин» А.К. Толстого. История полиметрии в лирической поэме XX в. после Бальмонта включает не только «Двенадцать» Блока, но и «Человека» Вяч. Иванова (1915–1919, опубл. 1939) и «Нового Гуля» Кузмина (1924). Впрочем, «Двенадцать» относят и к драме (Дуганов), и к эпосу (Долгополов, который видит в поэме слияние лирики и эпоса и даже превращение лирики в эпос).
 16
16 Обращает на себя внимание семиричное построение книги (в 1-м издании). Из 12-ти разделов 8 состоят из семи (или из числа, делящегося на семь) частей, строф или стихотворений, а в девятом разделе семичастна поэма «В царстве льдов».
 17
17 Впоследствии Бальмонт издал сборник поэм («Семь поэм».
М. 1920), не обозначив их лирическими, хотя они под такое обозначение подходят, а четыре из семи имеют элементы полиметрии (из трёх же оставшихся одна поэма — венок сонетов). Добавим также, что один из последних сборников Бальмонта «В раздвинутой дали» (1930) состоит почти сплошь из стихотворений, но подзаглавлен «Поэма о России».
 18
18 Нет ли здесь переклички с названием некрасовской поэмы (1857), которая, хотя н не полиметрична (у Некрасова, видимо, полиметричность связывалась скорее с “эпикой”, если судить по «Кому на Руси жить хорошо» и «Современникам»), но вместе с «Рыцарем на час» (1862) может с большим правом, чем поэмы Голенищева-Кутузова, считаться родоначальницей лирической поэмы XX в.
 19
19 От сюжетно “ослабленной” «Забытой колокольни» можно провести линию к “полусюжетным” стихам Кузмина («Надо мною вьются осы» в «Глиняных голубках», «Барабаны воркуют дробно» в «Параболах» и др.).
 20
20 Долгополов (см. прим. 12) слишком буквально понимает множественное число в подзаголовке «Тишины» и слишком легко начинает рассматривать разделы и циклы как поэмы. Разделы, к тому же, отличны от циклов, в которых стихи тесно связаны с самого начала; в разделе связь устанавливается авторской волей post factum, как бы силком. Эти различия недостаточно чётко проводит и В.А. Сапогов (см. Кратк. Лит. Энц., VIII. С. 398–399), кстати, не упоминающий Бальмонта, о стихотворных циклах которого можно написать диссертацию. Добавим, что в разделе полиметрия неизбежна, циклы же, допуская полиметрию, не обязательно к ней тяготеют, особенно в таком типичном для русского декаданса полужанре как “венок сонетов” (до сих пор не исследованном в его истоках), где так ощутительна становится трудность проведения границы между лирической поэмой и циклом стихов. Интересно, что недавно к этой декадентской традиции примкнул советской поэт В. Солоухин («Венок сонетов».
М. 1975), в книжке которого не только встречается декадентская фразеология и образность, но и иллюстрации можно окрестить “неодекадансом”.
 21
21 В этом контексте и фрагментарность выступает уже не в роли раздробления целого, а чем-то вроде отдельных пятен у пуантилистов, которые на расстоянии сливаются в новое целое.
 22
22 Длина, конечно, играет немалую роль при определении границы между поэмой и стихотворением, но никаких точных правил здесь не сформулируешь. Некрасовские «Влас» и «Княгиня», например, поэмы (а «Зелёный шум» и лирическая поэма), несмотря на их сравнительную краткость. В поэзии XVIII в. поэма (эпическая) была длинной в силу значительности. Может быть, здесь ключ к тому, что Брюсов относит свои знаменитые «Стихи о городе» в «Stephanos» к поэмам. «Конь блед» (короче других, хотя единственное повествовательное), например, всего в 48 строк (для сравнения, «Жрец Изиды» в« Tertia vigilia» почти такой же длины, в 44 строки, но для Брюсова не поэма; а позже, в «Девятой Камене», даже стихотворения свыше 100 строк длиной не воспринимались Брюсовым как поэмы), но «Стихи о городе» исполнены для Брюсова особой значительности. С другой стороны, длина для Брюсова была как-то связана с тематикой: его стихи о героях древности, как правило, вдвое длиннее стихотворных путевых впечатлений.
 23
23 В связи с Мариенгофом может встать вопрос о генезисе лирических поэм Есенина вообще и его так называемых “маленьких поэм” в частности. В работе А.Т. Васильковского «Жанровое своеобразие „маленьких поэм” С. Есенина» (Вопросы русской литературы, вып. 3(9). 1968. С. 39–47), написанной на довольно низком культурном уровне, к сожалению, типичном для доброй половины современного есениноведения, делается попытка представить поэта создателем нового жанра, который в это время ещё “только формировался”. На самом деле, есенинская “маленькая поэма” 1920-х гг. идёт непосредственно от Мариенгофа (которого есениноведы не любят читать), а в более широком смысле Есенин является одним из последних звеньев в развитии давно “сформировавшейся” декадентской лирической поэмы, а уж никак не новатором. Даже если обратиться к “скифским”, наиболее “авангардным” из поэм Есенина, то они непосредственно идут от Белого, а в широком смысле одичны в своём “красном беспорядке”. Впрочем, Васильковский конкретными наблюдениями опровергает свои выводы. Даже в поэмах 1920-х гг. он не видит „логической последовательности” (с. 44), а разбирая поэмы 1917–1919 гг., то и дело роняет термины „безгеройность”, „бессюжетность”, „фрагментарность”, „смена ритмов” — то есть очень близко подходит к описанию бальмонтовской лирической поэмы.
 24
24 «Вариаций» можно добавить. Например, русский дендизм (хотя, вероятно, и начинается с Пушкина) в XX в. неожиданно вспыхивает то у Кузмина, то у эгофутуристов, то у Бурлюка с Маяковским, то у Мариенгофа с Есениным.
Воспроизведено по:
В.Ф. Марков. О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное.
СПб.: Издательство Чернышёва. 1994. С. 47–58
Впервые напечатано:
American Contributions to the Eight International Congress of
Slavists. II: Literature / Ed. V. Terras. 1978.
Изображение заимствовано:
Nikola Večenaj Leportinov (род. 1935). Mama peče kruh. 2006. Ulje na staklu.


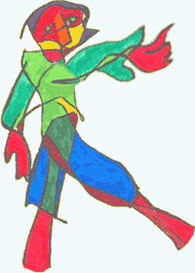 личка “декадент” редко выражает одобрение, хотя, по меньшей мере, сами ранние декаденты носили свою кокарду с гордостью. Однако очень скоро положение изменилось. Зинаида Гиппиус, которую часто — и напрасно — преподносят как стопроцентную декадентку, начала систематически нападать на декадентов уже в 1900 г. («Критика любви»), а позже Вячеслав Иванов окончательно закрепил разделение русского модернизма на “плохой” декаданс и “хороший” символизм. Правда, к этому времени подошёл так называемый “кризис символизма” и стали даже поговаривать о его смерти.
личка “декадент” редко выражает одобрение, хотя, по меньшей мере, сами ранние декаденты носили свою кокарду с гордостью. Однако очень скоро положение изменилось. Зинаида Гиппиус, которую часто — и напрасно — преподносят как стопроцентную декадентку, начала систематически нападать на декадентов уже в 1900 г. («Критика любви»), а позже Вячеслав Иванов окончательно закрепил разделение русского модернизма на “плохой” декаданс и “хороший” символизм. Правда, к этому времени подошёл так называемый “кризис символизма” и стали даже поговаривать о его смерти.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()