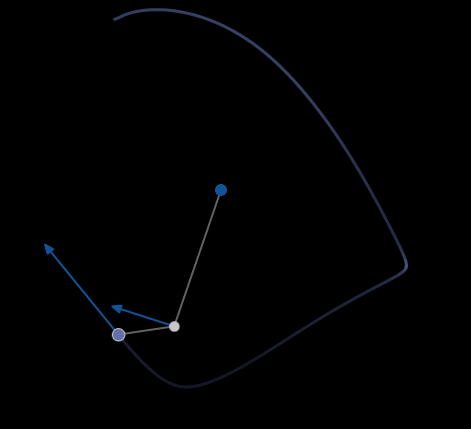
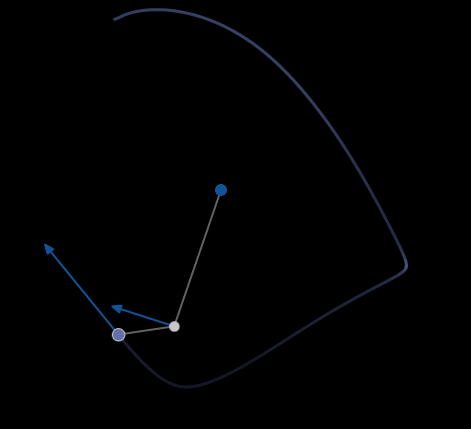
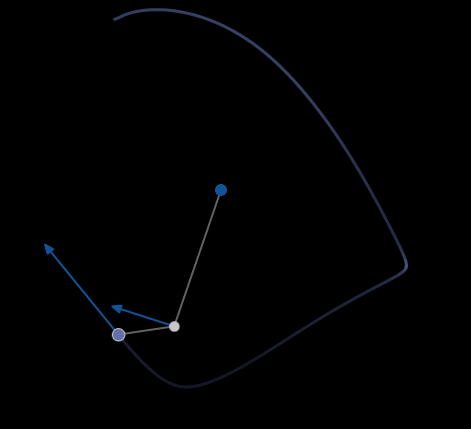
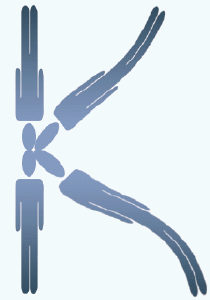 аждый человек живёт во времени, с ним или против него. Каждый человек знает, что время ему отмерено, и в этом знании о своей смертности состоит трагическое величие наделённого разумом человеческого существа. Художнику уготована та же печальная участь, но, создавая особые предметы, arte facta, он смеет надеяться, что те переживут его и, в некотором смысле, позволят метонимически жить после смерти. Всем известен прекрасный и гордый стих Горация: „Non omnis moriar, multaque pars mei / Vitabit libitinam...”, в котором провозглашена непреклонная уверенность в возможности пережить самого себя, благодаря стихам. Итак, всякий художник, воздвигая памятник аеrе perennius (прочнее бронзы), сражается со временем, наилучшим образом используя таковое, чтобы отвратить его же разрушительные последствия. Разумеется, все поэты желают своим произведениям если не всемирной славы и бессмертия, то как можно более долгой жизни и готовят их к путешествию через грядущие столетия. Мандельштам нашёл удачное сравнение с погребальной египетской переправой на лодке, чтобы обозначить каркас и особое оснащение словесного произведения, которое позволит ему устоять перед случайностями истории, превратностями будущих истолкований, даже после вероятного “крушения” в виде забвения, равного семантической смерти. Стихотворение должно быть построено так, чтобы оно, когда, по выражению Платона, останется “сиротой”, могло семантически существовать бесконечно долгое время. Но вот осуществим ли этот замысел? Некоторые русские поэты Серебряного века в это верили: они сознательно и с воодушевлением вели свою поэтическую работу под знаком времени, используя против него само же время — но время-означаемое, преобразованное в значении и с помощью значения, надеясь таким образом оправдать девиз In hoc signo vinces (сим победиши). Об этом небольшое стихотворение-“памятка” В. Хлебникова, обращённое к его товарищу по оружию будетлянину А. Кручёных:
аждый человек живёт во времени, с ним или против него. Каждый человек знает, что время ему отмерено, и в этом знании о своей смертности состоит трагическое величие наделённого разумом человеческого существа. Художнику уготована та же печальная участь, но, создавая особые предметы, arte facta, он смеет надеяться, что те переживут его и, в некотором смысле, позволят метонимически жить после смерти. Всем известен прекрасный и гордый стих Горация: „Non omnis moriar, multaque pars mei / Vitabit libitinam...”, в котором провозглашена непреклонная уверенность в возможности пережить самого себя, благодаря стихам. Итак, всякий художник, воздвигая памятник аеrе perennius (прочнее бронзы), сражается со временем, наилучшим образом используя таковое, чтобы отвратить его же разрушительные последствия. Разумеется, все поэты желают своим произведениям если не всемирной славы и бессмертия, то как можно более долгой жизни и готовят их к путешествию через грядущие столетия. Мандельштам нашёл удачное сравнение с погребальной египетской переправой на лодке, чтобы обозначить каркас и особое оснащение словесного произведения, которое позволит ему устоять перед случайностями истории, превратностями будущих истолкований, даже после вероятного “крушения” в виде забвения, равного семантической смерти. Стихотворение должно быть построено так, чтобы оно, когда, по выражению Платона, останется “сиротой”, могло семантически существовать бесконечно долгое время. Но вот осуществим ли этот замысел? Некоторые русские поэты Серебряного века в это верили: они сознательно и с воодушевлением вели свою поэтическую работу под знаком времени, используя против него само же время — но время-означаемое, преобразованное в значении и с помощью значения, надеясь таким образом оправдать девиз In hoc signo vinces (сим победиши). Об этом небольшое стихотворение-“памятка” В. Хлебникова, обращённое к его товарищу по оружию будетлянину А. Кручёных:Тема молодости, и не только в биологическом смысле, часто встречается в футуристских манифестах и трансформирует войну против прошлого в поединок двух возрастных страт. Речь о “восстании молодёжи” против старших. Будущее на стороне жизненной и интеллектуальной энергии, новшеств, творчества как „события, через которое будущее идёт к нам”.3![]()
![]()
Ярчайшее поэтическое проявление этой позиции — проповедь лирического героя поэмы Маяковского «Облако в штанах», где налицо мечта об абсолютном начале, белой странице и культурном всеотрицании:
Но можно сохранить унаследованный язык и найти другое средство помешать опасному возврату старых способов мыслить и чувствовать: использовать синтаксическую заумь или нестандартные конструкции, которые сломают инертность традиции, устраняя всякий очевидный смысл, всякую непосредственную внятность. «Ка», «Мирсконца», «В дороге», «Победа над солнцем», «Люди в пейзаже», «Путешествие по всему свету» как раз и являются примерами поэтики ребуса, логогрифа, загадки, современного trobar clos (тёмного стиля), где затемнение значения оберегает произведение, препятствуя его пониманию, то есть семантической энтропии, и обеспечивает ему нечто вроде относительного выживания в качестве литературного “иероглифа”. Окончательный смысл раскроется только в конце истории. Этот эсхатологический приём бесконечно удерживает смысл in future так, что никогда никакая “конечная современность” не сможет уничтожить смысл, расшифровав его раз и навсегда.
Футуристы были одержимы страстью сколь можно более полного завоевания будущего, в соответствии со словами гимна, который поют футуристские „силачи” в опере «Победа над солнцем»: „Всё хорошо, что хорошо начинается и не имеет конца, мир погибнет, а нам нет конца!”6![]()
Это бесконечное дление поэтического высказывания, направленного от настоящего к будущему, выдаёт фундаментальную утопию футуристов, их сокровенную мечту: стремление к всемирности и вечности. Каждый поэт-футурист жаждет божественной участи (отсюда и мощная богоборческая тональность, окрашивающая футуристическую поэзию): стать вездесущим, всем во всём и во всех. А это подразумевает изобретение тотального, универсального слова и нового лирического “я”, скроенного по образцу Создателя: Ямир или Ябог. Лирический герой стремится уйти от случайности, от эмпирической единичности, от отдельного — исторически определённого и преходящего — высказывания, чтобы овладеть словом, тождественным абсолютному и непререкаемому слову автора-создателя Мира, властителя судеб.
Именно Хлебников являет собой поэта, который пытался с наибольшей строгостью и логической последовательностью продумать все последствия отождествления лирического героя с Абсолютом: достаточно вспомнить формулировку единосущности лирического героя и вселенной: Мир как стихотворение. Ниже я покажу отношение Хлебникова к темпоральности и способы его поэтической (философской) борьбы с таинственным божеством, которое направляет ход деяний человеческих — Судьбой.
Хлебников очень рано задумался о природе времени, с первых шагов своей поэтической карьеры бросив вызов двум формам, в которых оно проявляется: смерти (коллективной и индивидуальной) и Судьбе. Я остановлюсь лишь на двух аспектах этого поединка: во-первых, на борьбе посредством литературного творчества, которым управляют два фундаментальных элемента — язык и воображение. Во-вторых, на выходе за рамки этой фиктивной и игровой борьбы с помощью оружия, которое он считал более действенным: математических выкладок. Таковы числоречь и числописьмо.
а) Словотворчество, которому Хлебников посвящает первую главу статьи «Наша основа», содержит в себе целую философию семантического роста слов на основе генеративных схем, которыми язык снабжает словознатца. Порождённая изобретением новых слов семантическая экстенсивность обнажает, осмелюсь сказать, диахронию в синхронии, генеративную мощь языка в толще непрерывной длительности, присущий ему “морфогенез”.
Достаточно привести пример хлебниковского словотворчества — миниатюру, темой которой является именно время:
Я не случайно употребил глагол ‘демонстрировать’: Хлебников, пусть и не он первым догадался создавать новые слова по аналогии, артистично применял этот приём в массовом порядке с целью сделать его ощутимым, заметным — я бы даже сказал осязаемым — для читателя. Он даже реализовал свойственную этому неологическому приёму метафору “зрелищности”, перенеся на сцену в прологе оперы «Победа над солнцем» слова, специально созданные, чтобы явить перед взглядом (включая умозрительный) воспринимающей стороны различные виды времени, охваченные новыми драматическими жанрами, которые эти неологизмы и обозначают:
б) Не только слова (лексические единицы), но и отдельные произведения Хлебникова дают представление о его философии времени. Таковые, в разной степени, были задуманы как “устройства”, семантические приборы, предназначенные для того, чтобы обыграть и победить время, расстроить его вредоносные махинации. Я ограничусь выделением основных приёмов этого времяборческого поединка. Самый простой (даже примитивный, наивный) состоит в переносе на сцену палиндромона, которым Хлебников, кстати говоря, мастерски владел. Пьеса «Мирсконца» обращает вспять историю двух персонажей, Поли и Оли: действие разворачивается от от их смерти к рождению.9![]()
![]()
в) В дискурсивной организации Хлебникова роль “накопителя” времени отводится, прежде всего, образу; поэт обосновывает эту его функцию своеобразной кинетической концепцией поэтической речи. Он пишет в статье «О стихах», что песня похожа на бег, в наименьшее время надо слову покрыть наибольшее число вёрст образов и мысли.11![]()
В качестве действенной иллюстрации теоретического принципа, лежащего в основе футуризма, этот отрывок заслуживает подробного комментария. Любопытная диалектика между скоростью, настоящим, будущим и значительностью произведения находит разрешение в парадоксальном, по меньшей мере, образе метеорита, который воспламеняется, проходя атмосферу Земли. Благодаря визуальной объёмности, этот образ маскирует явление языка, относящееся к сложным взаимосвязям смысловой наполненности песни (стихотворения) и темпоральностью. Здесь образ больше затемняет, чем освещает достаточно сложный феномен полисемии, присущей каждому поэтическому высказыванию. Песня (стихотворение) сравнивается с болидом, семантическая мощь (скорость) которого пронзает неподатливый слой настоящего — ту “атмосферу”, на которую произведение неким образом воздействует. Так, непонятное сегодня стихотворение оказывается сгустком семантической энергии, которая в будущем положит начало длинной цепи истолкований в целях извлечения из него ядра внятности. Осмысление, таким образом, отсрочено. Чем семантически сильнее стихотворение (в актуальной ситуации письма/восприятия), тем дольше способно оно сохранить свой семантический заряд. Наилучшие стихотворения семантически неисчерпаемы, то есть им гарантирована бесконечная семантическая долговечность. Хлебников держит, впрочем, в резерве второй план указанного феномена семантического выживания стихотворения, интерпретацию более выразительную, чем полёт метеорита: двойственность пишущего (или говорящего) разума. Сочинение зауми подтверждает это правило: когда автор предаётся этому занятию, он не ведает, что творит, но внутренне “ощущает” эти строки — он их “переживает”. Позже написанное может показаться ему пустышкой. Дело ведь в том, что есть “над-сознание” (или “подсознание”), “над-разум” (или “под-разум”, “сверх-разум”), руководящие сочинением стихов и вызывающие смещение, которое Хлебников вначале отмерил на временнóй оси. Смысл стихотворения всегда в резерве, всегда избыточен, он шире смысла в настоящем времени, и всё это без ведома автора. Такая интерпретация, наверное, продуктивнее предыдущей, во всяком случае, ближе к таинственному процессу семантического долголетия произведения, расшифровка которого — дело времени, обстоятельств. Таким образом, темпоральность “где-то хранится”, это неотъемлемая часть структуры стихотворения, являющегося — если оно превосходно (продуктивно) — “провозвестником будущего”. Эта концепция семантизма (семантической генеративности) произведения предполагает его особое прочтение в будущем: значение произведения возможно, потенциально, оно более впереди, чем в настоящем времени, сейчас. Свойственное ему воздействие, его работа состоит в бесконечном, неисчерпаемом порождении новых смыслов через непрерывное применение во всё новых и новых экстралингвистических ситуациях. Так, литературное произведение со своей системой образов находится в постоянном соперничестве с бытом, с реальной эмпирической жизнью, которая, в свою очередь, тоже понимается как произведение искусства, как “бытопись”. Непрестанная изобретательская, творческая, поэтическая деятельность на бытовом уровне — своего рода искусство, которое, как может показаться, опасно дублирует собственно литературный (художественный) ряд и становится соперницей.
И поэт восклицает: Быт обокрал моё творчество.13![]()
В рамках этой “пророческой” концепции литературы пьеса Хлебникова «Аспарух» якобы предсказала казнь Романовых. Сходным образом, акция будетлян («Пощёчина общественному вкусу») есть реализация, завершение in rе (в событии и через событие) литературной программы третьей песни «Руслана и Людмилы».14![]()
![]()
Но какова эта грядущая реальность, каков её “логос” и её скрытый смысл, сокровенный закон, который спосособна предсказать, сама не ведая о том, художественная, образная речь (mythos) в силу одного только творческого воображения?
В этом проекте привлекает даже не столько попытка найти законы времени, сколько грандиозная утопия, которую автор построил для времени с момента издания этих законов. Действительно, что происходит с историей и литературой, когда они открыты и обнародованы? Остановится ли история (последовательность человеческих поступков и мировых событий)? Расширит ли свои границы литература? Или будет влачить существование как ненужная ветошь, бесполезная прогремушка? Здесь важно установить различие между тем, что Хлебников думал, воображал, хотел, желал, во что верил — и тем, что на самом деле произошло. История не остановилась, и литература, в России и в других странах, продолжала естественно развиваться. Но Хлебников полагал, что ему довелось открыть новую систему темпоральности и, тем самым, зафиксировать конец прежней человеческой истории, сотканной из смертей, войн, насилия, революций, сражений, массовых убийств, падений империй — словом, бесконечной цепи катастроф. На его взгляд, законы времени кладут предел этим бедствиям, аннулируют старую историю и представляют её как “доисторическую эпоху”, преддверие новой истории, которую он открывает своими “скрижалями”. Обнародование законов времени означало для всего человечества окончательное прекращение гнусной и пошлой истории, конец всемирной Via dolorosa. Отныне поэт приглашает людей играть историю по числовому сценарию (согласно закону периодичности событий), извлечённому из ветхой, как бы недействительной истории, которая уступает место истории вымышленной, театральной игре вселенских размеров, в которой войны, конфликты, революции и т.д. будут разыграны, симулированы, притворны и, таким образом, прекратится их губительное воздействие. Следовательно, история останавливается, или, точнее сказать, трансформируется в серию воображаемых, вымышленных театральных событий, в священную драматургию, избавленную от смертоносных последствий любого рода. Что касается литературы, отныне бесполезной как инструмент пророчества (потому что в “конце” времени, на крутом повороте, когда время полностью преобразовано, все пророчества сбылись), она больше недействительна в своих ноэматических притязаниях, продолжает существовать в новом темпоральном порядке как чистая игра, забава, песенка беззаботная и бесполезная — нечто вроде птички Божией Пушкина. Числобог, а это никто иной как Будетлянин, изобретатель истории как воображаемой темпоральности, играет на балалайке, и этим самым творит историю, т.е. ряд событий. Человечество же “просто” просят согласиться с “партитурой” (театральной или музыкальной) и добровольно вступать в танец или хор для создания, наконец, подлинной соборности художников — “актёров” новой истории.
Эта грандиозная утопия отражает тотальное расширение и универсализацию форм вымысла. С неё начинается “излияние сновидения в реальную жизнь”.
Ни один из футуристов не покорил время. Но, включая величину-время в поэтику, они значительно изменили структуру и интерпретацию произведений. В статье «Свояси» Хлебников сравнивал литературное произведение с протянутой к живительным водам будущего чашей, а вдохновение — с дорогой будущего.16![]()
| Персональная страница Ж.-К. Ланна на www.ka2.ru | ||
| карта сайта | 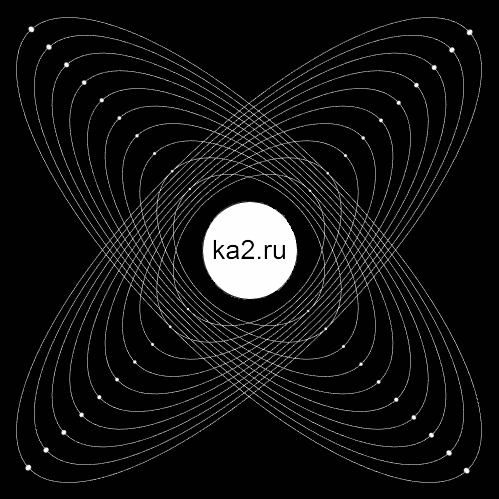 | главная страница |
| исследования | свидетельства | |
| сказания | устав | |
| Since 2004 Not for commerce vaccinate@yandex.ru | ||