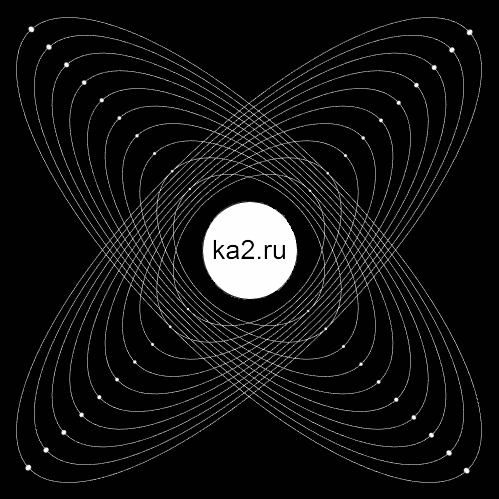Мицуко Ланн, Жан-Клод Ланн
Русский футуризм и японский авангард*
1. Хлебников и молодые японцы
В июле 1916 года между Россией и Японией был заключен договор, по условиям которого Сенат Японии обязывался направить в соседнюю империю официальную миссию во главе с принцем Кан’ин-но мия Котохито (1865–1945), бывшим руководителем Общества русско-японских связей. Затем газета «Кокумин синбун» объявила общенациональный конкурс на тему «Письма и открытки, адресованные японской молодёжью российской молодёжи». 14 сентября 1916 года были названы имена победителей. В категории писем первая премия была присуждена Сётаро Ямана; вторая — Юсукэ Мурато; третья — Тоё Морита. В этот же день японская делегация во главе с принцем Кан’ин-но мия Котохито отбыла в Россию со спецвыпуском «Кокумин синбун», в котором были напечатаны три письма представителей японской молодёжи. Два из них (первая и третья премии) были опубликованы в «Русском слове» от 21 октября 1916 г.
1
Наверняка именно письмо Мориты, призывающее русскую молодёжь „гармонизировать культуру Востока с культурой Северной Европы”, привлекло внимание В. Хлебникова и его друзей из группы «Лирень». Всерьёз восприняв призыв японцев объединить силы молодёжи двух стран для защиты нового искусства, футуристский орган «Лирень» ответил предложением о проведении всемирного конгресса молодёжи в Токио.
Вот текст2 Сётаро Ямана:
Сётаро Ямана:
Дорогая молодёжь России!
Сегодня я имею честь обратиться к вам через общество «Кокумин синбун», и счастлив этим.
Прошло более десяти лет после войны между нашими странами. Не стоит уже вспоминать далёкое прошлое, но вы можете догадаться, что я слышал много плохого о вашей стране в то время, когда мне было 11–12 лет. Думаю, то же самое было и с вами. Вспоминается история, рассказанная человеком, который побывал в вашей стране после войны. По его словам, он встретил там мальчика, который, как только узнал в нём японца, стал бросать камни в его автомобиль. При виде такого бодрого и красноречивого негодования японский путешественник почувствовал, что будущее России безоблачно, пока у неё есть такие мальчики.
Должно быть, это ты, тот прежний мальчик, полный патриотизма! Почему мы испытываем такую странную симпатию именно к вам? Потому, думается, что мы в детстве пережили войну.
Подобно тем, кто, уехав из родной страны, испытывает тоску по ней, и мы, когда-то враги, можем вступить в подлинно дружескую связь, если объединимся сейчас. Поэтому я считаю вполне естественным установление добрососедских отношений между нашими двумя странами. О, дружба между молодыми людьми, которые когда-то смотрели друг на друга с ненавистью! Я плачу от восторга. Если мы возьмём друг друга за руки, их не разорвать!
Сейчас вы едины в борьбе за отечество. Меня глубоко тронуло воспоминание о знаменитой картине «Поле трупов» посвятившего всю свою жизнь изображению ужасов войны Верещагина,
3
который трагически погиб в Порт-Артуре на броненосце «Петропавловск». Недавно я разглядывал фотографии, на которых вы заняты различными работами, выполняемыми вместо тех, кто ушёл на фронт, и был тронут и воодушевлён тем, как трудится учащаяся молодёжь.
Убеждён, что ваша страна одержит славную победу, желаю вам большого счастья и удачи во всём.
и послание Тоё Морито:
Молодёжь страны восходящего солнца — молодёжи страны белых ночей Северной Европы.
Мы часто слышим, что ваша страна — величайшее чудо нашего века. Россия — не то что другие страны Запада; короче говоря, вы — азиаты Европы, а наша страна — Запад Дальнего Востока.
Искусство необъятной равнины, коренящееся в ваших сердцах, ныне расцветает в наших восточных сердцах. Не удивительно, что глубокая любовь вашего юношества к земле вызывает такое сочувствие у нас, ваших восточных товарищей. Подобно тому, как в нашей стране слились восточная и западная культуры, вам, молодёжи России, предстоит в ближайшем будущем гармонизировать культуру Востока и культуру Северной Европы.
Ваши предки когда-то постучали в дверь нашей страны. Как жаль, что мы не пытаемся лучше понять друг друга — мы, соседи! Но эта великая война дала нам возможность без колебаний выказать друг другу наши истинные чувства дружбы.
Многие из вас в это время мужественно и решительно принимают боевое крещение на полях сражений против общего врага человечества. Когда вы одержите славную победу, колокольный звон возвестит зарю мирной России.
Итак, дорогие восточные друзья северного полушария, протяните нам руку дружбы — и мы рука об руку взойдём на поприще борьбы во имя человечества и мира во всем мире.
На это обращение Ямана и Морито В. Хлебников ответил следующим письмом, в котором со всей очевидностью проступают его личные пристрастия:
Наши далекие друзья!
Случилось так, что мне пришлось прочесть ваши письма в «Кокумине-Симбун», и я задумался, буду ли я навязчив, отвечая вам. Но я решил, что нет, и, поймав мяч, бросаю его вам, чтобы участвовать в нашей игре в мяч младших возрастов. Итак, ваша рука протянута к нам, итак, её встретила рукопожатием наша рука, и теперь обе руки юношей двух стран висят над всей Азией, как дуга Северного Сияния. Самые хорошие пожеланья рукопожатию! Я думаю, что вы о нас не знаете, но случилось так, что кажется, что вы пишете нам и о нас. Те же мысли об Азии, какие осенили вас умно и внезапно, приходили и нам в голову. Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им. Вы даже прямо говорите к юношам нашей земли и от имени юношей вашей. Это очень отвечает нашей мысли о мировых союзах юношей и о войне между возрастами. Ведь у возрастов разная походка и языки. Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском. Может быть, многое зависит от того, что юноши Азии ни разу не пожали друг другу руки и не сошлись для обмена мнениями и для суждения об общих делах. Ведь если есть понятие отечества, то есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих. Как кажется, дело заключается не в том, чтобы вмешиваться в жизнь старших, но в том, чтобы строить свою рядом с ними. То же общее, о чём мы молчим, но чувствуем, есть то, что Азия есть не только северная земля, населённая многочленом народов, но и какой-то клочок письмен, на котором должно возникнуть слово Я. Может быть, оно ещё не поставлено, тогда не должны ли общие судьбы, некоторым пером, написать очередное слово? Пусть над ним задумалась рука мирового писателя! Итак, вырвем в лесу сосну, обмакнём в чернильницу моря и напишем знак-знамя „Я-Ази”. У Азии своя воля. Если сосна сломится, возьмем Гауризанкар. Итак, возьмёмся за руки, возьмём двух-трёх индусов, даяков и подымемся из 1916 года, как кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространства, но в силу братства возрастов. Мы могли бы собраться в Токио. Ведь мы — современный Египет, поскольку можно говорить о переселении душ, а вы часто звучите как Греция древних. Когда даяк, охотник за черепами, прибьёт в хижине открытку Верещагина «Похвала войне», он присоединится к нам. Но это прекрасно, что вы бросили мяч лапты в наши сердца. Это потому хорошо, что даёт нам право сделать второй шаг, необходимый для обеих сторон и невозможный без вашего любезного начала, так как в возврате мяча заключается игра в мяч.
Весь Ваш, японские друзья, В. Хлебников
К письму были приложены конкретные вопросы, которые поэт предлагал обсудить на Азийском съезде. Их совокупность можно с уверенностью назвать восточной утопией Хлебникова. В этой импровизированной переписке “представителей японской молодёжи” и русского футуриста очевиден понятийный разрыв трактовки возможного сотрудничества. Ямана и Морито — не поэты и не футуристы. Их программа, предельно скромная, состоит главным образом из „рукопожатий” с русскими сверстниками. В лучшем случае, у лауреатов конкурса проглядывает смутное чувство некоторого сходства судеб двух стран. Япония и Россия в равной степени представляются им культурными перекрёстками (отличными от Европы, разумеется), где сходятся Восток и Запад. Хлебников же усмотрел в этих робких предложениях возможность претворения в жизнь своей сокровенной мечты об основании Азосоюза, где разовьётся новое искусство — синтез двух духовных областей человечества, наилучший образец которого — искусство русских будетлян.
Мечта Хлебникова осталась мечтой: война отнюдь не благоприятствовала воплощению его задумки, а впереди маячили революция 1917 года и гражданская война, окончательно погубившие общеазийский проект. Но поставим вопрос в другой плоскости: могла ли столь дорогая Хлебникову идея построения нового мира путём революционного преобразования поэтического языка быть воспринята его японскими собеседниками? Знали они вообще о существовании русского футуризма в 1916 году? Как будет показано ниже, сама история возникновения футуристского движения в Японии неопровержимо свидетельствует: молодые японцы в 1916 году о русском футуризме понятия не имели. Упомянутая в письме Морито „любовь к земле” — всего-навсего литературное клише, вычитанное из романов Толстого и Достоевского, весьма популярных в то время в Японии; это своего рода показатель местной приязни к “русскому мифу”. Но едва ли можно сомневаться в том, что Хлебников и его друзья-футуристы были бы весьма смущены тем, что восточные соседи в 1916 году и не подозревали об их существовании. Зато многие поэты и художники Японии знали и ценили итальянский футуризм: за выходом первого Манифеста группы, изданного Маринетти в 1909 г., последовали вдумчивые и содержательные статьи в местной прессе. Однако после 1917 года всё изменилось. Как известно, Хлебников и Маяковский остались в России, а Д. Бурлюк, „отец русского футуризма”, пересёк Сибирь и, через одиннадцать с лишним лет после перевода воззвания Маринетти на японский язык, 1 октября 1920 года прибыл в Японию. Поскольку приезд Бурлюка коренным образом изменил японский художественный ландшафт, возникает целый ряд вопросов. Во-первых, в какой мере итальянский футуризм был представлен Японии, и какова была реакция на него японских поэтов и художников? Каким образом Бурлюк мог повлиять на мнение японцев о футуризме? Удалось ли ему — публичными выступлениями и выставками своих картин — навязать им идею “русского футуризма”? Наконец, действительно ли он смог уверить страну Восходящего солнца если не в её футуристском призвании, то хотя бы в необходимости подлинно национального футуристского движения?
II. Прививка итальянского и русского футуризма к Японии
Ф.Т. Маринетти опубликовал свой «Манифест футуризма» в газете «Фигаро» (Париж, 20 февраля 1909), а итальянскую версию в журнале «Поэзия» (Милан, февраль-март 1909). В Японии, где западную культуру с усердием, доходящим до рвения, внедряли с начала эпохи Мэйдзи, художники и публика с пристальным вниманием относились ко всем зарубежным новинкам литературы и живописи. Неудивительно, что Мори Огай, мэтр японской литературы того времени, перевёл «Манифест» (миланский текст) и опубликовал его в журнале Subaru
4
от 1 мая 1909 года — т.е. всего двумя месяцами позже пионерского издания. Огай расценил творчество Маринетти как „поэзию Гюго с оттенком ницшеанской философии”,
5
и, заметив, что „на улицах Милана были установлены рекламные щиты с объявлением о Манифесте красными буквами шириной в метр и длиной в три”,
6
позволил себе нотку благожелательной иронии в адрес столь благоразумной и негромкой деятельности. По словам Утаро Нода,
Французский символизм ещё господствовал тогда в японской литературной среде; подобно литературному движению на левом берегу Сены, переходный от натурализма к эстетизму Пан-клуб развернул свою деятельность в многолюдном районе Токио, рассекаемом рекой Сумидой. В большинстве своём там не были шокированы нелепой новостью из-за океана. Не пропустили мимо ушей это известие и зависимые от Subaru поэты Пан-клуба. Надо полагать, оно стимулировало их умы и возбудило сильнейшее любопытство к новым движениям, возникающим на Западе.
7
Разумеется, поэты и художники Пан-клуба не встали тотчас в ряды футуристов. Они продолжали сочинять стихи и писать картины, в которых чувствовался некий “эстетический импрессионизм”.8 Всё так же прославлялось очарование старого Эдо, имевшего для них привкус местной, так сказать, экзотики. Было несколько причин, по которым зарубежное футуристское движение не могло быть принято японцами немедленно. Из пояснений Утаро Нода9
Всё так же прославлялось очарование старого Эдо, имевшего для них привкус местной, так сказать, экзотики. Было несколько причин, по которым зарубежное футуристское движение не могло быть принято японцами немедленно. Из пояснений Утаро Нода9 становятся ясными две, по крайней мере, тому причины. Во-первых, социальная ситуация того времени вряд ли способствовала поддержке японцами установок итальянского футуризма, воспевавшего насилие, войну и разрушение в то самое время, когда общественное мнение склонялось к либерализму, идеалами демократии и социализма. С другой стороны, японское правительство, обеспокоенное “революционным” насилием футуризма, удвоило свою бдительность. Кажется, даже деятельность Пан-клуба (без сомнения, из-за неприятной омонимии: на японском языке Пан, греческий пасторальный бог, по звучанию соответствует слову “хлеб”) попала под пристальный полицейский надзор. Другая причина скромного успеха, который поначалу сопутствовал футуризму, коренится в различиях менталитета и литературной восприимчивости европейцев и японцев. В любом случае, невозможно переоценить тот факт, что ближний круг Subaru тотчас проявил пристальный интерес к итальянскому футуризму и принял деятельное участие в распространении теории и практики этого движения посредством журналов, газет и книг.
становятся ясными две, по крайней мере, тому причины. Во-первых, социальная ситуация того времени вряд ли способствовала поддержке японцами установок итальянского футуризма, воспевавшего насилие, войну и разрушение в то самое время, когда общественное мнение склонялось к либерализму, идеалами демократии и социализма. С другой стороны, японское правительство, обеспокоенное “революционным” насилием футуризма, удвоило свою бдительность. Кажется, даже деятельность Пан-клуба (без сомнения, из-за неприятной омонимии: на японском языке Пан, греческий пасторальный бог, по звучанию соответствует слову “хлеб”) попала под пристальный полицейский надзор. Другая причина скромного успеха, который поначалу сопутствовал футуризму, коренится в различиях менталитета и литературной восприимчивости европейцев и японцев. В любом случае, невозможно переоценить тот факт, что ближний круг Subaru тотчас проявил пристальный интерес к итальянскому футуризму и принял деятельное участие в распространении теории и практики этого движения посредством журналов, газет и книг.
Начиная с японского перевода «Манифеста», количество посвящённых итальянскому движению выступлений в японской печати неуклонно росло из года в год. Тай Канбара, художник и поэт, который сам стал футуристом и более других отличился в пропаганде идей Маринетти, вспоминает о том времени:
Японское авангардное искусство кажется мне детищем благоприятной эпохи, а не движением повстанцев. Однако появление футуризма и кубизма в Японии представляет собой, как я думаю сейчас, нечто необыкновенное. В Японии всё началось с очень серьёзных людей, с научных исследований по теории, критике, истории и практике западного авангардного искусства. Это совершенно противоположно такому положению дел, когда практика предшествует теории.
10
Футуризм в Японии до приезда Д. Бурлюка шёл по стопам итальянцев. Вряд ли это вызовет удивление: именно тогда Европа (главным образом, Франция) представлялась японцам Меккой мировой культуры. Яростная итало-русская полемика 1913–1914 годов о первенстве русского футуризма или его итальянского аналога была полностью проигнорирована. Японцы приложили значительные усилия к осмыслению нового авангардного движения. Однако это не означает, что критики были единодушно благожелательны: Сохати Кимура, например, чётко заявил, что „футуристское искусство ущербно по сути”,11 а К. Саваки, проанализировав приёмы импрессионизма, кубизма и футуризма, заключил, что он „без малейшего колебания рассматривает футуризм как разновидность шарлатанства”.12
а К. Саваки, проанализировав приёмы импрессионизма, кубизма и футуризма, заключил, что он „без малейшего колебания рассматривает футуризм как разновидность шарлатанства”.12
Русское футуристское движение в области живописи японцам стало известно довольно рано: художник Канаэ Ямамото,13 будучи проездом в Москве, посетил выставку «Бубнового валета» (ноябрь 1916) и написал о ней статью.14
будучи проездом в Москве, посетил выставку «Бубнового валета» (ноябрь 1916) и написал о ней статью.14 Он не выразил особого восхищения революционным опытом супрематистов (Малевича, Клюна и др.) и больше никогда не упоминал живописцев, которых открыл для себя на этой выставке.15
Он не выразил особого восхищения революционным опытом супрематистов (Малевича, Клюна и др.) и больше никогда не упоминал живописцев, которых открыл для себя на этой выставке.15 Только в 1919 году русское футуристское движение было представлено читающей публике, причём под весьма необычным углом зрения на эволюцию его политических и социальных идей. Речь идёт о книге Kagekiha (Экстремисты),16
Только в 1919 году русское футуристское движение было представлено читающей публике, причём под весьма необычным углом зрения на эволюцию его политических и социальных идей. Речь идёт о книге Kagekiha (Экстремисты),16 написанной в то время, когда свобода мысли и высказываний была строго ограничена. Многие страницы её изуродованы цензурой, но, повторяем, это первая работа, где японскому читателю сообщается о русском футуризме как таковом. Рассмотрены, главным образом, политические и социальные идеи „экстремистов”; более других заслуживает внимания четвёртая глава, посвящённая их творческой деятельности. Объём главы составляет не более десятой части книги, это краткий очерк поэтапного проникновения радикальных идей в русскую литературу, а также беглый обзор деятельности русских футуристов. После заявления о том, что „футуризм был движением, впервые появившимся в Северной Италии”,17
написанной в то время, когда свобода мысли и высказываний была строго ограничена. Многие страницы её изуродованы цензурой, но, повторяем, это первая работа, где японскому читателю сообщается о русском футуризме как таковом. Рассмотрены, главным образом, политические и социальные идеи „экстремистов”; более других заслуживает внимания четвёртая глава, посвящённая их творческой деятельности. Объём главы составляет не более десятой части книги, это краткий очерк поэтапного проникновения радикальных идей в русскую литературу, а также беглый обзор деятельности русских футуристов. После заявления о том, что „футуризм был движением, впервые появившимся в Северной Италии”,17 а „его программа разрушения, полагаемая немцами и англосаксами бессмысленной, была восторженно принята молодым славянским миром, склонным к излишествам”,18
а „его программа разрушения, полагаемая немцами и англосаксами бессмысленной, была восторженно принята молодым славянским миром, склонным к излишествам”,18 автор приводит названия провокационных стихов Кручёных и Северянина и упоминает о публичном скандале.19
автор приводит названия провокационных стихов Кручёных и Северянина и упоминает о публичном скандале.19 Настаивая на анекдотической сути движения, автор называет расхожими темами русских художников-футуристов самолёт, автомобиль, электричество и т.п. Короче говоря, принцип их философии состоит в восстании против разума, сопровождаемом „радостью разрушения”.20
Настаивая на анекдотической сути движения, автор называет расхожими темами русских художников-футуристов самолёт, автомобиль, электричество и т.п. Короче говоря, принцип их философии состоит в восстании против разума, сопровождаемом „радостью разрушения”.20 Таким образом, четыре страницы, посвящённые русскому футуризму, раскрывают его идеи не совсем объективно, мягко говоря. Но, что удивительно, автор, устанавливая причинно-следственную связь между общественным укладом и художественной мыслью России, пророчествует о судьбах местных футуристов:
Таким образом, четыре страницы, посвящённые русскому футуризму, раскрывают его идеи не совсем объективно, мягко говоря. Но, что удивительно, автор, устанавливая причинно-следственную связь между общественным укладом и художественной мыслью России, пророчествует о судьбах местных футуристов:
Разрушение в искусстве ведёт к анархизму, стремящемуся к абсолютной свободе. Сотрудничество футуристского движения с большевистской социальной революцией продлится лишь до тех пор, пока не будут отброшены все прежние договорённости.
21
Если утверждение, что „Ленин стоит за истребление всех паразитических прослоек в угоду рабочему классу” и, следовательно, „его сторонники развязали гонения на художников”
22
кажется преувеличением, то вывод автора не лишен интереса:
Я уверен, что в дальнейшем большевистский строй, в той или иной форме, породит и философию большевизма, которая объяснит его сущность, и большевистскую литературу, которая превратит его теорию в искусство.
23
В следующем году появилась ещё одна статья24 о русском футуризме, автор которой Син Катагами вернулся из России в апреле 1918 года после трёхлетнего в ней пребывания. Статья представляет тройной интерес: во-первых, мы узнаём, что лекция Владимира Гольцшмидта, русского поэта-футуриста, состоялась в Японии во время чаепития в Cercle d’Etudes russes (Кружке русских исследований) 2 января 1920 года. Во-вторых, автор, желая ознакомить японского читателя с этим футуристом, раскрывает содержание листовки, рекламирующей конференцию, организованную Гольцшмидтом 27 марта 1917 года в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Наконец, Катагами выявляет некоторые общие для всех русских футуристов черты: разрушение условных поэтических форм, отказ от привычных поэтических терминов и выражений (т.е. от всего привычно “поэтического”) и создание новых слов, не забывая при этом отметить смутный мистико-анархический аспект движения в целом.
о русском футуризме, автор которой Син Катагами вернулся из России в апреле 1918 года после трёхлетнего в ней пребывания. Статья представляет тройной интерес: во-первых, мы узнаём, что лекция Владимира Гольцшмидта, русского поэта-футуриста, состоялась в Японии во время чаепития в Cercle d’Etudes russes (Кружке русских исследований) 2 января 1920 года. Во-вторых, автор, желая ознакомить японского читателя с этим футуристом, раскрывает содержание листовки, рекламирующей конференцию, организованную Гольцшмидтом 27 марта 1917 года в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Наконец, Катагами выявляет некоторые общие для всех русских футуристов черты: разрушение условных поэтических форм, отказ от привычных поэтических терминов и выражений (т.е. от всего привычно “поэтического”) и создание новых слов, не забывая при этом отметить смутный мистико-анархический аспект движения в целом.
Наряду с пассивной стороной восприятия, японские художники в собственном творчестве обнаружили способность к переосмыслению и активному претворению заимствований в свои произведения.
Естественно, первыми на появление футуризма отреагировали художники. Если судить по довольно резкой критике, опубликованной в журнале Kokka,25 молодые художники из группы Fusan увлеклись кубизмом и футуризмом ещё в 1912 году. С. Савамура, главный редактор журнала, встретил это визуальное поветрие довольно холодно:
молодые художники из группы Fusan увлеклись кубизмом и футуризмом ещё в 1912 году. С. Савамура, главный редактор журнала, встретил это визуальное поветрие довольно холодно:
Мне кажется, что кубизм и футуризм — движения, которые довольствуются лишь стремлением блеснуть новинками. Увы, я не испытываю никакой симпатии к поделкам этих эпигонов.
26
Справедлива она или нет, такого рода критика свидетельствует о наличии активных сторонников кубизма и футуризма уже на первых порах. Однако сама непосредственность реакции ставит под сомнение глубину усвоения новаторских идей. В апреле 1915 г. из книги «Pittura, scultura futuriste — Dinamismo plastico» Боччони была переведена глава «De l’impressionisme au futurisme».
27
Тай Канбара, уже знакомый с творчеством художников-кубистов по произведениям Аполлинера, был потрясён её содержанием. Он заказал оригинальную книгу Боччони и написал письмо Маринетти. Так началась его переписка с лидером итальянского футуризма. Канбара и его единомышленник Сэйдзи Того, вооружившись новой теорией и овладев техникой дела, дали свои “футуристские” работы на четвёртую выставку Nikakai в сентябре 1917 г.
28
Во время пятой выставки (1918) к развеске Канбары и Того присоединил свои полотна Сатору Фумон. Наконец, в сентябре 1920 г. Фумоном, Ито, Киноситой и другими было основано Miraiha bizyutu kyookai (Association de l’art futuriste / Товарищество футуристского искусства), устроившее свою первую выставку в Гинзе 16–25 сентября 1920 г. Таким образом, в Японии к прибытию Д. Бурлюка не только хорошо разбирались в основных положениях футуризма, — его ждала благоприятная почва, позволившая с успехом развернуть пропагандистскую деятельность.
III. Приезд Бурлюка и Пальмова в Японию. Выставки и манифесты
О приезде в Японию “отца русского футуризма” и его спутника Виктора Пальмова было сообщено в нескольких газетах,
29
кое-где даже опубликовали фотоснимки с пояснительными подписями.
Гости устроили с 14 по 23 октября в токийском пригороде Кёобаси «Первую выставку русской живописи в Японии», о чём уведомлялось в двух газетах.30 В каталоге, предваряемом текстами Хакутэя Исии,31
В каталоге, предваряемом текстами Хакутэя Исии,31 Бурлюка и Пальмова, приводится список из 473 картин 28 живописцев. Бурлюк был представлен 150 полотнами, Пальмов — 63. Выставлялись три картины Каменского, одна Малевича, две Татлина и двадцать три Владимира Бурлюка. В своём предисловии Бурлюк и Пальмов были предельно скромны:
Бурлюка и Пальмова, приводится список из 473 картин 28 живописцев. Бурлюк был представлен 150 полотнами, Пальмов — 63. Выставлялись три картины Каменского, одна Малевича, две Татлина и двадцать три Владимира Бурлюка. В своём предисловии Бурлюк и Пальмов были предельно скромны:
Цель нашего визита в Японию — установить непосредственный контакт с этой страной, о которой мы мечтали и которую хотели нарисовать, и в то же время показать своё искусство японской публике.
Поскольку в Японии картины западного авангарда в то время знали только по репродукциям, выставка Бурлюка сама по себе явилась экстраординарным событием: впервые можно было увидеть подлинники.
Хотя Бурлюк с гордостью заявлял, что „русский футуризм представляет собой синтез учения итальянского футуризма, принципов школы Кандинского, символизма и кубизма”,32 отзывы о представленных им картинах благоприятными назвать трудно:
отзывы о представленных им картинах благоприятными назвать трудно:
По мнению футуристов, “поэта-живописца” следует изгнать; они отказываются от лирики и преклоняются перед наукой и философией, как перед высшей мудростью; “философ-живописец” — вот идеал футуристов. Очевидно, Бурлюк пытается удивить футуристской замашкой, но, по сравнению с теорией „динамизма”, продвигаемой Маринетти и Боччони, он весьма далёк от идеалов футуризма. На мой взгляд, этот художник просто фиксирует кистью свой эмоционально-двигательный лиризм. В произведениях господина Бурлюка, предстающего именно русским поэтом, обнаруживается буйная фантазия, странная гармония и чрезмерные контрасты, которых нет у наших живописцев. Чувствуется честная и простая доброта.
33
Вообще говоря, картины Пальмова ценились выше картин Бурлюка;
34
прочие экспоненты интереса не вызвали.
35
Хакутэй Исии написал большую статью «Первая выставка русской живописи в Японии».
36
Сообщая свои впечатления от той или иной картины Бурлюка, Пальмова и др., Исии признавал, что местные художники ещё не готовы писать, как эти русские.
37
В заключении он обратился к японским художникам-футуристам:
Благодаря этой выставке мы смогли ознакомиться с подлинниками футуристов. Надо полагать, японские художники-футуристы накрепко усвоили, что никогда не добьются успеха, пока не разовьют в себе способность изображать видимый мир таким, каков он есть.
38
Мы уже упоминали в предыдущей главе об учреждении под влиянием итальянского футуризма «Товарищества футуристского искусства» — объединения художников, занимавшихся станкóвой живописью по западным методикам. Нелишне отметить, что футуризм проявился и в традиционной японской живописи. Чистое совпадение, но с 15 октября 1920 года Тикуха Отаке и его сподвижники из Hakkakai (Les huit feux / Восемь огней) организовали выставку протеста против выставки Императорского института изящных искусств. „Все эти футуристские произведения японской живописи заслуживают внимания”, — сказано в Yorozu tyohoo в статье от 15 октября, озаглавленной «Футуристы японской живописи». Далее читаем: „Русские художники-футуристы, приглашённые господином Тикухой Отаке, берут японскую кисть и краски”, т.е. отношения между приезжими художниками и футуристами японской школы были тёплыми. В какой степени они могли повлиять друг на друга, современное состояние исследований не позволяет определить с уверенностью.
По прибытии Д. Бурлюк откровенно заявил, что он здесь проездом в США, однако сумел воспользоваться временем визита (1 октября 1920 г. – 18 августа 1922 г.) самым энергичным образом. Он писал японские пейзажи и портреты японцев, принимал участие в выставках местных художников и организовывал свои, где только мог. Мы рассмотрим его деятельность в хронологическом порядке.39 Проведя зиму 1920–1921 гг. на островах Бонин, Бурлюк устроил (1–4 апреля 1921, Токио) выставку своих картин, написанных там. За несколькими футуристскими исключениями, картины вполне реалистичны.40
Проведя зиму 1920–1921 гг. на островах Бонин, Бурлюк устроил (1–4 апреля 1921, Токио) выставку своих картин, написанных там. За несколькими футуристскими исключениями, картины вполне реалистичны.40 В конце апреля 1921 г. он устроил ещё одну выставку в Киото; точная дата и перечень представленных работ остаются неизвестными. Говорят, что несколько картин были куплены членом императорской семьи и Сейху Такеути, выдающимся мастером классической японской живописи. Бурлюк дал пять полотен на восьмую выставку Nikakai в сентябре 1921 года и ещё семнадцать для второй выставки японского «Товарищества футуристского искусства», проходившей в Уэно близ Токио 14–18 октября 1921 года. Эта выставка стала решающей в истории японского футуристского движения в живописи. Количество работ, представленных на конкурс, организованный «Товариществом», достигло 452, из них было отобрано 26. Если сравнить количество участников и работ на первой его выставке (22 и 38 соответственно) с аналогичными показателями второй (31 и 72),41
В конце апреля 1921 г. он устроил ещё одну выставку в Киото; точная дата и перечень представленных работ остаются неизвестными. Говорят, что несколько картин были куплены членом императорской семьи и Сейху Такеути, выдающимся мастером классической японской живописи. Бурлюк дал пять полотен на восьмую выставку Nikakai в сентябре 1921 года и ещё семнадцать для второй выставки японского «Товарищества футуристского искусства», проходившей в Уэно близ Токио 14–18 октября 1921 года. Эта выставка стала решающей в истории японского футуристского движения в живописи. Количество работ, представленных на конкурс, организованный «Товариществом», достигло 452, из них было отобрано 26. Если сравнить количество участников и работ на первой его выставке (22 и 38 соответственно) с аналогичными показателями второй (31 и 72),41 можно убедиться не только в прогрессе футуристской живописи. Две картины Бурлюка, «Искусство Достоевского» и «Фудзи-сан», были куплены немедленно. В газетах появились статьи в поддержку этой выставки.42
можно убедиться не только в прогрессе футуристской живописи. Две картины Бурлюка, «Искусство Достоевского» и «Фудзи-сан», были куплены немедленно. В газетах появились статьи в поддержку этой выставки.42 Позже (13–17 ноября 1921) она переехала в Осаку (со значительными изменениями: Сатору Фумон добавил свои картины и разместил их в центре зала), затем в Нагою (24–29 ноября 1921), где была проведена первая конференцию по выработке Манифеста японского футуризма. Киносита говорил там о футуристском искусстве, а Бурлюк выступил с речью под названием «Лошадь на щеке», содержание которой, увы, неизвестно. Перед убытием из Японии Бурлюк устроил ещё две выставки: в Фукуоке (11–15 февраля 1922) и Осаке (10–14 мая 1922).
Позже (13–17 ноября 1921) она переехала в Осаку (со значительными изменениями: Сатору Фумон добавил свои картины и разместил их в центре зала), затем в Нагою (24–29 ноября 1921), где была проведена первая конференцию по выработке Манифеста японского футуризма. Киносита говорил там о футуристском искусстве, а Бурлюк выступил с речью под названием «Лошадь на щеке», содержание которой, увы, неизвестно. Перед убытием из Японии Бурлюк устроил ещё две выставки: в Фукуоке (11–15 февраля 1922) и Осаке (10–14 мая 1922).
Таким образом, не подлежит сомнению: своей деятельностью и связями с японскими художественными кругами Бурлюк популяризировал футуристское искусство среди населения страны и стимулировал японскую футуристскую живопись. Книга, которую Киносита написал, взяв за основу художественные идеи Бурлюка и попытавшись воплотить их с величайшей точностью, Miraiha to wa? — Kotaeru (Qu’est-ce que le futurisme? Voici notre réponse / Что такое футуризм? Вот наш ответ»),43 стала “библией футуризма”.44
стала “библией футуризма”.44 Состоит она из трёх частей: «О концепции футуристской живописи» (стр. 5–116), «Принципы футуристской живописи» (стр. 117–164) и «Размышления о линии и цвете» (стр. 165–263). В первой части развитие искусства прослеживается с исторической и эстетической точки зрения вплоть до футуризма. Особый интерес представляет глава «От исторической системы к футуризму» (стр. 56–111), где автор точкой отсчёта изобразительного искусства избирает наскальную живопись.
Состоит она из трёх частей: «О концепции футуристской живописи» (стр. 5–116), «Принципы футуристской живописи» (стр. 117–164) и «Размышления о линии и цвете» (стр. 165–263). В первой части развитие искусства прослеживается с исторической и эстетической точки зрения вплоть до футуризма. Особый интерес представляет глава «От исторической системы к футуризму» (стр. 56–111), где автор точкой отсчёта изобразительного искусства избирает наскальную живопись.
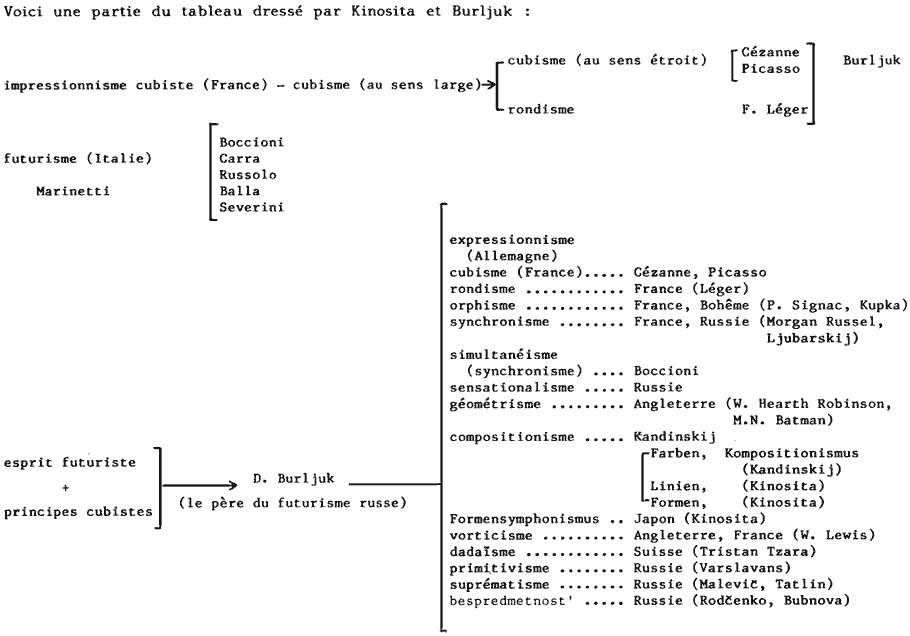
Как видно из таблицы, поясняющей разработанную Киноситой историческую систему, Бурлюк воплощает едва ли все школы современного искусства:
Сегодня, выйдя из кубизма, множатся новейшие школы — экспрессионизм в Германии, например, — но, в последнем приближении, все они сводятся к живописи кубистского и футуристского направления. Сегодня живопись свободна. Она — лишь отражение оригинальности и субъективизма самого художника. Футуризм, кубизм, «Синий всадник» Кандинского (экспрессионизм в широком смысле) — всё это заключено в футуризме Бурлюка, что непреложно доказывают его произведения. Поэтому не следует забывать, что все новые школы живописи сегодня представлены одним словом: футуризм или экспрессионизм.
45
Во второй части книги философия линии и формы рассматривается в разрезе вортицизма, кубизма, рондизма и футуризма: „Если кто-то пытается выразить все вещи мира, он делает это посредством прямой линии, сферы, конуса и куба. Это метод футуристов и их принцип”.46 В третьей части произведён технический анализ музыкальной гармонии и ритма линии и цвета. („Короче говоря, я утверждаю, что самое важное для живописца — композиция”.47
В третьей части произведён технический анализ музыкальной гармонии и ритма линии и цвета. („Короче говоря, я утверждаю, что самое важное для живописца — композиция”.47 ) Говоря о проблеме перспективы, автор заключает:
) Говоря о проблеме перспективы, автор заключает:
Футуристское искусство, в котором осознание времени и ощущение пространства тесно переплетены, отказывается рассматривать их порознь. Оно вносит в живопись, которая до сих пор считалась пространственным искусством, чувство времени. Пространство, перспектива, время, все предметы и все явления природы имеют полную свободу в творчестве нас, живописцев-футуристов. Таким образом, я утверждаю, что футуризм сегодня — не голая выдумка, но сама жизнь.
48
После убытия Бурлюка японские футуристы провели свою третью выставку, на этот раз названную «Независимая выставка Sanka». Здесь слово sanka (поколение внуков) противопоставляется слову nika (поколение детей). Выставка состояла из 54 картин и 8 скульптур, выполненных 35 художниками. Киносита прислал на неё семь картин, три из которых («Деконструкция», «Битва в цветовой гамме», «Кубист и Рундизм»), носят явные следы влияния художественных концепций Бурлюка.49 В 1923 году Томоёси Мураяма50
В 1923 году Томоёси Мураяма50 и некоторые другие члены «Товарищества футуристского искусства» учредили новую группу MAVO,51
и некоторые другие члены «Товарищества футуристского искусства» учредили новую группу MAVO,51 которая с декабря 1924 года занялась театральной декорацией, совершенно новым жанром для живописцев «Товарищества». В сентябре 1924 года Киносита основал авангардную группу «Товарищество искусства Sanka», в которую вошли несколько групп, в том числе крайне левая MAVO и умеренная Action.52
которая с декабря 1924 года занялась театральной декорацией, совершенно новым жанром для живописцев «Товарищества». В сентябре 1924 года Киносита основал авангардную группу «Товарищество искусства Sanka», в которую вошли несколько групп, в том числе крайне левая MAVO и умеренная Action.52
Таким образом, с тех пор как «Товарищество футуристского искусства» было в 1923 году упразднено, движение художников-футуристов, изменяясь, развивалось в контакте с другими авангардными движениями.
Не следует забывать, что и во время пребывания Бурлюка на Японских островах, и после его отъезда в США итальянский футуризм победно шествовал по Японии, о чём свидетельствует заметный рост числа статей Тая Канбары. Канбара опубликовал манифест под названием Daiikkai Kanbara Tai sengensyo (Premier Manifeste de Kanbara Tai / Первый манифест Тая Канбары), который считается первым воззванием японского авангарда. Опубликованный по случаю выставки его собственных работ в октябре 1920 года, этот 43-страничный текст, содержащий двенадцать статей, с очевидностью стремится превзойти лозунги итальянских футуристов:
Я указываю на явную разницу между мной и итальянскими футуристами, пытавшимися осуществить поверхностное разложение, а затем синтез движений ‹...› Мне не нужно ни выражать вещи в движении, ни вычислять пространство и время, которое они пересекают; это значит выразить непосредственно любовью и интуицией движение самой жизни, которая тает в неотделимой от меня атмосфере и безостановочно циркулирует там.
53
В начальный период проникновения итальянского футуризма внимание японцев было обращено, главным образом, на идеологическую, художественную и поэтическую стороны движения. С опубликованием газетой Ningen (L’Homme / Человек) в марте 1921 года полного перевода Канбарой «Электрических кукол» Маринетти, возник интерес и к футуристскому театру. В газете Yomiuri от 19 марта 1921 г. Канбара напечатал статью «Об «Электрических куклах», а в Gendai no bizyutu (L’Art contemporain / Современное искусство») — «Ещё об «Электрических куклах» (октябрь 1921). В 1923 г. Канбара написал ещё две статьи: «Футуристский театр» (Sintyoo, март 1923) и «О футуристском театре» (Asahi, апрель 1923). Канбара вводит в оборот понятия „синтетический футуристский театр” и „театр неожиданности”, переводя такие пьесы, как «Одновременность» (1915), «Они придут» (1915) и «Декламация военной поэмы + Сладострастное танго» (1922) Маринетти, «Ревизионная комиссия» (1916) Канильо и др. Следует отметить, что друг Канбары, Сейдзи Того, принимал непосредственное участие в мероприятиях итальянских футуристов (Болонья, 1922). Поэма Канбары «Шоссе в полдень» была опубликована в Noi (август 1923); Канбара, Того и Мураяма упоминаются как „товарищи-футуристы из Токио” в «Мировом футуризме Маринетти» (1924).
Как это с очевидностью следует из сказанного выше, деятельность Д. Бурлюка в Японии ограничена областью живописи. Нет ни прямых, ни косвенных доказательств того, что Бурлюк делал рекламу русским поэтам-футуристам; языковой барьер объясняет это удивительное молчание. О самом существовании и особенностях русской футуристской поэзии стало известно вскоре после его убытия.
IV. Начало изучения русского футуризма в Японии
В сентябре 1921 года «Кружок изучения русской литературы» основал журнал Rosia bungaku (La littérature russe / Русская литература), где читателю была представлена поэзия Пушкина и Блока. Майский выпуск 1922 г. пестрел именами Волошина, Чулкова, Городецкого, Северянина, Лохвицкой, Столицы, Ахматовой, Соловьёва, Рюмина, Гумилёва. В томике Sizin kessaku syuu (Les chefs-d’oeuvre des poètes / Шедевры поэтов)
54
дали слово символистам, акмеистам и Есенину. В ноябрьском номере авангардного журнала Eppoku (L’Epoque / Эпоха) за 1922 год некто Уссурийский набросал первую более или менее развёрнутую картину современной русской поэзии:
55
Кстати, что такое модерн в России? Современные течения в искусстве Советской России — это имажинизм и экспрессионизм; оба порождены пролетарским искусством, это коммунизм в литературе. Нельзя сказать, что имажинизм и экспрессионизм уже сделались мировыми течениями, но и типично русскими их не назовёшь: налицо американский имажинизм и немецкий экспрессионизм. Но, прежде чем рассуждать о причинах, толкнувших русский художественный мир на этот путь, следует помнить о периоде испытаний, через которые прошла Россия.
Кратко опишу новые поэтические течения от краха царизма до наших дней. В последние годы старого режима в художественном мире доминировал символизм, но С. Городецкий и некоторые другие поэты положили начало акмеизму, который проторил путь новому искусству в стране. Футуризм, завезённый почти в то же время из Италии, укоренившись в России, стал развиваться как “русский футуризм” со своим оттенком, отличавшим его от итальянского тёзки. Футуризм изначально был итальянским течением. По своей эстетике (искусство шумов, радость разрушения и т.п.) итальянское движение показало себя вполне материалистическим, как это видно из «Технического манифеста футуристской литературы», опубликованного Маринетти в 1912 г., а также из «Манифеста художников-футуристов». Русский футуризм, напротив, был окутан атмосферой мистики — возможно, под влиянием той идеологии, которая была основой национального духа. Тем не менее, поскольку он унаследовал принципы и приёмы итальянского футуризма, то начал с создания искусства города, воспевая в стихах самолёт, автомобиль и т.п. Если итальянский футуризм поначалу был уделом живописцев, то в России движение заявило о себе главным образом в области поэзии.
Как только это новое искусство пропиталось русским народным духом, в Петрограде возник эго-футуризм, а в Москве кубо-футуризм. Первый был склонен превозносить современную цивилизацию, скорость; второй упивался разрушением гармонии и поэтической симметрии, славя всеобщее разрушение, как это наблюдаем и в новоявленном дадаизме. Футуристы привлекли внимание публики главным образом тем, что ходили особенной походкой и носили причудливые наряды. Отметим в связи с этим имена Кручёных и Северянина.
Однако на фоне высокого русского искусства это движение было малозаметно, по крайней мере, на первых порах. Элита поэтических кругов того времени, модернисты Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Мережковский, Белый, Блок, Иванов, Бунин и т.д. оставались властителями умов, хотя и раздавались голоса, что их творчество зашло в тупик. Рядом с ними футуристы выглядели подмастерьями.
Революция 1917 года всё перевернула вверх дном. В течение четырёх лет, с 1917 по 1921 год, русский художественный мир лишился былого великолепия, это были руины после сокрушительной бури. Но русских футуристов возвысили, чтобы заложить основы пролетарского искусства, соответствующего политической строю. Подчеркнём здесь, что постреволюционный футуризм отличается от футуризма последних лет российского самодержавия.
В то время как почти все авторы оказались в незавидном положении, молодые поэты-футуристы пользуются относительной благосклонностью власти Советов, поскольку их идеи отличаются крайней левизной; с другой стороны, они кажутся незаменимым подспорьем политики Советского правительства. Эмигрировал поэт-футурист И. Северянин, нет никаких известий о Кручёных, но мы видели возвышение Маяковского, Каменского, Хлебникова и Асеева, которые дружно воспевают революционный энтузиазм, выпускают воззвания, рисуют плакаты. Хлебников освободил язык и осмелился заменить поэтические слова бытовыми ‹...›.
Футуристы изменили своим идеалам ради новой России: это уже не разрушение, искусство шумов или красота движения ‹...› Вот что значит создавать настоящее революционное искусство, искусство класса, который соответствует эстетическому запросу и тайным надеждам пролетария! Таким образом, русское футуристское искусство отражает революцию ‹...› Возможно, благодаря этим молодым поэтам футуризм станет школой будущего России.
56
В апреле 1923 г. вышел Roonoo Rosia sisyuu (Recueil de poèmes de la Russie soviétique / Сборник стихов Советской России). Взяв за основу напечатанные в Берлине Borisyewiki zidai no si (Poèmes de l’époque bolchevique / Стихи эпохи большевиков), составитель свёл под одной обложкой переводы на японский язык символистов Блока («Двенадцать», «Скифы»), Андрея Белого («Христос воскресе»), Брюсова, футуристов Каменского («Декрет о заборной литературе, о росписи улиц, о балконах с музыкой, о карнавалах искусств», «Его-моя биография великого футуриста»), Маяковского (отрывки из «Облака в штанах» и «150 000 000»), Хлебникова («Воззвание Председателей земного шара»), Пастернака, имажинистов Есенина («Инония»), Мариенгофа, Александровского, Ивнева и других. В предисловии читаем о Хлебникове:
Незадолго до Первой мировой войны футуристы обнародовали воззвание, в котором бросили дерзкий вызов классическому искусству. Этот манифест показал, что футуризм — не досужая прихоть, а новое видение мира. Вызывающе одеваясь и устраивая скандалы, футуристы вскоре навлекли на себя гнев публики. Несмотря на это, они всё-таки сумели добиться её признания — главным образом, благодаря Хлебникову, мужественному борцу за свои убеждения.
У Хлебникова своеобразный подход к людям. Нет ни хороших, ни плохих, ни богатых, ни бедных. Есть только изобретатели с одной стороны, и приобретатели — с другой. Именно в отношениях между этими антагонистами рассматриваются социальные проблемы человечества, религия и нравственность. Поэт уверен, что горизонт воображения будет расширяться до бесконечности.
„Он заимствовал эту идею из утопии Уэллса: тот выдумал “машину времени”, а Хлебников мечтает о „молодёжи мира”. Это состояние похоже на конденсатор творческой энергии человечества, где специальная стража защищает изобретения от их использования в коммерческих целях. Идеологическая война становится войной стали, война изобретений и эксплуатации — войной разума и вдохновения, последняя в конце концов превращается в войну науки и искусства. Таким образом, в надежде на светлое будущее он считает, что настало время, когда людям следует задуматься о покорении звёзд”, — пишет Н. Асеев.
Хлебников, как и Блок, умер внезапно. Оплакивая его смерть, Л. Троцкий пишет: Хлебников — персонаж, которому следует посвятить главу в новой истории русской литературы. Он был истинным вождём футуризма и его создателем.
57
В мае 1928 г. Сёму Нобору опубликовал Kakumeigo no Rosia bungaku (La littérature russe après la révolution / Русская литература после революции),58 в которой находим посвящённую футуризму и его поэтам главу. Объём её невелик (12 из 348 страниц книги), бóльшая часть отведена Хлебникову. Прежде чем цитировать произведения четырёх поэтов-футуристов — Маяковского, Пастернака, Асеева, С. Третьякова — за 1917–1922 годы, автор останавливается на Хлебникове:
в которой находим посвящённую футуризму и его поэтам главу. Объём её невелик (12 из 348 страниц книги), бóльшая часть отведена Хлебникову. Прежде чем цитировать произведения четырёх поэтов-футуристов — Маяковского, Пастернака, Асеева, С. Третьякова — за 1917–1922 годы, автор останавливается на Хлебникове:
I. Среди русских футуристских школ, доминировавших после революции, наиболее значительны так называемые кубо-футуристы, известные ещё и как заумники. Эта группа показала свою серьёзность, занимаясь проблемами поэтической техники, которая отвечала бы велениям времени. Само их название ясно говорит о стремлении дать поэзии более совершенный словесный материал, нежели наличествующий в обыденном языке. С их точки зрения, стихи на зауми — попытка превзойти разум. Именно в этом заключается сильная сторона кубо-футуристов. Поэзия — искусство слова, живопись — искусство цвета и линии. Заумник радеет о том, чтобы извлечь из языка возможности, ранее скрытые, не пользуясь при этом языком повседневным или научным. Есть много слов, которые не были созданы народом просто потому, что в этом не было надобности. Поэт, которому нужны самые точные, самые строгие и самые образные выражения, имеет право самостоятельно создать язык, сообразный лично своему духовному и ментальному складу. Так поступает, например, Хлебников, выводя из одного корня бесчисленные существительные и глаголы ‹...›. Поэт имеет право быть изобретателем в области языка, ибо слово — основной материал его поэзии.
II. Однако эти принципы, приемлемые в теории, становятся крайне опасными, стоит их применить на деле. Поэзия как искусство выражает “я” поэта и помогает ему объяснить себя самому себе (теория Потебни). Но поэзия как искусство ценна лишь в той мере, в какой сообщает читателю нечто доступное восприятию. В крайнем случае, поэт как специалист адресуется к ограниченному кругу читателей (учёный, обращаясь к узкому кругу профессионалов, поступает именно так). Но если поэзия не воспринимается и там, она утрачивает право на существование. Стихотворение, которое понимает лишь его автор и горстка единомышленников, глубоко антиобщественно. Таким образом, в “создании языка” и “преобразовании” его поэт не должен выходить за известные пределы. Даже если читателям нужна некоторая подготовка (овладение родным языком автора, например), чем больше их, тем ценнее произведение. Однако заумники писали поначалу стихи, понятные только им самим, заботясь лишь о каркасе, облекаемом неологизмами. Критики отказались от попыток усвоить этот новый язык. Публика была поражена. Дальше стало ещё хуже. Изобретая язык, заумники подразумевали принципиальное тождество изобразительной и ментальной его сторон (Н. Бурлюк и др.). Они были уверены, что в поэзии типографика равновелика выбору слов. Тексты заумников напечатаны таким образом, что одни слова крупнее, другие мельче, те покосились, а эти вовсе вверх тормашками. Назначение этих трюков трудно понять. Конструирование языка требует не только гениальности, острейшего чувства слова, но и сведений в лингвистике. У большинства заумников багаж таких знаний был крайне скуден, и они, кроме нечленораздельных или даже непроизносимых слов, ничего не создали.
III. Феномен зауми по времени совпадает с возникновением футуризма и длится на протяжении всего пятилетия 1917–1922 гг. Свою деятельность заумники полностью посвятили внедрению новоявленной поэтической формы. Наибольший эффект среди адептов этой школы произвел покойный В. Хлебников, которого его товарищи считали мэтром. Он действительно был единственным, кто соединил в себе особый дар словотворчества, несомненный поэтический гений и обширные научные познания. Даже если язык Хлебникова предлагает множество чисто лингвистических парадоксов, его труд, взятый в совокупности, — королевский дар литературе. Эпическая поэма «Зангези» (1922) — несомненный шедевр. Преобразовав структуру языка и выявив в нём элементы, которые никогда прежде не использовались в достаточной для поэтического творчества мере, ему удалось выработать приёмы, с помощью которой язык сам по себе создавал требуемый художественный эффект. И он тем больше преуспевал в этом предприятии, чем с меньшим усилием его понимал читатель. Разумеется, нельзя утверждать, что эта техника увенчала миссию заумников, но она позволила двинуться в нужном направлении. С другой стороны, произведения ближайших сподвижников Хлебникова — пьесы Петникова, стихи Кручёных, эссе Каменского, Зданевича, Н. и Д. Бурлюков — очевидные провалы. В период 1917–1922 гг. один только Хлебников двигался вперёд, его товарищи топтались на месте, повторяя в своих опусах то московские, то тифлисские типографские штучки.
IV. Однако плодотворность идей Хлебникова не может измеряться только личными успехами на литературном поприще. Его воззрения постепенно пропитали всё искусство русского футуризма. Ныне основной принцип этого движения таков: поскольку язык есть поэтический материал, поэт может и должен проявлять изобретательность в работе со словом. Именно в этом состоит основное достоинство произведения. Успех этого предприятия — главное достижение русских поэтических групп за пятилетие с 1917 по 1922 год. Сознательно или нет, обеспечили его не только заумники, но и все поэты, менее склонные к новаторству. То ли угадывая требование времени, то ли подстрекаемые Хлебниковым, они сосредоточились исключительно на языке. Классический подход прошлого, сводившийся к ряду малозначительных нововведений в этой области, был с презрением отвергнут. В настоящее время все усилия по усовершенствованию “формы” поэзии отнюдь не ограничиваются, как это было во времена господства символизма, новациями в области метрики и рифмовки или скупыми вкраплениями редких слов, а направлены непосредственно на язык, этимологию, морфологию и синтаксис.
59
После октябрьского переворота русский футуризм (по крайней мере, часть его) связал свою судьбу с задачами социальной революции. Поэтому японцы склонны настаивать на идеологическом аспекте, как мы уже заметили по тону «Экстремистов». Признавая роль футуризма на излёте самодержавия и в первые годы советского строя значительной, Уссурийский (в Eppoku) говорит о бездне непонимания, отделяющей футуристов от революционной власти, и предвидит незавидную судьбу этой школы. В «Какумейго но Росиа бунгаку» он пишет:
Вообще говоря, задача футуризма состояла в создании языка, пригодного для стихосложения. Футуристы обосновали этот принцип в теории и осуществили на практике. Поэтому смею утверждать, что их миссии в русской литературе пришёл конец. Футуризм с 1921 года терпит кораблекрушение в литературном море, вспененном революцией, — и нет ничего удивительного в перегруппировке представителей этого движения вокруг ЛЕФ (Левый фронт искусств).
60
Таким образом, мы видим и здесь окончательное завершение языковой революции и всё более тесную связь художественного авангарда с социальной и идеологической революцией. В «Собето Росиа бунгакурирон» (La théorie littéraire en Russie soviétique / Литературная теория в Советской России)61 Хидэтора Окадзава подробно рассмотрел практику пролетарской литературы и её постулаты. В разделе, озаглавленном «Теория левого футуризма»,62
Хидэтора Окадзава подробно рассмотрел практику пролетарской литературы и её постулаты. В разделе, озаглавленном «Теория левого футуризма»,62 вскрыта роль разрушителя искусства, которую пролетарская власть отводила футуризму поначалу, и одновременно отграниченность футуризма от пролетарского искусства:
вскрыта роль разрушителя искусства, которую пролетарская власть отводила футуризму поначалу, и одновременно отграниченность футуризма от пролетарского искусства:
Футуризм заявил себя “главой” пролетарской литературы и рупором идеологии пролетариата. ‹...› С 7 декабря 1918 футуристский еженедельник «Искусство коммуны» выходит тиражом, превышающим все буржуазные литературные издания, вместе взятые.
63
Цитируя отзыв на «Приказ по армии искусства» и «Дренаж искусству» Маяковского, написанный Бриком для первого номера «Искусства Коммуны», и статью Пунина о буржуазном и пролетарском искусстве, опубликованную там же, автор предисловия резюмирует теорию левого футуризма, чтобы немедленно её раскритиковать:
Пункт первый: отрицание всякого искусства прошлого и “отказ от наследия”, потому что искусство прошлого, отсылающее к хорошему вкусу, декоративно. Пункт второй: искусство есть производство; художник должен создавать новые предметы для нужд пролетариата и вторгаться во все уголки современности — улицы, трамваи, фабрики, дома. Пункт третий: искусство заявляет себя представителем пролетариата. Футуристы утверждают, что их движение есть идеология пролетариата, и что, следовательно, футуризм является штаб-квартирой пролетарской литературы.
Эти три положения показывают, до какой степени футуристы игнорировали сложность исторических условий революции и масштаб проблем. Декларация второго пункта об “арт-производстве” свидетельствует о паузе в суждениях и невозможности их конкретизации: футуристы, хотя и заявляют о знании текущей обстановки, понятия не имеют, что нужно революции, и каковы подлинные проблемы. Третий пункт, естественно, подвергся критике со стороны Пролеткульта; в «Грядущем», № 10 (1920) Бессалько резко критикует футуризм («Футуризм и пролетарская культура»):
„Футуризм — это гнилой сук на трухлявом дереве буржуазного искусства. Футуризм — типично интеллигентское явление. Нет необходимости всерьёз рассматривать его продукцию как искусство рабочего класса. Заметим только, что это футуризм пытается внедрить психологию чуждого пролетариату класса в своих интересах и подменить истинное ложным. Футуристы — индивидуалисты. Названия их работ (такие, как «Его — Моя биография Великого Футуриста» Каменского, «Жизнь Маяковского», «Страсти Маяковского» и т.п. Маяковского) доказывают, что они ставят на первое место свою личность. И началось это с Маринетти, отродья культурной развращённости итальянской буржуазии. Пролетарий должен бороться до конца с этой подделкой, украшающей себя красивым именем революции. Нельзя допустить, чтобы тело пролетарской культуры облачилось в мишуру футуризма”.
Этот конфликт перерастает в полемику между ЛЕФом и «На посту». Но футуризм и пролетарская литература сходятся в одном: они отвергают буржуазную культуру (и куда как едины в отрицании того, что искусство есть раскрытие гения художника). Их различие состоит в том, что футуризм ищет новую форму, а пролетарская литература — революционную подоплёку.
Футуризм потерпел крах из-за непонимания реалий современности. Основная причина его неудачи больше в упадническом характере его произведений, чем в ошибочности его теории. Но творчество Маяковского — исключение.
64
В то время как исследования итальянского футуризма множились,65 после убытия Бурлюка работы по русскому футуризму крайне малочисленны и, в целом, довольно поверхностны. Их вытеснили предисловия к сборникам поэтов советской России. Попытаемся вдуматься в это явление. Хотя Маринетти с самого начала воспевал войну и трубил о завоевании Австрии, японцы, будучи в то время пацифистами, не прониклись духом этой идеологии территориального захвата. Итальянский футуризм был для них прежде всего движением художников и поэтов, что, разумеется, ошибкой назвать нельзя. Однако если Канбара начинал писать Miraiha no syoori (La victoire des futuristes / Победа футуристов) как очерк политической истории, заканчивал он эту статью, когда Италия, аннулировав тройственный пакт, перешла на сторону союзников, т.е. футуристы победили в прямом смысле. Канбара не упомянул «Манифест футуристской политической партии», опубликованный во Флоренции 11 февраля 1918 года в «L’Italia futurista». С другой стороны, когда в Японии приступили к исследованию русского футуризма, в стране уже зародились рабочее движение и социалистическая идеология. В этих общественно-политических условиях японские учёные и филологи, признавая роль русских футуристов в области искусства, обратили внимание непосредственно на их идеологию и пролетарскую литературу. Впрочем, и в самой Японии, начиная с 1924 г., стала развиваться пролетарская литература марксистского толка.
после убытия Бурлюка работы по русскому футуризму крайне малочисленны и, в целом, довольно поверхностны. Их вытеснили предисловия к сборникам поэтов советской России. Попытаемся вдуматься в это явление. Хотя Маринетти с самого начала воспевал войну и трубил о завоевании Австрии, японцы, будучи в то время пацифистами, не прониклись духом этой идеологии территориального захвата. Итальянский футуризм был для них прежде всего движением художников и поэтов, что, разумеется, ошибкой назвать нельзя. Однако если Канбара начинал писать Miraiha no syoori (La victoire des futuristes / Победа футуристов) как очерк политической истории, заканчивал он эту статью, когда Италия, аннулировав тройственный пакт, перешла на сторону союзников, т.е. футуристы победили в прямом смысле. Канбара не упомянул «Манифест футуристской политической партии», опубликованный во Флоренции 11 февраля 1918 года в «L’Italia futurista». С другой стороны, когда в Японии приступили к исследованию русского футуризма, в стране уже зародились рабочее движение и социалистическая идеология. В этих общественно-политических условиях японские учёные и филологи, признавая роль русских футуристов в области искусства, обратили внимание непосредственно на их идеологию и пролетарскую литературу. Впрочем, и в самой Японии, начиная с 1924 г., стала развиваться пролетарская литература марксистского толка.
Villeurbanne, Université de Lyon III, 1984
————————
Примечания * Все японские названия транслитерируются по системе транскрипции латинскими буквами, принятой Правительством Японии (kunreisiki действует с 1937 г.), за исключением известных топонимов.
 1
1 Во «Временнике» (
М. 1917), где был опубликован ответ В. Хлебникова Ямане и Морите (под рубрикой «Жезл в волнах. Обзор Временника. Книжное поле»), следующее примечание: „Японские юноши обратились в газете «Русское слово» от 21/IX 1916 г. с воззванием соединиться с ними юношам русским. В ответ на это кн-во «Лирень» предложило конгресс юношества в Токио: о времени его будет извещено особо”. См. также редакционное примечание к письму В. Хлебникова двум японцам в:
В. Хлебников. Собрание произведений. Т. V.
Л. 1933. С. 348.
 2
2 Перевод с японского, из Kokumin sinbun (Le National / Национальная), 11 сентября 1916 г., с. 5.
 3
3 Имеется в виду полотно «Побеждённые. Панихида», где изображено поле боя, усеянного телами русских воинов после сражения с турками.
 4
4 Subaru (Les Pléiades / Плеяды), перепечатка.
Токио. 1915. С. 102–104.
 5
5 Там же, с. 104.
 6
6 Там же.
 7 Noda Utaroo
7 Noda Utaroo. Gasutoo bungeikoo (Réflexions artistiques et littéraires au bec de gaz / Художественные и литературные размышления при свете газа).
Tokyo: Toohoo syoin. 1961. P. 280.
 8
8 Там же, с. 86.
 9
9 Там же, с. 280, 282.
 10 Kanbara Tai
10 Kanbara Tai. Miraiha y a rittaiha ga torai sita zidai (L’époque de l’arrivée du futurisme et du cubisme / Эпоха прихода футуризма и кубизма) // Hon no tetyoo (Carnets / Записные книжки), n° spéc. sur l’art d’avant-garde. Syoorin sya, mai 1963. P 7.
 11 Kimura Soohati
11 Kimura Soohati. Geizyutu no kakumei (La révolution de l’art / Революция в искусстве).
Tokyo: Rakuyoodoo. 1914. P. 620.
 12 Sawaki K
12 Sawaki K. Insyooha yori rittaiha miraiha ni tassuru made (De l’impressionnisme au cubisme et au futurisme / От импрессионизма к кубизму и футуризму) // Mitabungaku (La littérature de Mita / Литература Миты).
Tokyo. 1917.
 13
13 Художник Канаэ Ямамото, член Пан-клуба (Club de Pan). Вместе с Хакутеем Исикарой в мае 1907 года основал художественный журнал Hosun (Le pouce carré / Квадратный дюйм).
 14 Yamamoto K
14 Yamamoto K. Kiro no bizyutuzyoosyoken (Impressions artistiques sur le chemin du retour / Художественные впечатления по дороге домой) // Bizyutu (L’Art / Искусство), март 1917.
 15
15 Я признателен г-ну Омуке, помощнику куратора Музея современного искусства на Хоккайдо, за все его ценные сообщения о К. Ямамото.
 16 Isikawa R
16 Isikawa R. Kagekiha (Les extrémistes / Экстремисты).
Tokyo: Minyuu sya. 1919. Речь идёт о русских большевиках.
 17
17 Там же, с. 299.
 18
18 Там же, с. 300–301.
 19
19 Там же, с. 302.
 20
20 Там же, с. 303.
 21
21 Там же, с. 304.
 22
22 Там же, с. 305.
 23
23 Там же, с. 308.
 24 Katagami Sin
24 Katagami Sin. Miraiha to ni san no hihyoo (Le futurisme et deux ou trois critiques / Футуризм и два-три критических замечания) // Sintyoo (La novelle Vague), févr. 1920. P. 2–5.
 25
25 Kokka (La Fleur nationale / Цветок родины) — художественный журнал, посвящённый японской классической живописи. Основан в октябре 1889 г.
 26
26 Там же, 272, 1913. С. 184.
 27 Arisima Ikuma
27 Arisima Ikuma. Insyooha kara miraiha e (De l’impressionnisme au futurisme / От импрессионизма к футуризму) // Bizyutu sinpoo (Nouvelles de 1’Art / Новости искусства) , авг. 1915.
 28
28 Nikakai — организация “второго поколения” художников, работавших в западной технике. Основана в 1914 году. Под влиянием Писсаро и Рюузабуроо Умехара, ученика Ренуара, из неё вышли такие великие художники, как Ясуи, Сутару.
 29
29 Asahi sinbun (Soleil du matin / Утреннее солнце), 1 окт. 1920, с. 5; 20 окт. 1920, с. 5. Yorozu tyoohoo (Toutes les nouvelles / Все новости), 5 окт. 1920, с. 3. Sin Aiti (Le nouvel Aiti / Новый Айти), 2 окт. 1920, с. 7; 30 окт. 1920, p. 7. Первые две — токийские газеты, третья — ежедневная из района Нагои.
 30
30 Kokumin sinbun (Le Nacional / Национальная), 10 октября 1920, с. 5; Sin Aiti, 13 октября 1920. С. 7.
 31
31 Художник Хакутэй Исии, друг Канаэ Ямамото, был учредителем журнала Hoosun и членом Club de Pan.
 32 D. Burljuk
32 D. Burljuk. Dooteki seimei o utusita miraiha no sakuhin (Les oeuvres futuristes qui fixent la vie en mouvement / Футуристические произведения, фиксирующие жизнь в движении) // Kokumin sinbun, 10 октября 1920. С. 5.
 33 Arisima Ikuma
33 Arisima Ikuma. Palimohu no geizyutu (Tyuu). Bururyukku si (L’art de Pal’mov II — Monsieur Burljuk / Искусство Пальмова II — Господин Бурлюк) // Yomiuri sinbun, 21 окт. 1920, с. 7.
 34
34 Там же: „Господин Пальмов — ученик, который, как говорится, превзошёл своего учителя”. См. также статью Сэя Осава Rokoku miraiha gaka no e o miru (Après avoir vu les tableaux des futuristes russes / После знакомства с картинами русских футуристов) // Sin Aiti, 15 октября 1920 г., с. 10: „Произведения господина Пальмова тем ярче, чем моложе он господина Бурлюка. Особенно такие картины, как «Революция», «Женщина, которая только что проснулась», «Пьяная женщина» и т.д., которые показывают суть их футуризма: мелодичное изображение ритма движения красками”.
 35 Arisima Ikuma
35 Arisima Ikuma. Цит. соч., с. 7.
Oosawa Sei. Цит. соч., с. 10.
 36 Isii Hakutei
36 Isii Hakutei. Nihon ni okeru saisyo no rokokuga tenrankai (La première exposition de la peinture russe au Japon / Первая выставка русской живописи в Японии) // Тюоо бизюту (L’Art central / Центральное искусство), 6, 11 ноября, 1920.
 37
37 Там же, с. 186.
 38
38 Там же.
 39
39 Большей части сведений о деятельности Д. Бурлюка в Японии я обязан г-ну Омуке, который занимается этой темой.
 40
40 Mittu no rokokuga tenrankai (Trois expositions de la peinture russe / Три выставки русской живописи) // Там же, 7, 5 мая 1921 г., с. 151.
 41
41 Данные заимствованы из:
Kinosita S. et D. Burljuk. Miraiha to wa? — Kotaeru (Qu’est-ce que le futurisme? Voici notre réponse / Что такое футуризм? Вот наш ответ).
Tokyo: Bizyutu, 25 февр. 1923, с. 112–115, и из: Sin Aiti, 25 окт. 1921, с. 6.
 42
42 Kokumin sinbun, 24 oct. 1921, p. 5, et Sin Aiti, 25 oct. 1921, p. 6.
 43
43 Kinosita S., D. Burljuk, цит. соч.
 44 Tiba Seniti
44 Tiba Seniti. Gendaibungaku no hikakubungakuteki kenkyuu (Recherches de littérature comparée sur la littérature moderne / Сравнительное исследование современной литературы).
Tokyo: Yagisyoten. 1978. P. 66, 130.
 45
45 Kinosita S., D. Burljuk, цит. соч. С. 82.
 46
46 Там же, с. 163.
 47
47 Там же, с. 194.
 48
48 Там же, с. 213.
 49
49 Там же, с. 91, 139–147, 188.
 50
50 Он сотрудничал с журналом «Der Futurismus» в Берлине.
 51
51 Мутаяма, Янасэ, Огата, Оура, Кадоваки, Бубнова были членами. Они издавали собственный журнал MAVO (июль 1924 – август 1925), своей причудливой и нарочито непоследовательной типографикой, шрифтовым оформлением и использованием бумаги разного качества поразительно похожий на книги русского авангарда. Журнал издавал стихи, воспроизводил фотографии и гравюры.
 52
52 Группа Action была создана в октябре 1922 года тринадцатью художниками, включая Канбару, Асано, Кога, Накагава и др. В
Kanbara T. Atarasiki zidai no seisin ni okuru (Sur l’esprit de l’ère nouvelle / О духе новой эры),
Tokyo: Idea syoin, 1923, Канбара пишет: „Они не группировались вокруг одного и того же принципа” (с. 386) „и не намеревались восставать против какой-либо существующей структуры” (стр. 390).
 53 Kanbara Tai
53 Kanbara Tai. Daiikkai Kanbara Tai sengensyo (Premier Manifeste de Kanbara Tai / Первый манифест Тая Канбары). С. 330–331.
 54 Noboru Syomu
54 Noboru Syomu. Sizin kessaku syuu (Les chefs-d’oeuvre des poètes), tome 6 de la collection Rosia gendai bungaku kessaku syuu (Les chefs-d’oeuvre de la littérature russe contemporaine / Шедевры современной русской литературы).
Tokyo: Ookurasyoten, mars 1922.
 55 Ussurijskij
55 Ussurijskij. Rosia sidan no hanasi (Sur les milieux poétiques russes / О русских поэтических кружках) // Eppoku, nov. 1922. P. 40–42.
 56
56 Там же.
 57 Ose Takasi
57 Ose Takasi. Roonoo Rosia sisyuu (Recueil de poèmes de la Russie soviétique / О русских поэтических кружках).
Tokyo: Kaizoosya, avr. 1923. P. 13–15.
 58 Noboru Syomu
58 Noboru Syomu. Kakumeigo no Rosia bungaku (La littérature russe après la révolution / Сборник стихов из Советской России).
Tokyo: Kaizoosya, mai 1928.
 59
59 Там же, с. 38–43.
 60
60 Там же, с. 49.
 61 Okaza Hidetora
61 Okaza Hidetora. Sobeto Rosia bungakuriron (La théorie littéraire en Russie soviétique / Литературная теория в Советской России).
Tokyo: Kamya syoten, 1930.
 62
62 Там же, с. 72–79.
 63
63 Там же, с. 73.
 64
64 Там же, с. 77–79.
 65
65 Процитируем, в частности:
Kanbara T. Atarasiki zidai..., op. cit.; его же: Geizyutu no rikai (La compréhension de l’art / Понимание искусства),
Tokyo: Idea syoin, 1924; его же: Miraiha kenkyuu (Etudes sur le futurisme / Исследования футуризма),
Tokyo: Idea syoin, 1925; его же: Miraiha no ziyuugo o ronzu (Sur les mots en liberté du futurisme / О футуристических словах-на-свободе), Si to siron (La Poésie et la Théorie / Поэзия и теория), sept. 1928. P. 1–20 ; déc. 1928. P. 55–69; mars 1929. P. 76–85; juin 1929. P. 37–45.
Воспроизведено по:
Cahiers du Monde russe et soviétique, XXV (4), oct.–déc. 1984. P. 375–401.
Перевод В. Молотилова
Благодарим В.Я. Мордерер за содействие web-изданию


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
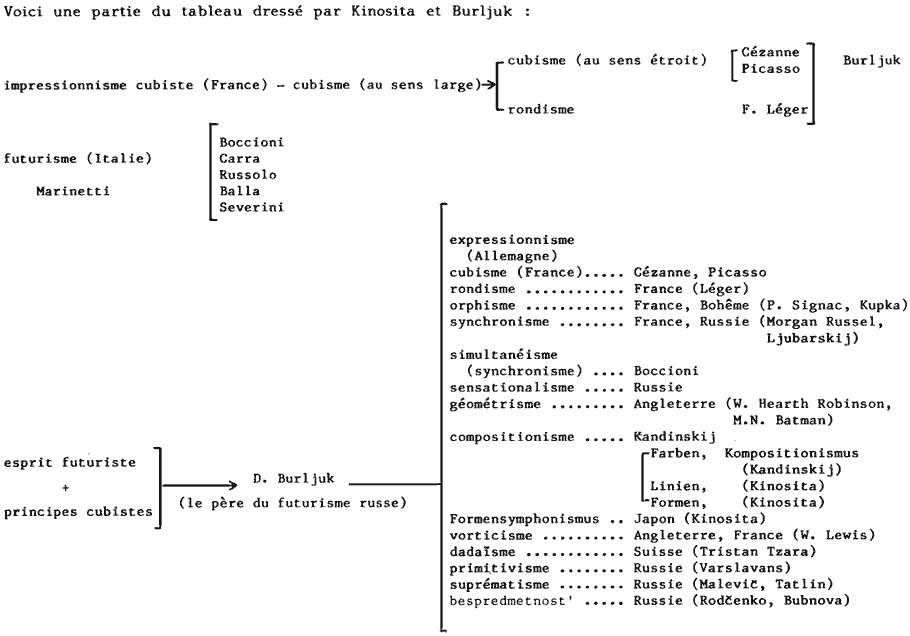
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()