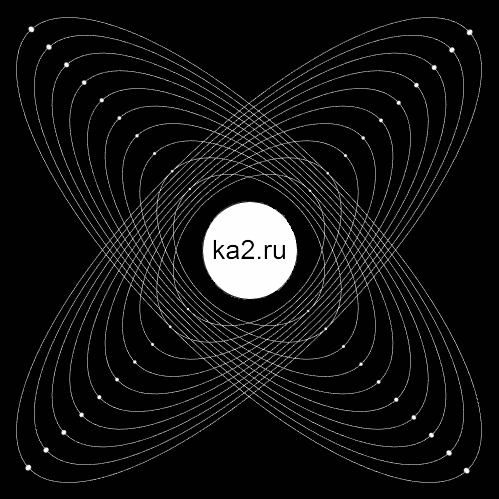Жан-Клод Ланн
От сказки к футуризму1
Сначала мне хотелось бы вкратце пояснить странное, на первый взгляд, название этого доклада. Велимир Хлебников посвятил сказке теоретическую статью, которая неожиданным образом иллюстрирует его исторические, социальные и философские взгляды. Эта статья наиболее отчётливо раскрывает его миропонимание, хотя великий
будетлянин постоянно пользовался сказкой как формой и развернул перед нами целую систему переподчинения литературных жанров путём отказа от привычных ценностей и разрушения традиционной иерархии. Сам Хлебников называл это
расширением пределов русской словесности. Обращение поэта в рамках практических целей к сказке, одному из основных литературных жанров, и её переосмысление отнюдь не случайны: добропобедный настрой русской старины пришёлся ко двору воинствующему
будетлянину кануна Первой мировой войны. Статью «О пользе изучения сказок» Н. Степанов относит к 1914–1915 годам,
2
при жизни автора она не была опубликована. Вот эта статья:
О пользе изучения сказок
Это не раз случалось, что будущее зрелой поры в слабых намёках открыто молодости. И будущие радости цветка смутно известны ему, когда он ещё бледным стеблем подымает пласты прошлогодней листвы. И народ младенец, народ ребёнок любит грезить о себе в пору мужества, властной рукой повертывающим колесо звёзд. Так в Сивке-Бурке-вещей-каурке он предсказал железные дороги, а ковром самолётом реющего в небе Фармана. И вот зимой сказочник-дед, сидя над бесконечным лаптем, заставляет своего любимца садиться на ковёр, чтобы перегнать зарницу и крикнуть „стой!” падающей звезде.
Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днём жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества.
Точно так же в созданном учениями всех вероисповеданий образе Масиха аль Деджаля, Сака-Вати-Галагалайама или Антихриста заложено учение о едином роде людей, слиянии всех государств в общину земного шара. Но если к решению задачи ковра-самолёта нас привело изучение точных наук в применении к условиям полёта, не те же ли точные науки, применённые к учению об обществе, приведут к решению задачи о Сака-Вати-Галагалайаме? Так его называют индусские мудрецы. Благодаря ковру-самолёту, море, к которому тянулись все народы, вдруг протянулось над каждой хижиной, каждым дымом. Великий всенародный путь равномерно соединил прямой чертой каждую одну точку земного шара с каждой другой, о чём мечтали мореплаватели.
И вот человечество-взрослый цветок смутно грезился человечеству-зерну, и ковёр-самолёт населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевлённой людьми.* * *
Эта программная статья, где сказка возведена в ранг философского очерка, проливает свет на сущность футуризма и выявляет его внутреннюю проблематику. Поэтому мне кажется целесообразным проанализировать её последовательно, начиная с внешних особенностей текста и кончая теми глубинными вопросами, которые возникают — я бы сказал, сами напрашиваются — при внимательном изучении её внутренней структуры.
1) Во-первых — и это можно назвать отличительной чертой хлебниковского письма — сама система сравнений и метафор родом из глобального миропонимания — умозрительного “леса”, к которому сказка, словно избушка на курьих ножках, поворачивается временнóй своей стороной. Хлебников видит в сказке устроение, упорядочение времени посредством языка. Иными словами, языковая структура сказки в его истолковании предстаёт структурой времени. До эпохи точного знания сказка выполняла роль научной парадигмы — вероятно, именно поэтому Хлебникова занимает исключительно её содержание, тематика. При этом он отдаёт предпочтение сюжетам так называемых “волшебных сказок”. Однако далеко не весь их арсенал привлекает поэта: он ограничивается волшебным помощником (или предметом), который, согласно классификации В. Проппа, ускоряет процесс перемещения героя в пространстве, способствуя преодолению всевозможных препятствий.3 Но и волшебный помощник взят в разработку отнюдь не самый ходовой: Сивка-Бурка-вещий каурка в сборнике Афанасьева налицо всего в двух (№№179, 564) сказках; ковёр-самолёт встречается немногим чаще (№№192, 197, 237, 267, 273).4
Но и волшебный помощник взят в разработку отнюдь не самый ходовой: Сивка-Бурка-вещий каурка в сборнике Афанасьева налицо всего в двух (№№179, 564) сказках; ковёр-самолёт встречается немногим чаще (№№192, 197, 237, 267, 273).4 Итак, показателем осмысления, упорядочения времени сказкой Хлебников полагает единичный элемент строго тематического порядка. Полностью пренебрегая формой, то есть системой функций, поэт занят исключительно содержанием сказки. Возникает ряд вопросов: почему весь упор на тематику? Почему один сюжет в такой чести? Почему единичный элемент — да и то побочный, второстепенный — вознесён до главенствующего признака сказки как литературного жанра?
Итак, показателем осмысления, упорядочения времени сказкой Хлебников полагает единичный элемент строго тематического порядка. Полностью пренебрегая формой, то есть системой функций, поэт занят исключительно содержанием сказки. Возникает ряд вопросов: почему весь упор на тематику? Почему один сюжет в такой чести? Почему единичный элемент — да и то побочный, второстепенный — вознесён до главенствующего признака сказки как литературного жанра?
Чтобы разобраться с этим, нужно понять систему сравнений и метафор у Хлебникова. Оказывается, все они подчёркивают значение сказки как пророчества (впрочем, слова предсказал и провидение говорят сами за себя). Развёрнутые сравнения и метафоры таковы:
а) И будущие радости цветка смутно известны ему, когда он ещё бледным стеблем поднимает пласты прошлогодней листвы;
б) И вот человечество-взрослый цветок смутно грезился человечеству-зерну, и ковёр-самолёт населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевлённой людьми.
Метафоры зерна, цветка, дерева и т.п. встречаются у Хлебникова в самых разных контекстах, что заставляет подозревать первостепенную роль растительного мира в системе его ценностей. Единосущность зерна и развитого растения олицетворяет непрерывный процесс эволюции, и, если можно так выразиться, позволяет поэту-мыслителю “укоренить” будущее в прошлом. Этот образ таит идею соприродности разрозненных, казалось бы, разорванных времён — прошлого, настоящего и будущего. По Хлебникову, цветок не упраздняет зерно, а довершает. Таким образом, благодаря тесной взаимосвязи, плотному переплетению трёх его искусственных подразделений, время как таковое предстаёт упорядоченным, урегулированным. Хлебников заменяет классическую трихотомию более сложным континуумом, “грани” которого если полностью не стираются, то, по крайней мере, становятся трудноуловимыми, неудобозримыми. Он без малейшего предпочтения мешает в напитке общем прошлое, настоящее и будущее, речь поэта-будетлянина разом покрывает нерасторжимое единство совокупного времени, без разделения на “до” и “после”.
Есть в тексте и другой образ, великолепно выражающий соприсутствие прошлого и будущего в длении настоящего — бабочка. Образ настолько значительный, что американский литературовед Р. Вроон считает: именно в бабочке суть футуризма.5 Летательный аппарат Фармана и впрямь похож на бабочку, внешнее сходство вполне оправдывает метафору, но следует признаться: пребывая на визуальном уровне, бабочка Хлебникова довольно-таки банальна. Во всей полноте замысел поэта раскрывает использованная им словесная форма: модальный творительный падеж. В высказывании ковёр-самолёт населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевленной людьми сама грамматика строит взаимосвязь ковра-самолёта и аппарата Фармана: бабочка — связующее звено между ними — показатель обратимости соотношения. Ведь бабочка есть конечный итог цепи превращений: от гусеницы к кокону → куколке → насекомому из разряда чешуекрылых, и модальный творительный падеж означает, что бабочка — не что иное как модус летательного аппарата, который, в свою очередь, есть модус ковра-самолёта. Подчёркивая кровное родство культуры и природы, грамматическая категория работает у Хлебникова на будетлянское мировоззрение, где органично едины рукотворные предметы и живые существа.
Летательный аппарат Фармана и впрямь похож на бабочку, внешнее сходство вполне оправдывает метафору, но следует признаться: пребывая на визуальном уровне, бабочка Хлебникова довольно-таки банальна. Во всей полноте замысел поэта раскрывает использованная им словесная форма: модальный творительный падеж. В высказывании ковёр-самолёт населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевленной людьми сама грамматика строит взаимосвязь ковра-самолёта и аппарата Фармана: бабочка — связующее звено между ними — показатель обратимости соотношения. Ведь бабочка есть конечный итог цепи превращений: от гусеницы к кокону → куколке → насекомому из разряда чешуекрылых, и модальный творительный падеж означает, что бабочка — не что иное как модус летательного аппарата, который, в свою очередь, есть модус ковра-самолёта. Подчёркивая кровное родство культуры и природы, грамматическая категория работает у Хлебникова на будетлянское мировоззрение, где органично едины рукотворные предметы и живые существа.
Но, как обычно, метафоры Хлебникова преследуют двоякую цель. Мы уже знаем, что первая их функция — обозначение неразрывной связи двух, казалось бы, разнородных порядков бытия: природы и культуры. В свою очередь, культура, по Хлебникову, являет нерасторжимое единство субъективного (сказки, в данном случае) и конкретного, объективного (воплощения волшебного предмета в изделие промышленности). Вторая функция связана с тем, что метафоры, используя модный термин структуралистов, есть межтекстовые скрепы: они связывают воедино речения разных порядков. Вот конкретный пример интертекстуальности метафор по теме моего доклада: читатель обнаружил одно и то же иносказание зерно в двух статьях. Первая посвящена анализу поэзии авангарда, вторая — сказке. Наверняка это совпадение он расценит как аналогию между моделирующей функцией сказки применительно к реалиям будущего и моделирующей функцией экспериментального, заумного, стихотворения в развитии языка, речетворчестве. Действительно, в статье Хлебникова о воздействии стихов на непонятном языке читаем:
Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозём духа и позднее загадочными путями даёт свои всходы. Разве понимает земля письмена зёрен, которые бросает в нее пахарь? Нет. Но осенняя нива всё же вырастает ответом на эти зёрна.6
Взятые из растительного мира метафоры встречаются у Хлебникова во многих его заметках о литературе, языке и даже истории. Ограничусь двумя примерами. Рассуждая о росте слова (то есть об эволюции литературного языка), Хлебников пишет (выделено мной):
И вот дерево слов одевается то одним то другим гулом, то празднично, как вишня, одевается нарядом словесного цветения, то приносит плоды тучных овощей разума. Не трудно заметить, что время словесного звучания есть брачное время языка, месяц женихающихся слов, а время налитых разумом слов, когда снуют пчелы читателя, время осеннего изобилия, время семьи и детей.
В творчестве Толстого, Пушкина, Достоевского словоразвитие, бывшее цветком у Карамзина, приносит уже тучные плоды смысла. У Пушкина языковый север женихался с языковым западом. При Алексее Михайловиче польский язык был придворным языком Москвы. Это черты быта. В Пушкине слова звучали на “ение”, у Бальмонта на “ость”. И вдруг родилась воля к свободе быта — выйти на глубину чистого слова. Долой быт племён, наречий, широт и долгот.
На каком-то незримом дереве слова зацвели, прыгая в небо, как почки, следуя весенней силе, рассеивая себя во все стороны, и в этом творчество и хмель молодых течений.7
Сравнивая в «Отрывке из Досок Судьбы» свои собственные исторические вычисления с суевериями прошлого, Хлебников заявляет:
Я понял, что повторное умножение само на себя двоек и троек есть истинная природа времени, и когда я вспомнил древнеславянскую веру в чёт и нечет, я решил, что мудрость есть дерево, растущее из зерна. Суеверия в кавычках.8
Можно привести множество других примеров. Все они свидетельствуют об одном: высказывания Хлебникова имеют единый посыл. Поэт неизменно утверждает, что между философскими категориями “тождественного” и “разного” нет неодолимой пропасти; при этом “единое, тождественное” постепенно дифференцируется, разнотствует. Хлебников заменяет традиционную философскую (идеалистическую) дихотомию (разделение мира на два разнородных множества) новым целостным миропониманием, утверждающим единство, солидарность всего и вся. Иными словами, на смену дуалистической философии приходит монизм — вера в то, что всё сущее, как бы ни были разнообразны его формы, коренится в одном общем начале. Следовательно, будущее уже налицо, ибо “задано” прошлым и настоящим, открытия современной науки “запрограммированы” старинными сказками, а зародыш языка будущего таит поэзия будетлян.
Поэтому неудивительно, что Хлебников, говоря о своих собственных произведениях, в том числе поэтических опытах, в предисловии к готовившемуся — но так и не осуществлённому — изданию полного собрания его сочинений, в 1919-м году вновь прибегает к словесным формам, уже опробованным в третьем абзаце статьи «О пользе изучения сказок»:
Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не умеем определить, что создаёт эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее.
В «Кузнечике», в «Бобэоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего — малый выход бога огня и его весёлый плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днём, я понял, что родина творчества — будущее. Оттуда дует ветер богов слова. 9
Отношения сказки к науке и так называемого “заумного стихотворения” к языку — именно язык и наука в процессе своего развития воплощают в жизнь предвидения неуёмной творческой фантазии — являются частными случаями более абстрактного отношения вымысла к подлинной реальности. Если сказка в рамках ограниченной тематики (волшебный предмет, в нашем случае), благодаря своей резко выраженной недоговорённости и свойственной этому жанру “потенциальности”, готовит почву для грядущих достижений науки (‹...› к решению задачи ковра-самолёта нас привело изучение точных наук в применении к условиям полёта), то в качестве своеобразного будетлянского жанра научно-фантастической литературы она — как, впрочем, и заумное стихотворение — в эпоху торжества науки и техники обречена.
Наука “умерщвляет”, “гасит” сказку. Разве что терпит как пережиток прошлого — очаровательное, но совершенно бесполезное свидетельство прозорливости предков. Самолёт и железная дорога разлучают современность с ковром-самолётом и Сивкой-Буркой, спроваживая их в музей или антикварный магазин.
По отношению к “актуальности” (в отличие от “потенциальности”) правомерна аналогия между сказкой и Ветхим Заветом. Священное Писание относят к жанру, который принято называть “провидческим”; при этом Хлебников полагает, что сказка есть подвид научно-фантастической литературы, ибо целиком и полностью направлена на предсказание, предвидение. В этом плане имеет смысл напомнить истолкование архиепископом Утрехта Янсеном (1585–1638) Ветхого и Нового Заветов. Его формулировка коротко и ясно раскрывает взаимосвязь потенциального с актуальным:
In veteri Testamento est occultatio Novi, in Novo manifestatio Veteris”,
10
что в переводе означает: „В Ветхом Завете скрыт Новый, в Новом Завете проявляется Ветхий”. Это чрезвычайно ёмкое высказывание раскрывает взаимообусловленность былого и яви; точно такое миропонимание свойственно Хлебникову. Слова Янсена помогают осознать, почему сказка и заумное стихотворение обречены на гибель: они всего лишь иносказания или “формы будущего” (formae futuri), а настоящее, актуальность (в аристотелевском смысле слова), осуществляя их, одновременно истребляет, уничтожает, заменяет “тень вещи” самой вещью.
Встаёт вопрос: полностью ли упраздняет сказку торжествующая наука? Хлебников, поэт до мозга костей, яростно против убийства сказки: этим ставится под вопрос само существование поэзии. Высокий статус изящной словесности в эпоху беспримерного прогресса науки для Хлебникова не подлежит малейшему сомнению.
При этом надо помнить, что сам он хотел остаться в истории не королём поэтов, а завоевателем материка времени. В августе 1915 года Хлебников пишет родным: Таким я уйду в века, открывшим законы времени.11 Можно без преувеличения сказать, что поэт бóльшую часть своей жизни отдал расшифровке исторических событий, постоянно стремясь упорядочить кажущиеся бессвязными хронологические данные. Он полагал, что пользуясь числом как орудием, можно “рационализировать” историю, научным образом управлять событиями, предсказывая их. Важная подробность: углубляясь в неимоверно сложные, запутанные вычисления, Хлебников не прекращал писать стихи и поэмы. Говоря языком философии, налицо диалектическое единство и борьба противоположностей.
Можно без преувеличения сказать, что поэт бóльшую часть своей жизни отдал расшифровке исторических событий, постоянно стремясь упорядочить кажущиеся бессвязными хронологические данные. Он полагал, что пользуясь числом как орудием, можно “рационализировать” историю, научным образом управлять событиями, предсказывая их. Важная подробность: углубляясь в неимоверно сложные, запутанные вычисления, Хлебников не прекращал писать стихи и поэмы. Говоря языком философии, налицо диалектическое единство и борьба противоположностей.
Особенно ярко и образно жёсткое противостояние науки и поэзии показано в замечательном диалоге из поэмы «Поэт». Беседуют два персонажа: Поэт, в котором угадываются черты самого Хлебникова, и едва ли не самое изящное создание народной фантазии — Русалка, жительница рек и озёр. Хлебников неспроста выбрал именно этот образ. Слово ‘русалка’ изливает водопад представлений, связанных с Русью вообще и с русской литературой XIX века (Пушкин, Гоголь, Лермонтов) в частности. Вместе с тем, русалка нагляднее прочей нежити (человекообразных духов) показывает бренность мифов и сказок — неотъемлемой части традиционной культуры русской деревни. На переломе XIX–XX веков, когда индустриализация и урбанизация рушили устои крестьянского быта, эта культура гибла. В книге о мифологических персонажах русского фольклора Е.В. Померанцева пишет, что уже в конце XIX века собиратели народных поверий сталкивались с большими трудностями, потому что крестьяне говорили, будто бы русалки исчезли, а предания о них иссякли по той простой причине, что прежде люди были „простые”, а „ныне уж никто ни во что не верит” и „русалок не видит”!12 Такого же рода упрёк бросает водяная нимфа Поэту: ты виновен в гибели русалок, ибо твои изыскания принадлежат миру знаний, науки, разума — врагу древних преданий, сказок и поэзии. Ты — сообщник этого злодеяния, если не главный душегуб:
Такого же рода упрёк бросает водяная нимфа Поэту: ты виновен в гибели русалок, ибо твои изыскания принадлежат миру знаний, науки, разума — врагу древних преданий, сказок и поэзии. Ты — сообщник этого злодеяния, если не главный душегуб:
Русалка месяца лучами
Невеста в день венца
Молчанья полными глазами
Краснея смотрит на певца.
Глаза ночей. Они зовут и улетают
Туда, в отчизну лебедей,
И одуванчиком сияют
В кругах измученных бровей,
И нежно, нежно умоляют:
„Как часто мой красивый разум
На мельницу седую приходя,
Ты истязал своим рассказом
О празднике научного огня.
Ведь месяцы сошли с небес
Запутав очи в чёрный лес
И обученные людскому бегу
Там водят молнии телегу
И толпами возят людей
На смену покорных коней.
На белую муку
Размолот старый мир
Работою рассудка
И старый мир — он умер на скаку!
И над покойником синеет незабудка,
Реки чистоглазая дочь.
Над древним миром уже ночь!
Ты истязал меня рассказом,
Что с ним и я русалка умерла
И не река девичьим глазом
Увидит времени орла.‹...›
Отец убийц! Отец убийц — палач жестокий!
А я, по-твоему, в гробу?
И раки кушают меня,
Клешнёю чёрной обнимая?
Зачем чертой ночной мороки,
Порывы первые ломая,
Ты написал мою судьбу?”13
Чужие на “пиру” техники, прекрасные создания народной фантазии в прямом смысле слова улетучиваются, испаряются — улетают, по образному выражению Хлебникова. Их исчезновение с корнем вырывает сами основы поэтического вдохновения.
2. Вторая часть статьи касается того, что П. Штоббе называет „сродством сказки и утопии”.14 Мы уже показали, что метафоры, сравнения и образы Хлебникова, подчеркивая “ростковую” сторону эволюции, указывают не столько на непреодолимую противоположность поэтической фантазии и научных знаний, сколько на постепенный переход от первого ко второму, и, таким образом, являются существенным признаком целостного мировоззрения. Согласно таковому, продукты техники представляют собой эманацию, “проистечение” модели “зиждущей”, природствующей природы (natura naturans). Утопические произведения Хлебникова, объединённые под названием «Кол из будущего»15
Мы уже показали, что метафоры, сравнения и образы Хлебникова, подчеркивая “ростковую” сторону эволюции, указывают не столько на непреодолимую противоположность поэтической фантазии и научных знаний, сколько на постепенный переход от первого ко второму, и, таким образом, являются существенным признаком целостного мировоззрения. Согласно таковому, продукты техники представляют собой эманацию, “проистечение” модели “зиждущей”, природствующей природы (natura naturans). Утопические произведения Хлебникова, объединённые под названием «Кол из будущего»15 и некоторые его поэмы раскрывают перед читателем это грандиозное построение мира. Например, пышный рост труб над крышами столицы приводит поэта к сравнению города с высшим порядком растительного мира:
и некоторые его поэмы раскрывают перед читателем это грандиозное построение мира. Например, пышный рост труб над крышами столицы приводит поэта к сравнению города с высшим порядком растительного мира:
А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, ещё ученическим. Эти болота — поляна шелкового мха труб. Трубы это прелесть золотистых волос.16
В поэме «Журавль»17 восстание городских вещей выливается в форму пробуждения их “звериной потенциальности”, и читатель присутствует при “обратной метаморфозе”: время идёт вспять. Подобный переворот в понимании времени вполне соответствует будетлянской эсхатологии — журавль (подъёмная машина) оборачивается чудовищной птицей, угрожающей человечеству. В поэме, если сравнить её со сказкой, вещи движутся в противоположном направлении: от мира машин и техники в объятия первобытной, страшной природы, к доисторическим чудовищам.
восстание городских вещей выливается в форму пробуждения их “звериной потенциальности”, и читатель присутствует при “обратной метаморфозе”: время идёт вспять. Подобный переворот в понимании времени вполне соответствует будетлянской эсхатологии — журавль (подъёмная машина) оборачивается чудовищной птицей, угрожающей человечеству. В поэме, если сравнить её со сказкой, вещи движутся в противоположном направлении: от мира машин и техники в объятия первобытной, страшной природы, к доисторическим чудовищам.
В пьесе «Маркиза Дезэс»18 мы встречаемся с другим рядом обратных превращений: элегантные, изящные дамы и господа петербургского высшего света приходят на выставку живописи и скульптуры. Внезапно роли меняются: произведения искусства оживают, лисицы и соболя прыгают с дамских плеч, птицы и плюмаж взлетают с их шляп; одновременно посетители выставки каменеют, превращаясь в мраморные группы. “Регресс” метаморфоз превращает будетлянский вымысел в “антисказку”. Подобно тому как в пьесе «Мирсконца»19
мы встречаемся с другим рядом обратных превращений: элегантные, изящные дамы и господа петербургского высшего света приходят на выставку живописи и скульптуры. Внезапно роли меняются: произведения искусства оживают, лисицы и соболя прыгают с дамских плеч, птицы и плюмаж взлетают с их шляп; одновременно посетители выставки каменеют, превращаясь в мраморные группы. “Регресс” метаморфоз превращает будетлянский вымысел в “антисказку”. Подобно тому как в пьесе «Мирсконца»19 время течёт от конца к началу жизней действующих лиц, летательный аппарат Фармана превращается в бабочку, цветок вновь становится зерном — то есть образ “инволюционно” возвращается в свою начальную модель. Эта временнáя катастрофа — описанная в “сказке-перевертне” — противопоставлена, как обычно у Хлебникова, благостной утопии пышной будетлянской феерии грандиозного пейзажа Города Будрых и завершается вопросом, обращённым к сказке и мифу:
время течёт от конца к началу жизней действующих лиц, летательный аппарат Фармана превращается в бабочку, цветок вновь становится зерном — то есть образ “инволюционно” возвращается в свою начальную модель. Эта временнáя катастрофа — описанная в “сказке-перевертне” — противопоставлена, как обычно у Хлебникова, благостной утопии пышной будетлянской феерии грандиозного пейзажа Города Будрых и завершается вопросом, обращённым к сказке и мифу:
Я думал про сивок-каурок, ковры-самолёты и думал: сказки, память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать — будет.20
“Осуществлённая” сказка, утопия, ставшая действительностью в достижениях науки — радио, например, которое Хлебников называет духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем,21 — символизируют конечную цель истории: воссоединение человечества, разделённого со времён Вавилонского столпотворения и последовавшего за ним разделения языков.
— символизируют конечную цель истории: воссоединение человечества, разделённого со времён Вавилонского столпотворения и последовавшего за ним разделения языков.
Подчиняясь логике собственной системы, Хлебников приравнивает миф к сказке, причём арсенал священных преданий человечества подвергается строгому отбору в соответствии со стремлением ко всеобщему единению мира. В апокалипсической литературе и легендах мусульманского мира Аль Масих аль Даджал — самозванец, который, согласно народным верованиям, явится в последние времена и после сорокадневного (или сорокалетнего) правления утвердит всемирное господство ислама.22 Антихрист — аналогичная фигура христианской мифологии, он призван уготовить пришествие и вселенское царствование Христа.23
Антихрист — аналогичная фигура христианской мифологии, он призван уготовить пришествие и вселенское царствование Христа.23 Сакка Вати (санскр. Чаккавартин) — мифический образ индийской политической мысли, „Всемирный Царь”, „повёртывающий колесо” царства всеобщего согласия, мирной монархии, которую он учредит в конце времён во имя мира, справедливости и добродетели.24
Сакка Вати (санскр. Чаккавартин) — мифический образ индийской политической мысли, „Всемирный Царь”, „повёртывающий колесо” царства всеобщего согласия, мирной монархии, которую он учредит в конце времён во имя мира, справедливости и добродетели.24 Все эти мифы сходятся в одном: они повествуют о скором пришествии личности, призванной установить всеобщий мир в мире, или — по выражению Хлебникова — Ладомир, мир богини Лады и согласия. Это пример хлебниковского мессианства, смещённого в сферу науки: религиозная “сказка” (то есть миф) предсказывает грядущую отмену языков и государств, а также возникновение единой Коммуны, основанной на разумных началах. Будетлянин должен ускорить процесс формирования этой общины посредством изобретения вселенского языка — зауми, а также упорной борьбы против любой формы государства. Хлебников проповедует язык будущего.25
Все эти мифы сходятся в одном: они повествуют о скором пришествии личности, призванной установить всеобщий мир в мире, или — по выражению Хлебникова — Ладомир, мир богини Лады и согласия. Это пример хлебниковского мессианства, смещённого в сферу науки: религиозная “сказка” (то есть миф) предсказывает грядущую отмену языков и государств, а также возникновение единой Коммуны, основанной на разумных началах. Будетлянин должен ускорить процесс формирования этой общины посредством изобретения вселенского языка — зауми, а также упорной борьбы против любой формы государства. Хлебников проповедует язык будущего.25 Многие манифесты и воззвания Хлебникова свидетельствуют о его симпатиях анархизму. Все они навеяны чтением работ Бакунина и Кропоткина.26
Многие манифесты и воззвания Хлебникова свидетельствуют о его симпатиях анархизму. Все они навеяны чтением работ Бакунина и Кропоткина.26
Поскольку религиозный миф наделён “провидческой” функцией, он, подобно сказке, обречён на верную гибель. Он отомрёт, подобно самой религии. Однако в данном случае взгляды Хлебникова претерпевают изменения: если по поводу исчезновения сказки и поэзии он испытывает мучительные переживания и угрызения совести, то вытеснение религии наукой Хлебников приветствует как отъявленный богоборец:
Человечество, как явление протекающее во времени, сознавало власть его чистых законов, но закрепляло чувство подданства посредством повторных враждующих вероучений, стараясь изобразить дух времени краской слова.
Учение о добре и зле, Оримане и Ормузде, грядущем возмездии, это были желания говорить о времени, не имея меры, некоторого аршина.27
В последней строке свода законов времени, который он озаглавил «Поединок с Хаммураби», Хлебников, пользуясь излюбленным приёмом парономазии, пишет: Мера, победившая веру ‹...›28 И это не удивительно, ибо вера — тоже плод человеческого воображения, её творения родственны творениям поэтической фантазии. Религиозный миф предсказывает будущее развитие человечества, которое одна лишь научная дисциплина обществоведение — а для Хлебникова наука о числах — будет в состоянии урегулировать. В статьях Хлебникова, посвященных истории, число заменяет слово. Он называет свои наукообразные труды повестями без одного слова. Тем не менее — безотносительно намерению автора — эти работы освещает своего рода вера, на сей раз прилагаемая к науке. В рамках собственного мифотворчества число у Хлебникова превратилось в новейшее образное выражение древней Утопии, в символ веры новых времён, своего рода “наукопоклонство”. Пародируя одну из книг ветхозаветного Пятикнижия, хлебниковские числа свергают с трона самого Бога, ставшего, подобно ковру-самолёту, ненужной гипотезой:
И это не удивительно, ибо вера — тоже плод человеческого воображения, её творения родственны творениям поэтической фантазии. Религиозный миф предсказывает будущее развитие человечества, которое одна лишь научная дисциплина обществоведение — а для Хлебникова наука о числах — будет в состоянии урегулировать. В статьях Хлебникова, посвященных истории, число заменяет слово. Он называет свои наукообразные труды повестями без одного слова. Тем не менее — безотносительно намерению автора — эти работы освещает своего рода вера, на сей раз прилагаемая к науке. В рамках собственного мифотворчества число у Хлебникова превратилось в новейшее образное выражение древней Утопии, в символ веры новых времён, своего рода “наукопоклонство”. Пародируя одну из книг ветхозаветного Пятикнижия, хлебниковские числа свергают с трона самого Бога, ставшего, подобно ковру-самолёту, ненужной гипотезой:
То, о чем говорили древние вероучения, грозили, именем возмездия, делается простой и жестокой силой этого уравнения; в его сухом языке заперто: „Мне отмщение и аз воздам” и грозный, непрощающий Иегова древних.
Ведь закон Моисея и весь Коран пожалуй укладывается в железную силу этого уравнения.
Но сколько сберегается чернил! Как отдыхает чернильница! В этом поступательный рост столетий.29
Можно с полным основанием говорить о хлебниковском “переложении” ценностей (не о переоценке, а именно о переложении): научная вера — вера во всемогущество науки — питает поэтическое творчество, помогает игре поэтического воображения. Будетлянская эстетика оплодотворена суровой этикой чисел. Поэт-пророк торжественно заявляет, что история как процесс, которому всецело подвластен человек, закончилась, отныне своим разумом и мерой (числом) он управляет ходом истории. Как ни парадоксально, поэзия нового типа рождается из уравнения, вычисления, математической формулы.
3. Прежде чем показать, каким образом новая поэтическая струя “бьёт ключом из математики”, мне хотелось бы коснуться лингвистических корней хлебниковской утопии; попытаюсь пояснить, какой смысл он вкладывает в понятие словотворчество. Текст анализируемой статьи наглядно показывает, что своё обоснование сказки как моделирующего жанра поэт-мыслитель строит на её же словаре. Налицо вопиющее противоречие: для поименования новейших достижений зарубежной техники Хлебников беспощадно отбрасывает принятую в индустриальных странах номенклатуру и обращается к архаичным пластам русского языка. Это не единичный случай. Вот одно из стихотворений, где он использует славянские неологизмы для обозначения технических реалий:
ПРОДУМА ПУТЕСТАНА
Огневицы окон
Дворца для толп,
Серый пол
Четыре точки.
Труба самоголоса,
Столы речилища,
За круглым решетом железа
Песнекрики, тенекрылья у плеч,
Алошар игрополя,
Снегополь пляски теней,
Тенебуда у входа,
Руку для теней
Протянувшая к тенеполю.
Книгощетки снегополя,
Железный самоголос
Куёт речеложи отмеренную ярость.
Око путестана
Высоким снегополем
Светит вдали.30
И. Березарк рассказывает, как обиделся Хлебников, когда Маринетти назвал его архаистом.31 На самом деле то, что неологизмы Хлебникова часто принимались за “археологизмы”, объясняется тем, что они опирались на “ARKHE” т.е. на исконное славянское начало языка, на то, что Мандельштам называет „внутренним приёмом”.32
На самом деле то, что неологизмы Хлебникова часто принимались за “археологизмы”, объясняется тем, что они опирались на “ARKHE” т.е. на исконное славянское начало языка, на то, что Мандельштам называет „внутренним приёмом”.32 Тот же ковёр-самолёт одновременно и модель вещи (летательный аппарат), и модель названия этой вещи (‘самолёт’). Во время зарождения воздухоплавания в России ещё не было русского названия летательного аппарата. По иронии судьбы, Хлебников запамятовал рождённый сказкой термин, разработав при этом громадный перечень неологизмов для замены всех до единого иноземных слов, бытовавших в профессиональной среде.33
Тот же ковёр-самолёт одновременно и модель вещи (летательный аппарат), и модель названия этой вещи (‘самолёт’). Во время зарождения воздухоплавания в России ещё не было русского названия летательного аппарата. По иронии судьбы, Хлебников запамятовал рождённый сказкой термин, разработав при этом громадный перечень неологизмов для замены всех до единого иноземных слов, бытовавших в профессиональной среде.33
Этот список озаглавлен «Образчик словоновшеств в языке».34 Особый интерес представляет взаимосвязь между вещью и её обозначением: например, взмывающий самолёт у будетлян символизирует освобождение от оков быта и предвещает грядущую победу над смертью,35
Особый интерес представляет взаимосвязь между вещью и её обозначением: например, взмывающий самолёт у будетлян символизирует освобождение от оков быта и предвещает грядущую победу над смертью,35 в то время как само слово ‘самолёт’, “воскреснув из мертвых словес” русского языка, означает победу будетлянского языка над разобщённостью времён и доказывает непреходящую ценность сказки как лингвистической парадигмы.
в то время как само слово ‘самолёт’, “воскреснув из мертвых словес” русского языка, означает победу будетлянского языка над разобщённостью времён и доказывает непреходящую ценность сказки как лингвистической парадигмы.
4. Разумеется, статью Хлебникова не назовёшь научным исследованием проблемы. Скорее, это незаконченный набросок. Впрочем, само заглавие статьи — «О пользе...» — явно свидетельствует о том, что автор ни в коей мере не интересуется эстетикой или структурой сказки как самостоятельного литературного жанра. Тем не менее, рассуждения Хлебникова о сказках и мифах (неразличимых в его понимании) удивительным образом соответствуют общей практике создания “мифа ХХ века”, мифа о “модерне”, “современности” и т.п. Впрочем, это уже предмет, достойный отдельного рассмотрения. Обрисуем в общих чертах принципы, лежащие в основе хлебниковского переосмысления мифов и сказок.
Всякий раз, когда Хлебников обращается к той или иной сказке или мифу, он пренебрегает их поучениями и назиданиями. Если Пушкин заканчивает «Сказку о Золотом Петушке» словами: „Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!”, то сказка в понимании Хлебникова напрочь лишена „урока”. Можно утверждать, что в творчестве Хлебникова миф вновь приобрёл то значение, которое он имел в философии Платона, согласно которой миф является вспомогательным средством Логоса, научно и разумно устроенной речи. Иными словами, миф-сказка иносказательно повествует о том, что нельзя сказать напрямую, без обиняков.
Вот несколько примеров подсобной роли сказки у Хлебникова. Его пьеса «Снежимочка», имеет подзаголовок «Рождественская сказка».36 Поэт переосмыслил сказку о Снегурочке: девица-ледышка у него символ “таяния”, “испарения” поэтического слова при столкновении русской деревни и современного города, детища западной цивилизации. Но растаяв, народная поэзия растеклась по книжно-каменной культуре города, напитала её. А это и есть будетлянский “наплыв” — переворот, произведенный футуристами в поэзии.
Поэт переосмыслил сказку о Снегурочке: девица-ледышка у него символ “таяния”, “испарения” поэтического слова при столкновении русской деревни и современного города, детища западной цивилизации. Но растаяв, народная поэзия растеклась по книжно-каменной культуре города, напитала её. А это и есть будетлянский “наплыв” — переворот, произведенный футуристами в поэзии.
Канва сюжета повести «Ка»37 — египетский миф о двойнике души (егип. ‘ка’), герою позволено пересекать время и в столетиях располагаться удобно, как в качалке. В «Детях Выдры»38
— египетский миф о двойнике души (егип. ‘ка’), герою позволено пересекать время и в столетиях располагаться удобно, как в качалке. В «Детях Выдры»38 космогонический миф дальневосточного племени орочей заявлен отражением извечной структуры вселенной, которая осуществляется, воплощается каждый раз в соответствии конкретному месту и времени. Дети Выдры беспрепятственно перемещаются по различным странам и эпохам, и очередная остановка во времени или пространстве составляет один парус, одно стилистическое единство. Греческий миф оживает в лирическом стихотворении «Одинокий лицедей»,39
космогонический миф дальневосточного племени орочей заявлен отражением извечной структуры вселенной, которая осуществляется, воплощается каждый раз в соответствии конкретному месту и времени. Дети Выдры беспрепятственно перемещаются по различным странам и эпохам, и очередная остановка во времени или пространстве составляет один парус, одно стилистическое единство. Греческий миф оживает в лирическом стихотворении «Одинокий лицедей»,39 по поводу чего Хлебников пишет в «Скуфье Скифа»:
по поводу чего Хлебников пишет в «Скуфье Скифа»:
В те дни я тщетно искал Ариадну и Миноса, собираясь проиграть в ХХ-ом столетии один рассказ греков. Это были последние дни моей юности, трепетавшей крылами, чтобы отлететь, вспорхнуть. Но их не было; наконец, пришло время, когда я почувствовал, что не смогу уже проиграть их.40
В начале ХХ века поэт совершает подвиг афинского царя Тезея, который освободил своих сограждан от бремени подати, взимавшейся критским царем, найдя путь в его дворец и убив чудовищного быка Минотавра. Здесь Хлебников пользуется мифом как аллегорией своего стремления открыть законы времени, дабы избавить соотечественников от бича войны. В «Скуфье скифа» содержатся и другие отсылки к древней мифологии (возможно, о борьбе лапифов и кентавров), а также упоминается “литературная сказка” «Руслан и Людмила» Пушкина. В замечательном комментарии к ней раскрыты взгляды Хлебникова на эстетическую ценность сказки как литературного жанра: Через прекрасное ‹...› можно посмотреть на будущее.41
Предание о гибели Атлантиды, заимствованное Хлебниковым из диалога «Критий» Платона, тоже своего рода каркас для мысли и чувства будетлянина. Этот миф стал поводом к поэме,42 где трагический конфликт между гипертрофированным разумом Жреца и жизнью сердца Рабыни раскрыт с полнотой, не уступающей диалогу Поэта и Русалки. Разумеется, благородный бунтарь Прометей — основа основ будетлянского мифотворчества. Хлебников не раз уподоблял себя похитителю огня богов, ибо не сомневался, что выкрал у Судьбы её секрет — закон времени. Для Хлебникова все эти мифы и сказки — не пережитки прошлого, а вневременные модели и, следовательно, не были, а будут.43
где трагический конфликт между гипертрофированным разумом Жреца и жизнью сердца Рабыни раскрыт с полнотой, не уступающей диалогу Поэта и Русалки. Разумеется, благородный бунтарь Прометей — основа основ будетлянского мифотворчества. Хлебников не раз уподоблял себя похитителю огня богов, ибо не сомневался, что выкрал у Судьбы её секрет — закон времени. Для Хлебникова все эти мифы и сказки — не пережитки прошлого, а вневременные модели и, следовательно, не были, а будут.43
Это фундаментальный аспект хлебниковского мифа. Для поэта сказка, даже если её предсказания сбылись, продолжает сохранять парадигматическое значение. Изучать сказки всегда полезно, ибо модель мира, предъявленная сказкой, есть один из способов его познания. Математика, кстати, тоже плод фантазии, творческого воображения. В аритмософических произведениях Хлебникова сказка расцветает в крайне оригинальной форме, выступая как аллегория научной истины, как поэтическое воплощение красоты уравнения. Одно только название сказочного Китеж-града — повод для очередной парономазии:
Если в известном сказании Китеж-град потонул в глухом лесном озере, то здесь из каждого пятна времени, из каждого озера времени выступал стройный многочлен троек с башнями и колокольнями, какой-то Читеж-град.44
Если некоторые теоретики литературы трактуют сказку с позиций психоанализа, как выражение глубинных слоев психики, а некоторые социологи — как отражение определённого состояния общества и нравов, то Хлебников видит в сказке донаучную модель укрощения, приручения природы, путеводительницу в поисках примирения природы и культуры. Не растворяясь в науке, сказка продолжает жить и свидетельствовать о неотъемлемых правах поэзии и о её высоком назначении. Объединяя в единое целое этику и эстетику, Хлебников неуклонно верен своим идеалам и призванию. Мне хотелось бы заключить эту статью его замечательными словами, произнесенными в защиту прав и достоинства поэта и поэзии:
Искусство обычно владеет желанием в науке власти. Я желаю взять вещь раньше, чем беру её. Он говорил, что искусство должно равняться по науке и технике, ремеслу с большой буквы. Но разве не был за тысячелетия до воздухоплавания сказочный ковёр-самолёт? Грека Дедала за два тысячелетия? Капитан Немо плавал под водой в романе Жюль Верна за полстолетия до мощной немцев битвы при ‹
неразб.›
островах.
Открытие машины времени Уэльсом.
Так ли художник должен стоять на запятках у науки, быта, события, а где ему место для предвидения, пророчества, предволи?45
————————
Примечания
Автор приносит глубокую благодарность Я. Зинбергу за неоценимую помощь, оказанную во время исправления русского текста.
 1
1 Доклад на собрании в честь столетия со дня рождения В.В. Хлебникова в Центре славяноведения при Университете Хоккайдо 21 октября 1985 г. (
Прим. ред.)
 2 В. Хлебников
2 В. Хлебников. СП, т. 5, стр. 350. В дальнейшем все ссылки, касающиеся произведений В. Хлебникова, указывают на Собрание Произведений Велимира Хлебникова (СП), изданное Ю. Тыняновым и Н. Степановым в 1928–1933 гг.
 3 В.Я. Пропп
3 В.Я. Пропп. Русская сказка.
Л. 1984, стр. 189–191.
 4 А.Н. Афанасьев
4 А.Н. Афанасьев. Народные русские сказки.
М. 1957, тт. 1–3.
 5 R. Vroon
5 R. Vroon. Velimir Xlebnikov’s Shorter Poems. A Key to the Coinages.
Ann Arbor: University of Michigan Press. 1983, p. 14.
 6 В. Хлебников
6 В. Хлебников. О стихах. СП., т. 5, стр. 226.
 7 В. Хлебников
7 В. Хлебников. О современной поэзии. СП., т. 5, стр. 222.
 8 В. Хлебников
8 В. Хлебников. Отрывок из Досок Судьбы. Собрание Произведений.
Мюнхен, 1972, т. 3. стр. 473.
 9 В. Хлебников
9 В. Хлебников. Свояси. СП., т. 2, стр. 8.
 10 В. Pascal
10 В. Pascal. Penseés et opuscules.
Paris: Hachette. 1967, p. 621
 11 В. Хлебников
11 В. Хлебников. Письмо родным. СП., т. 5, стр. 304.
 12 Е.В. Померанцева
12 Е.В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском фольклоре.
М. 1975, стр. 81.
 13 В. Хлебников
13 В. Хлебников. Поэт. СП., т. 1, стр. 156–157.
 14 P. Stobbe
14 P. Stobbe. Utopisches Denken bei V. Khlebnikov.
Slavistishe Beiträge, Bd. 161, München. 1982, p. 139.
 15 В. Хлебников
15 В. Хлебников. Кол из будущего. СП., т. 4, стр. 275–314.
 16
16 Там же, стр. 278–279.
 17 В. Хлебников
17 В. Хлебников. Журавль. СП., т. 1, стр. 76–82.
 18 В. Хлебников
18 В. Хлебников. Маркиза Дезэс. Неизданные Произведения.
М. 1940, стр. 76–88.
 19 В. Хлебников
19 В. Хлебников. Мирсконца. СП, т. 4, стр. 239–245.
 20 В. Хлебников
20 В. Хлебников. Мы и дома. СП. т. 4, стр. 286.
 21 В. Хлебников
21 В. Хлебников. Радио будущего. СП., стр. 290.
 22
22 См. статью «Аль Даджджаль» в Энциклопедии Ислама (на франц. яз.).
Лейден–Париж. 1977, стр. 77–78.
 23
23 См. Второе послание к Фессалоникийцам апостола Павла, 2, 1–13, и Откровение Иоанна Богослова, гл. 13.
 24
24 См.
M. Zimmer. Philosophy of India.
Princeton University Press, Bollingen Series XXVI, 1974, pp. 127–139.
 25
25 См.
В. Хлебников. Художники мира. СП, т. 5, стр. 216–221.
 26
26 См.
В. Хлебников. Труба Марсиан. СП., т. 5, стр. 151–154; Воззвание Председателей Земного Шара. Там же, стр. 162–164; Всем, всем, всем! Там же, стр. 164–165.
 27 В. Хлебников
27 В. Хлебников. Отрывок из Досок Судьбы. Собрание Сочинений (Мюнхен 1972) т. 3 стр. 472–473
 28 В. Хлебников
28 В. Хлебников. Поединок с Хаммураби. Там же, стр. 460.
 29 В. Хлебников
29 В. Хлебников. Отрывок из Досок Судьбы. Там же, стр. 474–475.
 30 В. Хлебников
30 В. Хлебников. Продума Путестана. СП., т. 5, стр. 71–72.
 31 И. Березарк
31 И. Березарк. Встречи с В. Хлебниковым.
Звезда, №12, 1965, стр. 175.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 32 О. Мандельштам
32 О. Мандельштам. Буря и натиск. Собрание Сочинений.
Международное Литературное Содружество, Нью-Иорк. 1971, т. 2, стр. 340.
электронная версия указанной работы на www.ka2.ru 33
33 См.
Л.З. Маркович, В.Ф. Найденов. Воздухоплавание — его прошлое и настоящее.
Спб. 1911.
 34 В. Хлебников
34 В. Хлебников. Образчик словоновшеств в языке. СП., т. 5, стр. 253–255.
 35 В. Хлебников
35 В. Хлебников. Письмо М.В. Матюшину. Неизданные Произведения.
М. 1940, стр. 365.
 36 В. Хлебников
36 В. Хлебников. Снежимочка. Неизданные Произведения.
М. 1940, стр. 64–75.
 37 В. Хлебников
37 В. Хлебников. Ка. СП., т. 4. стр. 47–69.
 38 В. Хлебников
38 В. Хлебников. Дети Выдры. СП., т. 2, стр. 142–179.
 39 В. Хлебников
39 В. Хлебников. Одинокий лицедей. СП., т. 3, стр. 307.
 40 В. Хлебников
40 В. Хлебников. Скуфья Скифа. (Ошибочный вариант заглавия в издании CП: Ка
2 ). СП., т. 5, стр. 128–129.
 41
41 Там же, стр. 134.
 42 В. Хлебников
42 В. Хлебников. Гибель Атлантиды. СП., т. 1, стр. 94–103.
 43 В. Хлебников
43 В. Хлебников. Мы и дома. СП., т. 4, стр. 286.
 44 В. Хлебников
44 В. Хлебников. Отрывок из Досок Судьбы. СП, т. 3, стр. 473–474.
 45 В. Хлебников
45 В. Хлебников. Из записных книжек. СП., т. 5, стр. 275.
Воспроизведено с незначительной стилистической правкой по:
Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers.
Acta Slavica Iaponica: Sapporo. 1986. IV: 115–131
eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/7956/1/KJ00000034109.pdf
Благодарим Ж.-Ф. Жаккара за содействие переизданию статьи
Изображение заимствовано:
И.Я. Билибин (1876–1942). Кащей Бессмертный. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна».


![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()